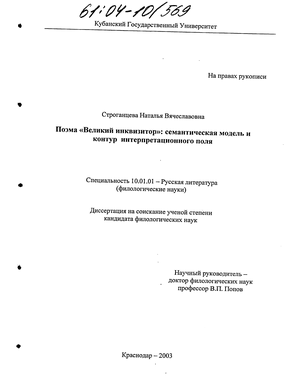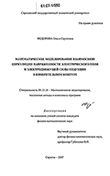Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Архитектоника поэмы 23
1.1. Жанровое наименование как коммуникативная стратегия 23
1.2. Символика имени и заглавия 37
1.3. Композиция поэмы: 43
1.3.1. экспозиция: комплекс оппозиций 43
1.3.2. реприза: молчание как художественный прием 50
1.3.3. диалогическое слово в поэме: монолог инквизитора в контексте мифа об Антихристе 56
Глава 2. Семантическая модель 66
2.1. Поэма как текст в тексте 67
2.2. Система повествовательных уровней. 75
2.3. Поэма «Великий инквизитор» в контексте творчества Достоевского...90
Глава 3. Контур интерпретационного поля 104
3.1. Философы — интерпретаторы: парадоксы восприятия и диалог интерпретаций 105
3.2. Поэма «Великий инквизитор» в интерпретациях критиков и литературоведов 122
3.3. Интертекстуальность как форма интерпретациии 139
Заключение 160
Библиография ...167
- Жанровое наименование как коммуникативная стратегия
- Символика имени и заглавия
- Поэма как текст в тексте
- Философы — интерпретаторы: парадоксы восприятия и диалог интерпретаций
Введение к работе
О Достоевском написано немало — изучение его творчества к началу XXI века превратилось в особую отрасль знания: исследуются общие вопросы творчества и отдельные произведения; осмысляются частные мотивы и структурные модели романов; в поле зрения ученых - философские, религиозные, мифологические, эстетические аспекты проблемы. Постепенное движение от философско-публицистических реакций к более объективным исследовательским подходам породило достаточно богатый спектр принятых трактовок поэмы «Великий инквизитор».
Именно широта диапазона, множественность интерпретаций произведений Достоевского, в частности, поэмы «Великий инквизитор», послужила стимулом настоящего исследования. Р. Бэлнеп говорил, что, если воздействие романа порождает сумбур, а его творческая история частично недоступна, единственное, что остается - изучать текст сам по себе, получив таким образом возможность, по крайней мере временно, перейти от вопроса «что говорит Достоевский?» к вопросу:: «как он это делает?»1.
Актуальность темы обусловлена необходимостью интерпретации поэтики Достоевского в плане демифологизации стереотипных представлений
0 творчестве писателя. Исследователи, обращаясь к анализу поэмы, затрагивали проблемы преимущественно религиозного, социально-политического и идеологического характера и практически полностью игнорировали аспекты собственно художественные. Восприятие поэмы существенно «искривлялось» идеологической позицией интерпретаторов. Критиков, за редким исключением (М. Бабович, Н.К. Савченко, В.Е. Ветловская, М.Я. Ермакова), практически не интересовали используемые автором приемы композиции, специфика повествовательной манеры, жанровые особенности, функция многочисленных символических образов и мотивов поэмы. Именно очер ченный диапазон интерпретаций поэмы побудил исследователя вспомнить о том, что романы Достоевского написаны «не идеями, а буквами», и внимательно «прочесть» поэму - не как клишированную эмблему, а как «сгущенный» роман, модель, где каждый семантический ход, конструктивное решение и художественная деталь требуют осмысления в свете единой художественной картины мира автора. С необходимостью подобного анализа связано применение новых подходов к анализу текста поэмы, позволяющих, с одной стороны, обнаружить комплексы смыслов, не выявленных прежде, а с другой - осмыслить произведение в его целостности. С популярных внешних объектов поэмы «Великий инквизитор» - идеологического контекста, истории создания, религиозных пресуппозиций и т.п. — акцент переносится на внутреннюю организацию текста и высвечивание авторской «точки зрения», что является весьма актуальным, учитывая «полифонию» текста Достоевско-, го. Такой анализ текста поэмы, позволяет уточнить рубеж между творчеством писателя и сотворчеством его читателей и исследователей.
Идея М.М. Бахтина о вакантности места автора, стоящего над героями подвергалась концептуальной критике многих исследователей — В.Е. Вет-ловской, А.К. Жолковского, В. Шмида2. Причем «полифония» представляется конститутивной для формы его романов — в полном соответствии с теори ей М.М. Бахтина. Спорным оказывается вопрос лишь о высшей авторской инстанции, реализации «имплицитного» автора.
«Полифония» - формообразующий принцип на уровне дискурсов3 героев. И в этой форме голос автора не отличается от голосов героев, т.к. автор находится с героями в равных «диалогических» правах. Но смысл романного целого интенционален - высшая инстанция автора конституируется композицией, сюжетом - стилем. С одной стороны, автор всегда выступает в роли творца художественного мира, в котором «персонажи ходят под ним, как под Богом». С другой — автор одновременно сознает свою неизбежную человеческую ограниченность, что подталкивает его к расщепленности, где слово-дискурс как бы распределено между различными дискурсивными инстанциями. Эти инстанции множественное авторское «я» способно заполнить одновременно. Особенность Достоевского в том, что он способен понять и принять другую точку зрения, не поступившись своей.
Научная новизна исследования заключается в разработке и применении при анализе поэмы «Великий инквизитор» комплексного подхода к рассмотрению произведения как архитектонического целого, имеющего определенную семантическую доминанту, единую смысловую интенцию и заключающего в себе собственную реальность. Верификация данной интерпретации основывается на презумпции непротиворечивого, входящего в границы единого смыслового поля, словоупотребления в различных контек Учитывая неоднозначность и отсутствие общепринятой дефиниции термина «дискурс», приведем два «рабочих» определения, используемых в настоящей работе: «тип прагматической текстовой структуры, построенной по конкретным специфическим правилам организации» (Словарь современных литературоведческих терминов и понятий // Русская литература XX века: Школы, направления, методы творческой работы. СПб., 2002). «логос, обнаруживающий способность превращаться в картинку, могущий отвердевать в абстракцию арматуры, образуя каркас. Сами слова и буквы забудутся,а он — останется» (Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М, 2001. С. 140). стах. В контексте данного исследования интерпретация представляет собой семантическую активизацию текста, а литературоведческий анализ - объективированный поиск тех формальных условий, которые делают возможной эту активизацию.
Объектом исследования является собственно художественное творчество Достоевского. Предметом - поэма «Великий инквизитор» как художественное целое в контексте романа «Братья Карамазовы», в контексте всего корпуса произведений писателя, в контексте значительного диапазона интерпретаций.
В тексте, где нет автора, а действуют герои-интенции автора, об авторской позиции «проговаривается» структура и стратегия текста. Читатель встречается в тексте с идеями того или иного героя, но они не принадлежат реальному автору. Автору принадлежит желание создать такой тип текста, который затягивает читателя в «дискурсивную» воронку. Цель диссертационной работы заключается в описании «имплицитного» автора как многоуровневой повествовательной инстанции, нарратив которого объективируется всей структурой произведения и направляет читателя в «русло» возможных адекватных интерпретаций.
Поставленная цель определила ряд конкретных задач диссертации:
? выявить своеобразие поэтики имени, жанровой стратегии, композиции, архетипики поэмы; рассмотреть ключевые символы и мотивы, значимые в структуре поэмы под углом зрения современных литературоведческих аналитических практик; представить развернутый анализ текста поэмы «Великий инквизитор», построив нарративную модель поэмы и выявив систему повествовательных уровней;
? исследовать специфику дискурса «имплицитного» автора и «механизмы» авторской власти, иными словами - анализ авторства как функции;
представить обзор широкого спектра интерпретаций поэмы, разнообразных по своей концептуальное™ и историко-литературной значимости, составляющих своеобразный полилог о писателе и его произведении. Подобно тому, как авторские комментарии Ивана Карамазова провоцируют в слушателе Алеше многообразные реакции — обескураживают его, приводят в замешательство, побуждают к сопротивлению и возражению, зачастую вскрывая множество неожиданных сторон процесса повествования, которые без этих «указаний» не были бы восприняты, - так и авторская воля Достоевского наделяет повествование меняющимися «точками зрения», открывая пространство интерпретации.
Определяя жанр «Великого инквизитора» как поэму, наделяя Христа молчанием, «имплицитный» автор обнаруживает себя — то есть, тот стержень, который удерживает семантическую целостность произведения, противостоя релятивности и произволу множественности толкований. Воздерживаясь от однозначной авторской оценки событий, не предлагая обязательных оценок происходящего, Достоевский оставляет «точку зрения» автора «пустой», допуская ряд вариантов ее заполнения. Но, в то же время, предоставляя возможность для оценки, он заботится о том, чтобы «голос» автора не озвучивался толкователем произвольно, корректируя, направляя мысль читателя. Речь идет не только о «пустых местах» (термин В. Изера)4 текста поэмы — приеме «текст в тексте» и молчании Христа, делающих «заявку» на интерпретацию, допускающую возможность выбора. Речь идет о явных и скрытых сигналах «имплицитного» автора, посредством которых читатель предрасполагается к определенному образу восприятия, а именно - о жанровом наименовании, заглавии, символике имен, инвариантных мотивах и коммуникативной стратегии текста поэмы.
Методологическую основу диссертационного исследования составили теоретические положения, сформулированные в трудах М.М. Бахтина, М.Л. Гаспарова, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Е.М. Мелетинского, Ю.К. Щеглова, А.К. Жолковского и других исследователей. Многоаспектный комплекс исследовательских проблем настоящей работы предполагает синтез аналитических парадигм - достижений структурно-семиотической поэтики, нар-ратологии, современных архетипических и интертекстуальных исследований в области литературы5.
Теоретическая направленность работы находится в русле основных течений современной литературоведческой мысли, сохраняя преемственность с традиционными представлениями и понятиями. Если использовать один термин, то подход к изучению обозначенной проблемы может быть назван аналитическим.
В анализе, нацеленном на выявление авторского нарратива в поэме, аналитический инструментарий составляет обращение к интертекстам, архети пам, символам, инвариантам. Эвристической подоплекой такого анализа было стремление понять любыми доступными средствами - что хотел сказать своим произведением автор, а в нашем случае — «где же голос автора в тексте Достоевского»?
Проблема автора6 является сегодня одной из интереснейших — и не только для литературоведения, но и для всех гуманитарных наук, имеющих дело с текстом. Она состоит не только в различных видах, разновидностях и формах авторства, которыми так богата современная литература, не только в разнообразных способах повествовательной идентичности. Парадокс проблемы автора в том, что автор-человек, эмпирический, живой автор в произведении не присутствует, а присутствует «образ автора» либо «авторская маска»7.
6 Критика категории авторства развивалась в русле общего недоверия к автору с 1940-х годов. Наиболее влиятельная критика авторства была произнесена под лозунгом «смерти автора» во французском постструктурализме. Ю. Кристева «заменила» автора как порождающий принцип произведения представлением самодействующего текста, порождающегося в пересечении чужих текстов. Затем, Р. Барт провозгласил «смерть автора» и ограничил его функцией «связи стилей», т.к., по Барту, в художественном произведении говорит не автор, а язык, текст, организованный в соответствии с правилами культурных кодов своего времени. Идея авторства была окончательно дискредитирована М. Фуко.
7 Термин «авторская маска» связывают, в первую очередь, с литературой постмодернизма. Часто писатели-постмодернисты расширяют пространство произведения за счет мета- текста - коннотаций, добавляемых читателем к прямому текстуальному смыслу, т.е. прямому денотативному значению слов в тексте. В литературе постмодернизма автор посягает на эту читательскую прерогативу, вводя «металитературный комментарий» в повествование и тем самым, навязывая читателю (часто иронически) свою интерпретацию. «Автор» как действующее лицо постмодернисткого романа выступает в специфической роли своеобразного «трикстера», высмеивающего не только и не столько условности классической, а гораздо чаще - массовой литературы с ее шаблонами, банальностями и общими местами. Автор как действующее лицо издевается над ожиданиями читателя, над его «наивностью», над стереотипами его литературного и практически-жизненного мышления.
Разнообразие терминов, стремящихся зафиксировать авторское «Я» в художественном тексте (нарратор, имперсональный нарратор, актор, ауктор, «эксплицитный» автор, «имплицитный» автор, авторская маска), обнаруживает проблемное поле, не сводимое только к вопросам повествовательной техники или художественной риторики. Одна из проблем теории и философии литературы - исследование различных модусов и модальностей субъекта дискурса как субъекта, а не только предмета эстетической и этической объективации.
Какие формы и виды может принимать авторство в литературе? Или, другими словами, какова функция различных повествовательных инстанций в тексте?
В современном литературоведении различают три ипостаси авторства в художественном тексте:
реальный (конкретный, исторический, эмпирический, биографи- ческий, производитель речи) автор-писатель;
имплицитный («образ автора» (Виноградов), «вненаходимый» (Бахтин), «художественный», «концепированный» (Корман), «подразумеваемый» или «автор как представление» (Женетт), «абстрактный субъект» (Мукаржовский), «субъект произведения» (Червенка), «абстрактный» (Шмид), имплицитный (Бут), «автор- творец» (Тамарченко)) автор8;
эксплицитный (повествователь, рассказчик, нарратор, субъект повествования) автор.
Если понятия реального и «эксплицитного» авторов в литературоведении относительно устойчивы и закреплены в специальных словарях и учебниках, то категория «имплицитного» автора - предмет постоянных литературоведческих дискуссий. Терминологическая неопределенность, связанная с проблематикой «имплицитного» автора, объясняется амбивалентностью и многомерностью авторского присутствия в тексте. «Имплицитный автор», «абстрактный автор», «образ автора», «концепированный автор» — разные термины для обозначения одного и того же, попытки как можно более точно фиксировать формы, в которых авторская субъективность является самоидентичной, самотождественной и, соответственно, может распознаваться агентом аналитической и интерпретационной деятельности.
Имплицитный автор — повествовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика и воссоздаваемая читателем как подразумеваемый «образ автора». В современной литературе образ автора приобретает необычайную многоплановость и становится особым предметом эстетического изображения. В.А. Лукин отмечает, что «образ автора неизбежно и объективно присутствует в художественном тексте вне зависимости от воли автора» [Лукин, 157].
Термин «имплицитный» автор приобретает релевантность только в паре «автор - читатель». Образ автора, естественно, создается в произведении речевыми средствами, поскольку без словесной формы нет и самого произведения, однако этот образ творится читателем. Он находится в области восприятия, восприятия, с одной стороны, заданного автором, с другой - субъ является как результат диалога или даже полилога между читателем, автором и текстом. И за этого порогового, призрачного и постоянно меняющегося автора, автор эмпирический уже не в ответе (Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / Пер. с англ. А. Глебовской. СПб., 2002). ективного прочтения читателем. Именно потому, что образ автора возникает на стыке материального выражения в произведении и «угадывания» читателем, возникают трудности в точности определения этого понятия. Создавая образ автора, реальный, биографический- автор вступает в пространство ме-татекста. Он не рядоположен своим героям, а находится над ними как их творец, комментатор и судья. Он уже не персонаж, один среди многих, а некое самоотраженное «Я», которое может быть воспринято и оценено только читателем. Образ автора находится одновременно и в тексте и над текстом. Он не может сам себя оценить так же, как он оценивает своих героев. Нужен Другой для того, чтобы оценить не только творение, но и творца. Образ автора адресован читателю и только читателем может быть конституирован в этом своем качестве.
Ведущие исследователи этой проблемы определяют суть понятия «имплицитного», «художественного» автора следующим образом:
- В.В. Виноградов: «Образ автора — это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это — концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно- стилистическим средоточием, фокусом целого» [Виноградов, 118];
- М.М. Бахтин: «Внутри произведения для читателя автор - совокупность творческих принципов, долженствующими быть осуществленными, единство трансгредиентных моментов видения, активно относимых к герою и его миру. Его индивидуация как человека есть уже вторичный творческий акт читателя, критика, историка, независимый от автора как активного принципа видения, - акт, делающий его самого пассивным»9; - Б.О. Корман: «Соотношение автора биографического и автора-субъекта сознания, выражением которого является произведение в принципе такое же,
как соотношение жизненного материала и художественного произведения вообще: руководствуясь некоей концепцией действительности и исходя из определенных нормативных и познавательных установок, реальный, биографический автор (писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора художественного (концепированно-го). Инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, все литературное произведение» [Корман 1992, 174];
- М.М. Гиршман: « ... стиль выступает как «свое другое» по отношению к понятию «автор» и может быть определен как наиболее непосредственное, зримое и осязаемое выражение авторского присутствия в каждом элементе, как материально воплощенный и творчески постигаемый след авторской активности, образующей и организующей художественное целое» [Гиршман, 75].
- В. Шмид: «абстрактный автор — конструкт, создаваемый читателем на основе осмысления им произведения ... Абстрактного автора можно определить с двух сторон, в двух аспектах - во-первых, в аспекте произведения, во-вторых, в аспекте внетекстового, конкретного автора. В первом аспекте абстрактный автор является олицетворением конструктивного принципа произведения. Во втором аспекте он предстает как след конкретного автора в произведении, как его внутритекстовый представитель» [Шмид, 54-55];
Н.Д. Тамарченко: «Автор-творец — «эстетически деятельный субъект» (М.М. Бахтин), создатель художественного произведения как целого. Сущность автора-творца и его функции во многом определяются его «вненахо-димостью» по отношению, как к «внутреннему миру» художественного произведения, так и к той действительности (природной, бытовой, исторической), которую этот вымышленный мир воспроизводит. В этом отношении автор-творец противопоставлен в первую очередь герою. В то же время, будучи источником единства эстетической реальности, инстанцией, ответственной за целостный смысл художественного высказывания или же «носите лем концепции всего произведения» (Б.О. Корман), автор-творец должен
быть отграничен, с одной стороны, от писателя как исторического и частного лица; с другой - от различных «изображающих субъектов» внутри произведения» [Тамарченко, 68]. В настоящем исследовании «имплицитный» автор мыслится как:
семантическая величина текста, семантический центр произведения, но конструктивный признак текста ,
обозначая не структурное, а семантическое явление, не является уча стником коммуникации, но конституируется в акте чтения («образ автора» как читательская интерпретация «имплицитного» автора)10;
автор, содержащийся во всем тексте, а не только в отдельных сентенциях избранных персонажей.
Наиболее последовательно концепция имплицитного автора была разработана в 60-х годах американским критиком У. Бутом. Бут вводит понятие «имплицитный автор» (наряду с ним он использует терминологический пе рифраз «авторское второе я») в качестве наиболее универсальной категории авторского присутствия в тексте. «Alter ego» более субстанционально, чем любая человеческая индивидуальность, оно более раскованно, в то время как за ним маячит довольное своей выдумкой настоящее биографическое «Я» писателя, надежно защищенное от соглядатаев и критиков. Именно этот «имплицитный автор» живет на страницах его книг и в памяти читателя, который может ничего не знать о реальном авторе. Создавая произведение, пи сатель, по мысли Бута, попутно творит «имплицированную версию самого себя», которая может получать у разных писателей разную степень актуализации и персонификации [Ильин, 46-48].
В отличие от «эксплицитного» автора, повествователя или рассказчика, который является образом создаваемого художественного мира, «им 10 «Абстрактный автор реален, но не конкретен. Он существует в произведении не экс- плицитно, а только имплицитно, виртуально, на основе творческих следов-симптомов, и нуждается в конкретизации со стороны читателя» [Шмид, 53]. Ц, плицтный» автор существует как бы «на границе», «в промежутке» между реальным автором и текстом и актуализируется. Эксплицитного автора в произведении может не быть, тогда как «имплицитный» автор присутствует всегда, но имеет различную степень персонификации. Термин «имплицитный автор» очерчивает поле для выражения субъекта целостного дискурса в различной степени его актуализации и различной степени «родства» с биографическим автором.
Щ) Эксплицитный автор, или рассказчик11, как он традиционно называется в
литературоведении, принадлежит миру художественного вымысла и выступает как персонаж данного художественного текста, ведущий повествование от своего лица12. «Эксплицитный» автор, занимая промежуточное положение между автором и рассказанной историей, как бы повышает кредит доверия к вымыслу, являясь дополнительным гарантом того, что так было и так произошло, то есть создает дополнительную иллюзию реальности. «Эксплицит « ный» автор создается реальным эмпирическим автором и выступает по от ношению к этому автору в таком же отношении, что и любой другой вымышленный персонаж. Вступает ли «эксплицитный» автор в монологические или диалогические отношения со своими героями, он находится с ними в одной плоскости текстуальной стратегии.
Другими словами, реальный, «эксплицитный» и «имплицитный» авторы не должны смешиваться в теории, поскольку в художественной практике они жестко разделены по своим структурным и функциональным особенностям. Недифференцированное восприятие биографического, «имплицитно го» и «эксплицитного» авторов ведут к деформации «образа автора» и неадекватным интерпретациям.
Все более растущий корпус исследовательских статей, глав в книгах, упоминаний о великом инквизиторе и удивительная полярность интерпретаций сделали актуальным построение интерпретационного поля поэмы, цель которого - обозначить диапазон толкований смыслового ядра, составляющего первооснову художественного текста.
Сопоставляя трансформации текста через его интерпретации в разные периоды времени, мы можем обнаружить те вопросы, на которые эти интерпретации послужили ответом. «Критика отвечает на вопросы, заданные произведением, литературоведение восстанавливает вопросы, на которые отвечало произведение» [Гаспаров М.Л., 248].
Задача исследователя при абрисе контура интерпретационного поля состоит в том, чтобы обозначить полемическую перспективу поэмы по отношению к философской / литературоведческой интерпретации, собрав массу основных интерпретаций, показав полилог толкований, «паутину» спектра толкований и широту диапазона прочтений. Для обеспечения целостности исследования за рамками работы оставлены такие вопросы, как анализ интерпретационного контекста и культурных прессупозиции толкователей и вопрос об адекватности той или иной интерпретации. Задача исследователя состоит не в том, чтобы «уличить» Розанова, видящего под маской инквизитора самого Достоевского и называвшего поэму «легендой», в некорректности по отношению к тесту поэмы — текст Розанова интересен сам по себе, а поэма - для него лишь повод для философских самоопределений. Критика — это творчество, а филология - это исследование13. Цель творчества - преобразовать свой объект, цель исследования - оставить его неприкасаемым.
Учитывая отсутствие общепринятой научной концепции теории интер претации, дающей академическое определение критериев адекватной интерпретации, места авторского толкования в диапазоне интерпретаций, собственно понятия «интерпретационное поле», необходим краткий обзор теоретических основ настоящего исследования в области теории интерпретации.
Одной из центральных проблем теории интерпретации является проблема адекватности интерпретации, возникающая из факта множественности и разноплановости, вплоть до взаимоисключаемости, прочтений. Как можно определить и доказать адекватность или неадекватность той или иной интерпретации? Сколько вообще может быть разных, но тем не менее адекватных интерпретаций одного и того же текста и как они между собой соотносятся? Как должны соотноситься между собой авторский замысел и право интерпретатора? В зависимости от ответов на эти вопросы меняется понимание интерпретационной деятельности, критерии адекватной интерпретации, границы возможностей интерпретатора в системе литературоведения.
Полярные позиции в данном аспекте теории интерпретации занимают концепции А.А. Потебни и А.П. Скафтымова. В своей теории Потебня исходил из того, что понимание художественного произведения есть не постижение чужой идеи, а генерирование своей, лишь приблизительно соотносящей- , ся с тем, что было воспринято. Число смыслов произведения оказывается у
Потебни бесконечным, а само произведение - неисчерпаемым: «Как слово своим представлением побуждает понимающего создавать свое значение, определяя только направление этого творчества, так поэтический образ в каждом отдельном случае понимания вновь и вновь создает себе значение... Кто разъясняет идеи, тот предлагает свое собственное научное или поэтиче ское произведение» [Потебня, 331]. Последователь Потебни А.Г. Горнфельд отмечал: «Понимать значит вкладывать свой смысл» [Горнфельд, 15]. Интересно, что здесь позиция Потебни смыкается с постмодернистической концепцией интерпретации, где понимание текста — это наполнение его смыслом, вне постановки вопроса об адекватности, т.е. соответствии некоему сходному, «истинному» значению. Понимание текста как децентрированно-го смыслового поля снимает возможность интерпретации как реконструкции в опыте толкователя смысла текста, адекватного авторскому замыслу или объективным параметрам структуры текста.
Теория множественности интерпретаций была подвергнута концептуальной критике А.П. Скафтымовым, утверждающим возможность адекватно постичь художественное произведение, его смысл. «Изменчивость интерпретации свидетельствует о различной степени совершенства постижения, но нисколько не узаконивает всякое постижение, каково бы оно ни было. Признать законность произвола в понимании художественных произведений значило бы уничтожить их фактичность перед наукой. Всякая наука вместо знания о фактах должна была бы превратиться в перечень мнений о фактах. Нужна ли такая наука?» [Скафтымов, 176]. Система взглядов на интерпретацию Скафтымова логически приводит к мысли о единственно правильной интерпретации, которая стоит перед литературоведением как идеал и как задача.
В.Е. Хализев, с одной стороны, полагая идеи Скафтымова «излишне резкими», с другой — указывая на неполноценность субъективистского подхода в теории интерпретации, выдвигает идею диапазона достоверных интерпретаций одного и того же произведения. «Это понятие позволяет отказаться и от шеллинговско-потебнианской крайности провозглашения Бесконечной множественности» художественных смыслов, привносимых в произведение читателями, и от догматически-одностороннего убеждения в однозначности, статичности и неизменности содержания произведения, могущего быть исчерпанным его единичной научной трактовкой» [Хализев, 8].
Теория диапазона допустимых интерпретации во многом строится на идее активно-диалогического понимания произведения М.М. Бахтина. Диалогическая активность, по Бахтину, предполагает не абстрактно-научное описание текста как деперсонализованной и формализованной конструкции, а личностную духовную встречу автора и интерпретатора. Исходя из этого, цель интерпретации состоит не в том, чтобы все более и более приближаться к некоему идеальному, единственно адекватному прочтению-пониманию, а в достижении особой гуманитарной точности: «это преодоление чуждости чужого без превращения его в чистое свое ... Точные науки - это монологическая форма знания; интеллект созерцает вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъект - познающий (созерцающий) и говорящий (высказывающийся). Ему противостоит только безгласная вещь ... Но субъект (личность) как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо, как субъект, он не может, оставаясь субъектом, быть безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим» [Бахтин 1975, 205].
Что же является критерием адекватности интерпретации! Что обусловливает определенность смысла художественного текста, несмотря на множественность, вариативность его прочтений? Ю.Б. Борев полагает, что «жизненный опыт автора, запечатленный в произведении, создает устойчивую инвариантную программу переживаний и смыслообретений реципиента. При всей вариативности прочтения оно всегда тяготеет к определенному стержню, к определенному, хотя и способному к расширению, руслу. Поэтому вариативность интерпретаций не делает смысл произведения расплывчатым» [Борев, 525].
В.Э.Д. Хирш, один из крупных представителей современной литературной герменевтики, считает, что все созданные интерпретации должны быть соотнесены с авторским замыслом. «Авторское намерение является «центром», «оригинальным ядром», которое организует единую систему значения произведения в парадигме многочисленных его интерпретаций» [Ильин, 189]. «Принцип авторской авторитетности» Хирш вводит как основу, благодаря которой можно судить об адекватности или неадекватности интерпретации. «Адекватная интерпретация художественного текста, даже если его филологический анализ не выходит за пределы текстовой данности, не может не учитывать авторскую позицию, или авторскую модальность, так или иначе выраженную в произведении» [Николина 2003, 167].
Герменевтика XIX века стремилась сделать авторские интенции прозрачными. Лозунг Дильтея, который он разделял со Шлейермахером — «понимать автора лучше, чем он себя понимал» — свидетельствует не только об определенной установке, но об идеале, пути и горизонте всякого герменевтического исследования. Биография автора, его дневники, письма, интервью на протяжении двух последних столетий находятся в фокусе постоянного внимания критиков и литературоведов и часто оказываются решающими аргументами в споре и «конфликте интерпретаций». Каждая новая страница жизни автора, неизвестный штрих биографии рассматриваются как ключи к осмыслению и пониманию его произведений. Внимание к автору являлось, и все еще является столь пристальным потому, что объяснение произведения ищут в создавшем его человеке.
Говоря об «авторском намерении» и «жизненном опыте автора, запечатленном в произведении» в настоящем исследовании подразумевается не авторская интерпретация своего произведения (большинство литературоведов не считают ее общеобязательной и единственно правильной)14 и не автор как
Один из важных вопросов теории интерпретации: является ли авторское толкование собственного произведения единственно правильным и не следует ли интерпретатору, в случае наличия авторской интерпретации, свести анализ произведения к выявлению предложенного автором смысла? В.А. Лукин, Ю.Б. Борев, В.Е. Хализев полагают, что, хотя авторская интерпретация важна и существенна, она не может считаться общеобязательной и единственно правильной: «Когда произведение опубликовано, авторское толкование не более ценно, нежели любое прочтение» [Валери П. Об искусстве. М, 1993. С.119] реальный человек с его сознательными и бессознательными намерениями, а «образ автора», «имплицитный» автор. Имплицитный автор — правящее текстом сознание, «производитель» значений текста в «техническом» и «идеологическом» смысле. Образ автора - результат тех же значений текста в аспекте рецепции - семантической деятельности читателя. Имплицитный автор поставлен перед текстом, образ автора — за текстом. Они моделируют не две различные инстанции, а лишь смену точки зрения наблюдателя [Шмид, 50-53].
В третьей главе настоящей работы - «Контур интерпретационного поля» - в качестве ключевой дефиниции используется определение интерпретации В.Е. Хализева: « в соответствии с привычными для нашего литературоведения установками мы назовем интерпретацией любое рассмотрение произведения (не только имманентное, но и учитывающее миропонимание автора и социально-культурный контекст его творчества; не только интуитивно-целостное, но и аналитически-доказующее), которое включает в себя толкование его содержания, идеи, смысла» [Хализев 1980, 51].
Литературоведческая интерпретация - семиотическая, критическая - в идеале - нацелена на описание и объяснение того, на каких формальных основаниях данный текст порождает данный ответ. « Литературоведческая интерпретация - это (в оптимальном варианте) познание беспристрастное и нетенденциозное .. . Она являет собою диалог, всецело ориентированный на неповторимо-своеобразный «голос» автора. Литературовед - интерпретатор выполняет свою задачу тем вернее, чем решительнее отказывается от эффектов самодемонстрирования и чем полнее отдает себя во власть постигаемого им искусства» [Хализев 1980, 69].
Философская интерпретация - семантическая, философ наполняет текст некоторым значением, т.е. философы скорее используют текст, нежели интерпретируют его. Интерпретационное сотворчество должно быть введено в строгие рамки: такие-то варианты интерпретаций допускаются текстом, а такие-то - от лукавого, они отсекаются фильтром анализа текста.
В настоящем исследовании интерпретация мыслится как семантическая активизация поэмы, а литературоведческий анализ как объективированный анализ тех формальных условий, которые делают возможной эту активизацию.
Основной интерес работы состоит в смене акцентов, в попытках пробиться к смыслу текста сквозь прикрывающие его символические оболочки и напластования многочисленных толкований, пусть не до конца, но, во всяком случае, насколько это возможно. Это путь от однозначностей критических текстов к глубинам оригинала, путь от множества «переписанных» поэм - к хрестоматийному и прославленному тексту поэмы, своего рода литературному монументу.
Жанровое наименование как коммуникативная стратегия
«Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — великим инквизитором. ... Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому» [Достоевский 15; 198] — так говорил Ф.М. Достоевский о поэме во «Вступительном слове», прозвучавшем на литературном утре 30 декабря 1879 года перед чтением главы «Великий инквизитор».
Отличительная особенность главы «Бунт» заключается в том, что она представляет собой не только противостояние дискурсов Алеши и Ивана, но и авторское, критическое мета-обсуждение смысла поэмы, постепенно свершающегося в ней дискурсивного поединка и вариантов его развязки. Метадискурсивность главы задается феноменом рассказывания и обсуждения.
Проблемой, определяющей содержание данной главы, становится вопрос о коммуникативной стратегии творения Ивана и семантической емкости слова «поэма» в поэтике Достоевского. Почему Иван называет свое сочинение именно «поэмой», а не «легендой», «притчей» или «мифом»?
Педалируя жанровое обозначение сочинения, Иван определяет жанровый код - ассоциативное поле, сверхтекстовые организации значений, которые навязывают представление об определенной структуре, активизирующей у читателя определенные ожидания, связанные с выбранным жанром.
Поэма (буквально: «творить», «делать», «создавать») как синтетический, лиро-эпический и монументальный жанр, позволяющий сочетать «эпос сердца и музыку, стихию мировых потрясений» [Кожевников, 294], сокровенные чувства и историческую концепцию, имеет определенный временной вектор: поэмное событие всегда содержит выход в настоящее и будущее. Легенда (буквально: «то, что следует прочесть», первоначально — житие святого, сам термин возник в католической письменности; в фольклоре - устный народный рассказ, в основе которого лежит чудо, фантастический образ, воспринимаемые как достоверные [Кожевников, 177]) как жанр опрокинута в прошлое и, как правило, не предусматривает экстраполяции в современность.
Поэтика легенды и поэтика поэмы весьма разнородны: в ситуации произнесения легенды (притчи, рассказа) компетенция говорящего состоит в императивном, последовательном, монологическом изложении событий, т.е. речевой акт легенды есть монолог в чистом виде, авторитарно направленный от одного сознания к другому. Отношение слушателя к содержанию легенды не предполагает свободного, переиначивающего отношения к сообщаемому. Риторика поэмы допускает со стороны адресата позицию сотворчества, она ситуативна и диалогизирована.
Отметим, что Иван «сочинил» и «рассказал» поэму: «Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал» [там же 14; 224] Алеша уточняет: «Ты написал поэму?» - «О нет, не написал, — засмеялся Иван, — и никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель» [там же 14,224].
Художественная практика Ивана предполагает, прежде всего, искусство импровизации, авторского монтажа фрагментов идей в свободной форме диалога (в главе «Великий инквизитор» существует параллельно две коммуникации: Иван — Алеша и инквизитор — Христос). Личность автора (Ивана) проявляется при этом преимущественно в особой манере логической игры, яркой импровизации по поводу ключевых сюжетов и образов уже завершенной, обдуманной ранее идеи. Собственно же поэма рождается именно в диалоге. Иван создает, творит поэму, опираясь на то смысловое ядро, которое он когда-то «выдумал и запомнил».
Для Достоевского тождество поэма-идея, поэма-мысль несомненно: «...моя «идея», - думает он [подросток], - это та крепость, в которую я всегда и во всяком случае могу скрыться от всех людей ... Вот моя поэма!» [Достоевский 13; 76], или «одна мысль (поэма) тема под названием «Император» [там же 9; 113] (из набросков и планов 1867-1870 гг.). Сочинение «Геологический переворот», которое черт в роли критика, комментирующего произведение Ивана, называет «поэмкой», создавалось тоже как поэма.
Л.П. Гроссман в своей работе «Достоевский - художник» интерпретирует слово «поэма» в обозначенном выше контексте непосредственно как обозначение жанра1. В.Я. Кирпотин полагал, что «поэма-идея» у Достоевского — это специфический вихрь проблем, событий, идей, еще не отстоявшихся, не отработанных автором, своеобразный «концентрат» романа. «С поэмы начинался поиск, ставился вопрос, но в поэме еще не было полного решения. Путь от поэмы к воплощению был путем поиска не только формы, но и ответа на поставленный вопрос, решения порожденной действительностью задачи» [Кирпотин, 145].
Символика имени и заглавия
Заглавие книги - это аббревиатура основной мысли автора, миниатюрный слепок его идеи. Понять заглавие — значит, проникнуть в сущность авторской мысли.
Заглавие — это постоянное обозначение произведения, его собственное имя. Именно оно более всего формирует у читателя предпонимание текста, становится первым шагом к его интерпретации. У. Эко в «Заметках на полях к «Имени розы» отмечает, что «заглавие - это уже ключ к интерпретации. Восприятие задается словами «Красное и черное» или «Война и мир». Самые тактичные, по отношению к читателю заглавия - те, которые сведены к имени героя-эпонима. Но и отсылка к имени эпонима бывает вариантом навязывания авторской воли» [Эко, 597]. Но как бы ни было выразительно само по себе заглавие, в полной мере понять его смысл, оценить, насколько оно удачно, можно лишь по прочтении произведения, соотнося его с уже усвоенным содержанием. «Заглавие, прикрепленное к конкретному герою или к конкретной ситуации, по мере развертывания приобретает обобщающий характер и часто становится знаком типичного. Это свойство заглавия особенно ярко проявляется в тех случаях, когда заглавием произведения служит имя собственное» [Николина 2003, 174].
Имя является структурообразующим компонентом персонажа. Сразу следует оговорить, что под именем в литературно-художественном тексте понимается не только антропоним (личное имя или фамилия), но любое слово, именующее персонажа: местоимение (он, она, я - как это чаще всего бывает в лирике); функциональное наименование (по амплуа, социальной или национальной принадлежности); иногда всего одна буква, как, скажем, у Ф. Кафки или Д. Хармса.
Имя может выступать средством и более детальной разработки персонажа. Между тем важную смысловую роль играет система имен. Она дает, в частности, возможность лаконичной, «свернутой» передачи сложных смыслов. Это, например, позволяет автору на минимуме текстового пространства достаточно многогранно охарактеризовать героя. Таким образом, имя -это структурообразующий компонент персонажа, определяющий и его место в произведении, и его судьбу.
В поэме как импровизации, мир осмысляется, постигается через волевой единичный акт, поэтому главное, ключевое высказывается сразу, в начале, и еще раз - под конец. Следствием этого является то, что заглавие сжимается до имени героя, высвечивающее кульминационный момент, динамическую «пружину» повествования. Простота заглавия — антропонима - кажущаяся: «Великий инквизитор» оказывается заглавием с усложненной семантикой — заглавием-символом, «подтекст» собственного текста. По словам П. Флоренского, художественный образ — «суть не иное что, как имена в развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя ду ховных центров осуществляется целым произведением, каковое есть пространство силового поля соответственных имен» [Флоренский, 25]. Анализ ономасиологического уровня поэмы, позволяет увидеть, что движение имени образует самостоятельный символический сюжет. Диалогическое пересечение двух сфер - божественной и человеческой, оппозиция верха и низа заметна и наономасиологическом уровне поэмы. Оба персонажа поэмы практически безымянны - в соответствии с символичностью сюжета. Автор не называет имени лица, к которому обращает ся инквизитор. Формально Христос не наречен - в тексте поэмы его имя во обще не звучит. Имени этого центрального персонажа изоморфно либо местоимение 3-го лица «он» (повествовательный уровень Ивана Карамазова), либо местоимение 2-го лица «ты» (повествовательный уровень инквизитора). Лишь Алеша наполняет пустоту ненареченности определенным содержанием, впервые произнося имя: «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел этого» [Достоевский 14; 257]. f\ Интересно, что Иван, упоминая о Христе, называет его только Христос («христова правда»), Алеша же называет его Иисус. Может быть это связано с тем, что имя Иисус является первым антропонимом Евангелия: Иосиф называет Христа Иисусом по совету явившегося ему ангела не случайно - в Евангелии читаем: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Таким образом, имя Иисус буквально значит «спаситель» (в древнееврейском Иепгуа «спаситель» произошло из первоначального сложе Ъ ния иегошуа, буквально обозначавшего «Бог спасет» [Шанский, 194]). А имя Христос (от греч. «christos» - «умащаю, мажу», «помазанник»; усвоеннное нашим языком в виде мессия) было дано Иисусу как пророку, обладающему святостью первосвященника и могуществом царя. Таким образом, для Алеши Христос, в первую очередь, — спаситель, для Ивана — первосвященник, царь.
Поэма как текст в тексте
«Текст в тексте» - одна из повествовательных структур, изначально присущих роману, как «вторичному речевому жанру» (Бахтин). Конструкция «текст в тексте» означающая на структурном уровне богатые возможности для осуществления романного синтеза, для экспериментов с пространственно - временной организацией произведения и наиболее полного раскрытия образов автора и героя.
Данная повествовательная структура многократно анализировалась в произведениях русской и западноевропейской литературы XVIII - XIX веков. XX век раскрывает новые функции, потенциально заложенные в структуре «текст в тексте». Работы К. Поппера, М. Бубера, М.М. Бахтина поставили вопрос о диалогической природе сознания и полифоничности романного мышления. С этой точки зрения, «текст в тексте» предоставлял богатые возможности для создания диалогичности на уровне структуры произведения.
Принципиальное значение для анализа структуры «текст в тексте» имеют труды тартуских исследователей (Ю.М. Лотман, Ю.И. Левин), разработавших аспект принципов функционирования данной структуры как семиотического механизма. Текст как генератор смысла, мыслящее устройство, для того, чтобы быть приведенным в работу, нуждается в собеседнике. Риторическая структура «текст в тексте» создает такую диалогичность внутри одного произведения. Трансцендентный «другой» имманентно присутствует в тексте. При этом как минимум удваиваются текстовые коды [Лотман, 431-436].
Новые аспекты изучаемой структуры «текст в тексте» раскрываются с позиции теории «точки зрения» и при анализе повествовательных стратегий, используемых в тексте. «Текст в тексте», несущий иную, особую точку зрения на мир, другое сознание, является одной из «нарративных масок» и может выступать как «орудие спора о сюжете».
«Текст в тексте» - автосемантичный, замкнутый, эстетически самодоста точный композиционный элемент. Его автономность определяется наличием собственнной сюжетности, отличной от основной системы событий романа.
Иными словами, «текст в тексте» представляет собой повествование об изолированном и законченном в себе событии из жизни сюжетно «незнакомых» читателю героев. Это самостоятельное произведение, которое будучи включенным автором в романное целое, органически вовлекается в его художественную телеологию, играя в ней весьма существенную роль.
Поэма «Великий инквизитор» Ивана Карамазова - общеизвестный, многократно воспроизводимый и интерпретируемый и, следовательно, автосемантичный текст (ср.: «показателем максимума автосемантии текста является либо его воспроизводимость в другом тексте, либо возможность его функционирования отдельно от «материнского» текста» [Лукин, 49]).
«Внешний» и «внутренний» тексты выполняют взаимодополняющую и взаимоотражающую функцию. Один для другого является метатекстом, ко торый рассказывает и проясняет суть своего коррелята, получающего иное текстовое выражение. Так создается два уровня восприятия романа.
Бытовой, обыденный характер «внешнего» текста романа «Братья Карамазовы» несет в себе черты большей «реальности» в сравнении с «внутренним» текстом. На фоне романной «реальности», моделирующей действительность, знакомую читателям, поэма «Великий инквизитор» обладает всеми признаками «текста в тексте». Основной текст — творение «абстрактного» автора, вставной текст — создание героя романа Ивана Карамазова. Конст рукция «текст в тексте» позволяет «абстрактному» автору активизировать такую повествовательную дистанцию, которая исключает авторское вмешательство в описываемые события и позволяет внутреннему тексту быть более естественным. Метатекстовое обсуждение поэмы персонажами романа Алешей и Иваном подчеркивает ирреальность «внутреннего» текста, в результате происходит игра на границах прагматики «внутреннего» и «внешнего» текстов - игра с «точками зрения», обусловливающая парадоксы восприятия и интерпретации поэмы.
Ситуация рассказывания вставлена в обрамляющий текст. Функциональная направленность введения поэмы, «перебивов» поэмы - дать слушателю (Алеше) необходимую для адекватного восприятия информацию: какой текст он будет слушать и как его надо будет понимать. Коммуникативная ситуация эксплицируется посредством паратекста: Иван, обсуждая происходящее в поэме в самой ситуации ее рассказывания, основывается на механизме провокации, «прописывая» Алеше определенную рецептивную установку. Паратекстуальные «перебивы»/обсуждения/уточнения в нарративной структуре главы «Великий инквизитор» подчеркивают ее апелляционную ориентацию на воспринимателя-слушателя Алешу и стимулируют семантические процессы в рецептивном акте. Обсуждение поэмы драматизирует нарративную структуру главы и обогащает диалог автора (Ивана) с рецепи-ентом (Алешей), вовлекая последнего в творческий процесс.
Реакция Алеши стимулируется, с одной стороны, открытостью текста поэмы, с другой стороны - посредством идентификации с персонажем: Алеша как младший брат, более всех ребенок, по-детски, не считаясь с эстетической дистанцией и посредничеством исполнителя, идентифицирует инквизитора с Иваном-автором, а себя - с героем-протагонистом, Христом. В связи с этим акт рассказывания поэмы включается в ее поэтику как нарративная стратегия с коммуникативным эффектом.
Философы — интерпретаторы: парадоксы восприятия и диалог интерпретаций
Философы - интерпретаторы понимают смысл текста как объектив iH но заложенный в текст и связывают его с феноменом автора. В свете этого,
философская интерпретация предполагает чаще всего двухэтапное перемещение текста: во-первых, проекция его на опыт автора (как в индивидуально-психологической, так и в культурно-исторической его аранжировке), совмещение текста с узловыми семантическими и аксиологическими значениями этого опыта, и, во-вторых, последующая проекция текста на личный опыт интерпретатора, реконструкция в нем указанных ключевых " значений.
Таким образом, важнейшими фигурами в процессе философской интерпретации выступают, с одной стороны, фигура реального автора — Достоевского - как источника объективно данного смысла, в силу чего философская интерпретация отчасти реализует себя как реконструкция этого смысла; с другой стороны, фигура самого интерпретатора, т.к. философ интерпретирует в конечном счете самого себя, то есть смысл, вкладываемый им в текст. В связи с этим актуализируется проблема герменевтического круга, возникшая в герменевтической концепции, в рамках которой реализует себя философ-интерпретатор.
По Дильтею, чтобы понять себя, надо обратиться к другому, но чтобы понять другого, надо перевести его внутренний мир на язык собственных переживаний, а герменевтика как учение об интерпретации становится центром всех гуманитарных дисциплин, основанных, по его мнению, не на анализе, а на сопереживании, духовном вхождении в исторический материал [КЛЭ 9; 331]. Но если целью работы герменевта является вживание во внутренний мир автора, вчувствование в субъективность автора и воспроизведение его творческой мысли, то для философов чаще всего поэма «Великий инквизитор» является поводом для диалога, дискуссии с ее автором) и трамплином для авторских самоопределений на заданную текстом тему. Философы, по Лукину, истолковывают не столько текст, сколько свое впечатление от него. Для многих философов Достоевский был не просто автором данного произведения, личностью, принадлежащей конкретной исторической эпохе, но и феноменом нового современного сознания, современной культуры.
В процессе освоения поэмы философами-интерпретаторами обнаруживаются определенные закономерности: работы В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, СИ. Гессена, Н.О. Лосского, К.Н. Леонтьева показывают, как интерпретация произведения, совмещаясь с собственной философско-эстетической программой философа, приобретает черты не собственно литературно-критического текста, а самостоятельного теоретического манифеста; при этом сама интерпретация имеет определенную задан ность, продиктованную стремлением критика оттенить особенности своей литературно-философской позиции.
Учитывая все многообразие крупных работ и отдельных высказываний о поэме «Великий инквизитор», можно эксплицировать ряд основных смыслов, выдвигаемых философами:
1) самый поверхностный смысловой уровень — это критика католичества.
П. Сорокин полагал, что под католической идеей Достоевский разумел «мораль насилия: принудительного спасения людей и деспотического водворения рая на земле» [Сорокин, 248].
И.И. Лапшин считал, что религия великого инквизитора - «католицизм минус христианство» [Лапшин, 376].
По В.В. Розанову, абрис трех главных христианских церквей открывает «окончательную точку зрения, с которой следует смотреть на эту «Легенду» в ее целом» [Розанов, 173]. Развивая собственные взгляды на сущность и соотношение католицизма, протестантизма и христианства, Розанов отмечает, что в поэме из христианства взято для критики только высокое понятие о человеке, а из католицизма - «презрение к нему и страшная попытка сковать его судьбы и волю индивидуальной мудростью и силой» [там же, 154]. Согласно В.В. Розанову, большая часть поэмы имеет совершенно общее значение, то есть представляет собой диалектику христианства в его основной идее, одинаковой для всех верующих, в связи с раскрытием человеческой природы, осуждением ее и состраданием к ней. Лишь со слов «мы взяли от Него Рим и меч Кесаря» начинается раскрытие частной католической идеи, «с ее универсальными стремлениями, с ее внешней объединяющей мощью» [там же, 155].
«В легенде Достоевский изобличал антихристианскую тенденцию нелюбимого им католичества, ложь католической антропологии. Но тема легенды гораздо шире ... » (Бердяев), «критика католицизма не только не исчерпывает смысла легенды, но даже не затрагивает его ядра» (Франк);
2) второй смысловой уровень - философско-политические размышления о «революционном социализме» (Франк), «научном социализме» (Булгаков), «социальном муравейнике» (Бердяев), которые несовместимы со свободной личностью и неминуемо ведут к тоталитарной деспотии и всеобщему порабощению; изобличение стратегии власти и принуждения инквизитора, сокрытых под оболочкой «любви»; осмысление «истинной» человеческой природы. Многообразие интерпретаций обнаруживает парадоксальное прочтение образа инквизитора:
- «Великий инквизитор для Достоевского есть прежде всего жертва любви, несвободной любви к ближнему, любви к несвободе, любви через несвободу» [Флоровский, 387];
- по Розанову, в образе инквизитора мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе - страдание;
- Мережковский определяет инквизитора как предтечу антихриста и считает Ивана его учеником [Мережковский 1990, 87];
- по Лосскому, «дух зла в поэме выступает не прямо как разрушитель и человеконенавистник, а наоборот - как гуманист, задающийся целью создать царство всеобщего счастья» [Лосский, 305].