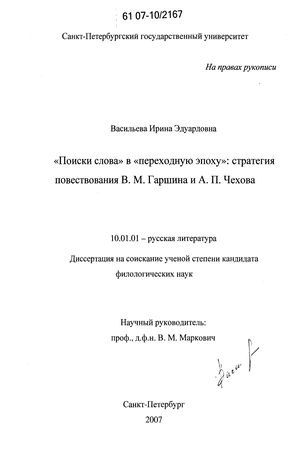Содержание к диссертации
Введение
1. Повествовательная система В. М. Гаршина: риторика убеждения 24
1.1. В. М. Гаршин: проблема литературной репутации 24
1.2. Повествуемый мир 29
1.2.1. Достоверность повествуемого материала 30
1.2.2. «Правдивость» наррации 41
1.3. Повествующее слово: особенности организации наррации 46
1.3.1. Презентация говорящего 48
1.3.2. Особенности изображения мира 55
1.3.3. Основные элементы сюжета «убеждения» 58
1.3.4. Виды и средства аргументации 62
7.5.1. Семантика и прагматика mm риторического приема 80
1.4. От концепции «слова» к концепции «мира»: уровень автора 90
1.5. Категория «читателя» в системе повествования 100
2. «Поиски» А. П. Чехова середины 1880-х годов: сборник «В сумерках». 104
2.1.Сборник «В сумерках» как ознаменование перехода к «серьезному» повествованию 104
2.2. Сборник «В сумерках»: композиционное единство как средство семантизации 110
2.3. Повествуемый мир: разрушение стереотипа 114
2.4. Слово героя: высказывание как событие 132
2.5. Прагматика вымысла vers, свобода творчества 140
2.6. Читатель как смыслообразующая инстанция 151
3. Повествовательная стратегия в повести «Степь» 159
3.1 .Повесть «Степь» в контексте «поиска новых путей» 159
3.2. Повествуемый мир: установка на негативную эмоцию 168
3.3. Повествующее слово 191
3.3.1. Повествователь vers. Егорушка 191
3.3.2. Степь: специфика образа 196
3.3.3. Роль «поэтического» начала в повести «Степь» 201
3.4. Повествовательная стратегия: герой - автор - читатель 210
4. Заключение 227
Библиография 233
- Достоверность повествуемого материала
- От концепции «слова» к концепции «мира»: уровень автора
- Слово героя: высказывание как событие
- Повествуемый мир: установка на негативную эмоцию
Введение к работе
Понятие «переходная эпоха» широко используется при описании различных периодов историко-литературного процесса, однако на сегодняшний день оно не обладает достаточной терминологической определенностью. Вопросы о принципах выделения «переходных эпох», установлении их хронологических границ, о самом существе переходности принадлежат к числу наиболее дискуссионных в современной науке. Имманентное изучение периодов, имеющих устойчивую репутацию «переходной эпохи», выявление дифференциальных признаков «переходности» представляет собой задачу, напрямую связанную с прояснением логики историко-литературного развития в целом. А. В. Михайлов предлагал в качестве оснований для типологического построения рассматривать «глубинные основания» литературы, т.е. «самый принцип осмысления слова в его отношении к действительности и функционирования слова». Очевидно, что на рубеже XIX – XX вв. не только в русской литературе, но и в европейской культуре в целом происходит эпохальный сдвиг. Однако существо этого процесса может быть понято и осмыслено только вследствие детального изучения слагающих элементов культуры. Особый интерес в этом смысле представляет русская литература конца XIX века. Это время, за которым прочно закрепилась репутация эпохи переходной, а «восьмидесятые годы», по общему признанию, стали кульминацией этого процесса. В это время явственно ощутим кризис литературы, воспринимаемый в первую очередь как кризис реализма, декларируется разрыв с традицией. При этом пути поиска отнюдь не однонаправлены, и это хорошо ощущают сами писатели. Следствием чувства неудовлетворенности у «молодого» поколения писателей становятся трансформации не столько на тематико-идеологическом уровне произведения, сколько на уровне поэтики. Между тем при всей очевидности внешних проявлений «переходности», определение внутренней специфики этого периода представляет собой существенную проблему. Для ее разрешения требуется, в соответствии с предложенным А. В. Михайловым подходом, детальное изучение принципов осмысления слова и его функционирования в литературе.
Исследование концепции «слова» рассматривается в работе сквозь призму повествовательной стратегии. Этот уровень текста представляется наиболее репрезентативным, поскольку, во-первых, характер повествования в эту эпоху превращается в проблему. Именно вопрос о повествовательной системе, принципах и интенциональной природе повествования занимает центральное место в литературном процессе этой переходной эпохи и с точки зрения метаописательной проекции, и с точки зрения исследовательского дискурса (Ю. В. Манн, Н. А. Кожевникова, А. П. Чудаков, В. Шмид). Во-вторых, изменение принципов осмысления слова и его функционирования должно прежде всего проявиться в трансформации основных уровней повествовательной системы в рамках общей теории коммуникации. Принцип осмысления слова, способность его выполнять различные функции подвергаются значительной трансформации в русской литературе конца XIX в. Это, в свою очередь, дает основания думать, что данный период является «переходной эпохой» в «широком» смысле слова, т.е. речь идет об эпохальном сдвиге в историческом движении культуры. Доказательству этого положения и посвящена настоящая работа.
Предметом исследования в диссертации является творчество В. М. Гаршина и творчество А. П. Чехова середины 1880-х гг. Выбор Гаршина обусловлен тем, что его проза занимает промежуточное место между «классикой» и «беллетристикой». Тем самым его творчество оказывается отражением черт, характерных как для «высокой», так и для массовой литературы, т.е. оно выступает в роли своеобразного «индикатора» литературного процесса: тенденции, которые, как правило, завуалированы и лишь «просвечивают» в произведениях «классики», здесь должны проявиться с большей очевидностью. Необыкновенная популярность Гаршина среди современников говорит о востребованности такого типа литературы и тем самым свидетельствует об изменениях, происходящих в культурном сознании эпохи.
Выбор творчества Чехова середины 1880-х гг. связан с тем, что этот чеховский период ознаменован переходом от «многописательства» к «серьезной» литературе. Сборник «В сумерках» и повесть «Степь» – наиболее знаковые произведения этого периода. Они создают Чехову репутацию «молодого таланта», в котором, наравне с Гаршиным, современники видят будущее русской литературы.
Цель диссертации – выявить дифференциальные признаки «переходной эпохи» и описать повествовательную стратегию Гаршина и Чехова в контексте специфичной для этого времени задачи – «поиска новых путей».
Этим определилась постановка следующих задач:
анализ существующих в современной науке подходов и принципов изучения явлений, определяемых как «переходная эпоха»;
анализ повествовательной системы Гаршина и определение элементов, формирующих повествовательную стратегию текста;
изучение и анализ композиции сборника «В сумерках»;
описание принципов изображения повествуемого мира в рассказах сборника и в повести «Степь»;
соотнесение мира повествуемого и повествующего и определение элементов, формирующих повествовательную стратегию Чехова;
рассмотрение полученных результатов в аспекте принципиальной для эпохи задачи «поиска новых путей».
Основные положения, выносимые на защиту, можно сформулировать следующим образом:
«переходная эпоха» имеет совершенно особый набор дифференциальных признаков;
повествование Гаршина не следует характерному для реализма принципу «правдоподобия» в изображении человека и мира;
основной конфликт в художественном мире Гаршина связан с девальвацией слова, разными путями устанавливаемой в тексте;
строго организованная система приемов, характерная для всех произведений Гаршина, выполняет функцию направленного «убеждения», переводя категорию «восприятия/оценки» в категорию «веры»;
фигура «читателя» становится в риторически организованной системе неотъемлемым компонентом художественного целого;
повествовательная стратегия Чехова направлена на разрушение различных стереотипов в сознании читателя;
изображение человека и мира последовательно решает задачу создания негативной эмоции в восприятии читателя;
риторическая организация слова повествователя имеет своеобразное значение: повествующее слово выступает как слово креативное и свободное, и в этом смысле оно принципиально противопоставлено слову героя;
«свобода» повествующего слова несет в себе возможность преодоления на уровне читателя тотального коммуникативного конфликта, характеризующего повествуемый мир;
ответственность за «провал коммуникации» не на уровне повествуемого мира, а на уровне «автор – читатель» находится в зоне читательской активности: читатель может понять и принять предлагаемую текстом «поэтическую», смысловую игру, и тогда утверждаемое текстом непреодолимое несовершенство человека в эмпирическом мире в каком-то смысле уравновешивается возможностью творческого диалога между автором и читателем, предполагающего чисто эстетическое измерение;
повествовательные системы Гаршина и Чехова, каждая по-своему, утверждают новые принципы отношения слова к действительности и функционирования слова, что позволяет определить «восьмидесятые годы» XIX в. как «переходную эпоху» в «широком» смысле слова – в это время совершается глобальный «сдвиг» в истории литературы и культуры.
Актуальность исследования, таким образом, обусловлена прежде всего отсутствием ясной концепции «переходной эпохи» в современной науке и, как следствие, невыясненностью «статуса» принципиального для истории русской литературы периода – «восьмидесятых годов» XIX в., а также очевидно новым подходом к творчеству «знаковых» фигур этого периода - В. М. Гаршина и А. П. Чехова.
Методология. В основе исследования лежит современная теория повествования, включающая в себя элементы неориторики, рецептивной эстетики, общей теории коммуникации, семиотики, теории композиции. Она постепенно складывалась в работах отечественных и зарубежных исследователей (Р. О. Якобсон, В. В. Виноградов. М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Е. В. Падучева, А. П. Чудаков, В. Изер, Ж. Женетт, В. Шмид) на протяжении XX века и оформилась в самостоятельную научную дисциплину к концу столетия. В соответствии с этой теорией повествовательная ситуация, высказывание, слово рассматриваются как основной элемент коммуникативного процесса «автор» – «читатель» и выясняются их семантическая и прагматическая функции. Основным категориальным аппаратом становится принятая в современной нарратологии система обозначения различных повествовательных инстанций, а также понятия «повествуемый мир» vers. «повествующая стратегия». Кроме этого исследование опирается на описанные в работах Т. И. Сильман, Л. Я. Гинзбург, В. А. Грехнева особенности функционирования слова в рамках лирической системы, на изучение приемов поэтизации прозы в работах А. Б. Дермана, Н. М. Фортунатова, М. М. Гиршмана, В. М. Марковича, В. Шмида, на разработку общеэстетических вопросов, связанных с представлениями о слове и его отношении к действительности в работах А. В. Михайлова и М. Н. Виролайнен, а также на историко-литературные и теоретико-литературные исследования, посвященные творчеству В. М. Гаршина, А. П. Чехова и русской литературе конца XIX в (Г. А. Бялый, Б. В. Кондаков, В. Б. Катаев, И. Н. Сухих, В. И. Тюпа, А. П. Чудаков, А. Д. Степанов и др.).
Научая новизна исследования. Впервые осуществлено монографическое описание повествовательной системы Гаршина в соотнесении с общей проблемой поиска «новых путей», заявленных как главная задача писателями молодого поколения «переходной эпохи». Проведено развернутое сопоставление принципов организации повествования в прозе Гаршина и в прозе Чехова середины 1880-х гг., что дало возможность представить принципиально важный этап творческой эволюции Чехова в новом, прежде всего, нарративном контексте. По-новому осуществленное описание знаковых явлений русской прозы «восьмидесятых годов» позволило принципиальным образом уточнить представление об этом периоде как о «переходной эпохе» и дать терминологическое, а не описательное определение этого понятия.
Научно-практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее результатов в основных курсах «Истории русской литературы XIX века», «Теории литературы», а также специальных курсах, посвященных проблемам развития русской прозы в конце XIX столетия, проблемам эволюции прозы Чехова, соотношению и взаимодействию классики и беллетристики, проблемам нарратологии и рецептивной эстетики.
Апробация диссертации. Основные положения диссертации излагались в докладах на научных конференциях «XXIX межвузовская научно-методическая конференция преподавателей и аспирантов» (СПбГУ, 2000), «XXX межвузовская научно-методическая конференция преподавателей и аспирантов» (СПбГУ, 2001), «Пушкин и Андерсен: поэтика, философия, история литературной сказки» (Пушкинские горы, 2003). Отдельные положения работы использовались при чтении курсов по истории русской литературы второй половины XIX века, русской литературы конца XIX– начала XX вв. и проведении практических занятий по этим курсам, а также в лекционных и практических занятиях по теории литературы. По теме работы опубликовано 4 статьи.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Объем исследования составляет 248 с. печатного текста.
Достоверность повествуемого материала
Сдвиг повествовательной системы, определяемый «поиском новых путей», в творчестве Гаршина прежде всего затронул повествуемый мир, т.е. выразился в трансформации образа героя и окружающего мира. Изображение человека в мире Гаршина, вне учета телеологии его повествования в целом, выглядит достаточно архаично. Это герой с редуцированной портретной, биографической и социальной характеристикой16. Как правило, молодой человек, бледный, высокий, худощавый, черноволосый, 20-25 лет, студент, часто - медик («Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Художники», «Надежда Николаевна»), или интеллигент-разночинец («Происшествие», «Встреча», «Ночь»). Герой одинок. Обычно у него есть или была семья, друзья (мать и невеста - «Четыре днях», мать, братья, сестры - «Трус», невеста - «Встреча», отец - «Ночь»), Но он всегда изображается вне семейного круга. Близкие и друзья, по большей части, присутствуют лишь в воспоминаниях.
Лаконизм портрета проявляется прежде всего в описаниях внешности. Сложно визуально представить себе героя «Четырех дней», «Происшествия», «Встречи», «Труса», даже «Красного цветка» и т.д. Такие классические портретные характеристики, как цвет волос и глаз, черты лица отсутствуют в произведениях Гаршина. В портрете героя выделяются отдельные, как правило, аномальные, черты и именно они даются «крупным планом». В качестве таких деталей могут выступать как черты внешности, так и характерные действия героя. Например, у героя рассказа «Ночь» визуальный портрет отсутствует, он заменен указаниями на «мутный взгляд»17, «надорванный голос» (172), «понурую походку» (с. 176), «странный» вид, поведение (177), «измученный, упавший голос» (178), «дрожащие руки» (179), «высокую фигуру» (184), «бессильную походку» (186), он сидит «сгорбившись» (174), «качаясь, опустив голову на дрожащую рыданьями грудь» (там же).
Редкие примеры развернутого портрета концентрируют внимание именно на аномальных деталях:
Перед присутствием ... стоял низенький человек, с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятка поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вячьши руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие кривые ноги, а всю фигуру венчала голова... Что это была за голова! Личные кости были развиты совершенно в ущерб черепу; лоб узок и низок, глаза, без бровей и ресниц, едва прорезывались; на огромном плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражения высокомерия, а напротив, делавший его еще более жалким; рот, в противность носу, был огромен и представлял собою бесформенную щель, вокруг которой, несмотря на двадцатилетний возраст Никиты, не сидело ни одного волоска. Никита стоял, понурив голову, сдвинув плечи, повесив плетьми руки и поставив ступни носками немного внутрь» (портрет Никиты из рассказа «Денщик и офицер», 199-200).
В этом чрезвычайно развернутом для гаршинского повествования портрете все детали не только акцентируют диспропорцию в облике Никиты, но стремятся превратить каждую часть целого (=фигуры) в самостоятельную картинку — «длинные, вялые руки, снабженные огромными черными и заскорузлыми кистями». Каждая из частей его тела представляет собой аномалию, но внимание повествователя привлечено к тому, чтобы наглядно (!) изобразить данное конкретное аномальное проявление. Направленность на изолированное описание части целого выражается и в том, что отдельная деталь получает дополнительную, уже не чисто «портретную» характеристику - живот, «унаследованный от десятков поколений предков». В результате портретное описание, наполненное гиперболами и метафорами, дает не фотографически точное представление о человеке, а, очевидно, выполняет иную функцию, тем самым оказываясь в каком-то смысле «псевдопортретом», с точки зрения требований реалистического правдоподобия.
Как правило, не фигурирует в тексте или очень редко упоминается имя героя. В «Четырех днях», например, оно встречается лишь дважды, в начале и в конце рассказа. Его упоминание носит случайный, эпизодический характер, и имя не становится метонимом героя (в отличие от классической важности поименования в традиции русской литературы: достаточно вспомнить Онегина, Печорина, Болконского). Характерно, что и фамилия героя часто безликая, «стертая» — Иванов. Думается, что с этим связано и дублирование в именах и отчествах героев — Евсей Евсеич, Иван Иваныч («Происшествие»), Фома Фомич («Медведи»), Николай Николаевич (надзиратель, «Красный цветок»). Достаточно характерно для Гаршина повторение одного и того же имени в разных рассказах: Василий Петрович — в рассказе «Трус» (Львов) и в рассказе «Встреча», Семен Иванович в рассказе «Надежда Николаевна» (Гельфрейх) и в рассказе «Сигнал». Фамилию Иванов носят герои рассказов «Четыре дня», «Денщик и офицер» (Никита), «Из воспоминаний рядового Иванова», «Сигнал» (Семен). Часто герой вообще не имеет имени: «Сказка о жабе и розе», «Красный цветок», либо имя редуцировано. Вскользь упоминаются фамилии героев в рассказах «Четыре дня», «Трус», а имена их вовсе неизвестны. В рассказе «Художники» герои имеют только фамилии, в рассказе «Ночь», напротив, известно только имя героя — Алексей Петрович.
Характер героя не раскрывается в ходе развертывания сюжета и не мотивируется, а существует как бы до текста и в известном смысле независимо от него. Даже апологеты творчества Гаршина, такие как Д. С. Мережковский, не говоря уже о критически настроенных к творчеству писателя авторах, не могли не признать достаточно частых для его произведений случаев нарушений реалистического правдоподобия. В первую очередь они связаны с поверхностной, а порой и вовсе отсутствующей психологической мотивировкой характера и поступков героя: «он отстраняет психологические мотивы изображение характеров...» (Д. С. Мережковский) или «...Гаршин лучше очевиднейшим образом нарушит всякую «психологическую правду», лишь бы соблюсти драгоценную ему пунктуальность и, так сказать, разграфленность всякого описания» (К. И. Чуковский)18.
От концепции «слова» к концепции «мира»: уровень автора
Описанные выше константы повествовательной системы (тип сюжета, средства аргументации, специфика дискурса) продуцируют определенное представление о человеке и о мире в творчестве Гаршина.
Пессимизм
Одно из наиболее частотных определений по отношению к миру Гаршина, еще со времени публикаций первых его рассказов, — это пессимизм59. Такое восприятие формируется по мере развития сюжета, но окончательно утверждается благодаря специфическому типу финала. Он всегда пессимистичен. В 1884 г. критик Н. Шмаков писал: «Девять из десяти миниатюр заполнены трупами (курсив автора цитаты - И. В.), в десятой («Художники»), если и нет настоящей смерти, то есть смертельная болезнь, не говоря уже о полумертвом «глухаре». Автор садится писать, запасаясь наперед трехаршинным участком земли для своего героя»60. Героя ждет или увечье («Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это — пустяки» («Четыре дня», 99), или смерть. Погибают герои в рассказах «Происшествие», «Трус», «Attalea princeps», «Ночь», «То, чего не было», «Медведи», «Красный цветок», «Сказка о жабе и розе», «Надежда Николаевна» — в 9 из 17, написанных писателем.
При этом причина смерти героя, как правило, — случайность. Иначе говоря, герой гибнет потому, что должен погибнуть, и случайные, «нелепые» обстоятельства смерти только подчеркивают неизбежность гибели. Иван Иванович («Происшествие») погибает именно тогда, когда Надежда Николаевна готова поверить в этого человека; героя рассказа «Трус» убивает «шальная пуля»; другой герой того же рассказа, Кузьма, умирает, когда ему больше всего хочется жить и уже нет видимой угрозы для жизни — «рана очистилась»; Алексей Петрович («Ночь») умирает тогда, когда он, наконец, открывает для себя истину жизни и т.д.
Онтологическая причина гибели героя заключается в том, что он, разрушив нормативное семантическое пространство, не может выстроить новое, идентифицировать свое чувство в слове. Иными словами, он не может принять клишированные формулы, предлагаемые ему внешним миром, а значит, и соответствующую этим формулам систему поведения и отношения к действительности. Иначе ведут себя «другие». Вопрос об участии в войне решен для Львовых и эмоционально, и рационально, т.е. оформлен на словесном уровне и потому не вызывает рефлексии. Такая позиция характерна для внешнего мира в целом. Вот пример из того же рассказа «Трус»: ...солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:
Этого самого турку бить следует.
Следует — спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.
Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! ... А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю («Трус», 129).
Герой же подобной уверенности обрести не может. И потому либо гибнет «случайно», как в данном рассказе, либо, не видя выхода из создавшейся ситуации, кончает жизнь самоубийством, как Никитин в рассказе «Происшествие», либо уходит в другую деятельность, т.е. тоже «гибнет» в своей прежней роли, как Рябинин в «Художниках». Но подобный «уход» оставляет вопрос «открытым». С этим, на наш взгляд, и связано пессимистическое слово повествователя в финале («На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. ...» (170). Герой пытается совершит «правильный» поступок, не достигнув целости собственного «я». Именно отсутствие целостности концепции и ведет его к гибели. И да же когда эта целостность по-видимому обретена героем (так в случае Алексея Петровича, «Ночь» — хотя справедливости ради надо отметить, что это чуть ли не единственный случай во всех рассказах Гаршина), она не может реализоваться в ситуации выстраиваемого автором мира — герой гибнет. Гибель героя не только демонстрирует невозможность осознанного существования в мире человека с целостным сознанием, но и усугубляется неизвестностью результатов его поиска. Событие «переосмысления» равно нулю. Поскольку после смерти героя остаются только свидетельства его восприятия мира до «прозрения»: «спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе...» («Ночь», 187).
Если в финале рассказа нет смерти и явного увечья, то на их месте будет присутствовать пессимистическая нота. «Акварий погрузился во мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком» («Встреча», 153). В финале рассказа «Денщик и офицер» оба героя видят кошмарные сны, в которых находятся на грани смерти. В этих кошмарах мечта каждого из героев сливается с неосознаваемой ими реальностью. Так, Стебельков сначала видит себя героем, генералом, но потом эта картина торжества сменяется ощущением ужаса в сцене преследования. «Убыот!» — думает он. И страшный крик раздается со всех сторон; бегут на него странные, уродливые и свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они все ближе и ближе; сердце Стебелькова сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне, и он кричит: «Никита!» («Денщик и офицер», 211) Никита во сне также возвращается в свою мечту — возвращается домой. Но невозможность этого возвращения в реальности выражается во сне Никиты в картине смерти и погони.
Одним из проявлений тотального пессимизма является характерный для мира Гаршина мотив «непонимания другого». Евсей Евсеич и Семен из рассказа «Происшествие» не понимают Ивана Ивановича, хотя и сочувствуют ему. С точки зрения окружающих людей, герой ведет себя странно (ср.: о Семене: «Он, очевидно, недоумевал: подобный случай представился ему первый раз за все время долголетней практики» («Происшествие», 106). Герой «Четырех дней» признается, что не понимал своих близких, Львовы и герой не понимают друг друга в рассказе «Трус» и т.д. Причина этого непонимания в том, что позиции героя и «другого» не поддаются логическому объяснения с точки зрения обеих сторон, поскольку логика у этих сторон разная, и то, что закономерно и, добавим, справедливо для одного, странно для другого.
Слово героя: высказывание как событие
На уровне повествуемого мира, как было отмечено выше, главным событием чеховского рассказа является высказывание героя или высказывание о герое. Именно оно должно прояснить героя, ответить на вопрос «кто он?». «Высказывание» понимается нами широко. Оно может иметь форму диалога («Враги», «Беспокойный гость», «Несчастье») — по преимуществу; диалога с развернутыми монологическими включениями («Мечты», «Ведьма», «Пустой случай»); внутреннего монолога («Панихида»). Выбор той или иной композиционно-речевой формы не имеет принципиального значения. Как неоднократно отмечалось в литературе о Чехове, диалог в чеховском мире — это «диалог глухих». То есть коммуникация оборачивается автокоммуникацией, а конкретная форма исповеди, воспоминания, мечты, убеждения, обвинения или др. не имеет принципиального значения . Чеховскому герою не важен другой. Он по большей части говорит о себе и для себя. Собеседник выступает лишь в качестве формального адресата речи. Поэтому так часто повествователь отмечает увлеченность говорящего. «Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону» или «Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой» («Мечты», 13, 14), «Я посмотрел: не рисуется ли князь? Но лицо его было кротко, и глаза с грустью следили за движениями убегавшей рыжей лошадки, точно вместе с нею убегало его счастье. По-видимому, он находился в том состоянии раздражения и грусти, когда женщины тихо и беспричишю плачут, а у мужчин является потребность жаловаться на жизнь, на себя, на бога....» («Пустой случай», 27), «Лихарев сжал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы» («На пути», 135), «Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой» («Кошмар», 220), Огнев говорит, не замечая состояние Веры («Верочка»). Указание на внутреннюю адресацию слова персонажа часто выражается в характеризующем его речь глаголе «бормотать». Бормочет дьячок, сам себя убеждая в колдовстве жены («Ведьма»), бормотаньем и вздохами наполнена речь «странника» («Недоброе дело») и т.д. Автокоммуникация выражается в характерных для рассказов сборника внутренних монологах, приобретающих, как правило, диалогическую структуру: прокурор ведет одновременно два диалога: один с сыном, другой, внутренний — с самим собой («Дома»), Огнев задает себе вопросы, пытаясь понять свое отношение к Вере («Что же это такое? - ужаснулся он про себя. - Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!», «Верочка», 85), Софья Петровна спорит с собой, уговаривает, обвиняет себя («Несчастье»), Кунин рассуждает с собой, глядя на о.Якова и беседуя с ним («Кошмар»). Адресованное «другому», направленно вопрошающее слово остается без ответа: на обвиняющие вопросы охотника лесник отвечает молчанием («Беспокойный гость»), членов суда не интересует ход следствия: «Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она бесцветна и скучна, без страсти и огня выпалит он ее перед присяжными, а там дальше - скакать по грязи и под дождем на станцию, оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд, читать новую речь... скучно!» (95), или: «Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался с языка только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции» (99), наставления о.Григория проходят мимо сознания лавочника («Панихида»), Абогин и Кирилов не слышат и не понимают друг друга («Враги»).
Тем самым знаменитый «провал коммуникации» можно объяснить, на наш взгляд, подменой адресата. Истинным адресатом является сам говорящий, потому что он говорит на внятном только ему окказиональном языке о понятной ему реальности.
Цель изображаемого коммуникативного процесса, как правило, у Чехова заявлена как попытка самоидентификации («Пустой случай», «На пути» и др.) или идентификации другого для себя («Ведьма», «Недоброе дело» и др.) Герой хочет понять/объяснить себя/другого. Это взаимозависимые процессы в мире Чехова. Однако характерная черта, проявляющаяся в герое в ходе попытки понять себя или понять другого для себя — неуверенность. Герой не может найти основы в прошлом (бродяга /«Мечты»/), объяснить себя или другого фактами настоящего (князь /«Пустой случай»/); он" предполагает мистическое объяснение своей неудачной жизни, но не может в этом удостовериться (дьячок /«Ведьма»/); ищет и не находит опору в объективной логике (прокурор /«Дома»/), в принятых культурой и обществом нормах (Софья /«Несчастье»/) и т.д.
Внутренняя неопределенность героя по отношению к себе или к другому поддерживается повествователем. В слове повествователя всегда осуществляется сдвиг с точной характеристики героя в сторону неопределенного, ассоциативного ряда. Так, в рассказе «Мечты» повествователь прилагает к герою целый ряд возможных определений, открытость которых знаково подчеркнута на синтаксическом уровне многоточием:
Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тупому терпению, с каким он борется с осенней невылазной грязью, это фанатик — монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий «жития мирна и безгрешна» и не находящий... (Мечты, 6)
Той же цели служит ссылка на «общее мнение», авторитетность которого неочевидна: «Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво всё, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть» («Верочка», 77). Аналогичную функцию выполняют сравнения, которые часто используются в характеристиках персонажей. По такому принципу построены, например, портреты Лихарева и Иловайской в рассказе «На пути». Лихарев: «И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое» (119), Иловайская: «Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми, локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...» (124) Сравнение ориентирует воспринимающее сознание на впечатление от объекта описания, т.е. указывает на относительное, а не абсолютное качество этого объекта. Таким образом, в портрете подчеркивается ассоциации, которые человек вызывает, но самого определения, завершающего человека, нет.
Повествуемый мир: установка на негативную эмоцию
В плане персонажа негативная эмоция выражается в самооценке героя, мотивированной конкретной ситуацией. Так, Егорушка, покидая родной дом, чувствует себя «в высшей степени несчастным человеком» (14) и горько плачет. Певчий Емельян, потерявший голос, рассказав свою историю, заключает: «Об себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего» (53).
Но непосредственная негативная самооценка героя, выраженная в формах прямой или несобственно-прямой речи, встречается в тексте достаточно редко. Чаще в повествование включается эпизод, который способствует формированию отрицательного компонента в оценке героя, но не столько на уровне персонажа, сколько на уровне читателя. Персонаж использует негативную самооценку как ролевую маску, соответствующую ситуации. Так, в III главе, Моисей Моисеич, хозяин постоялого двора, уговаривая гостей остаться, восклицает: «Неужели я уж такой нехороший человек, что у меіи нельзя даже чай пить?» (33) Однако эта ролевая, и в этом смысле не-истинная, самооценка в ходе развертывания эпизода обнаруживает возможность буквального прочтения. Лакейство Моисея Моисеича, выражающееся в его страхе и неестественном, угодническом, безличном поведении, создает отрицательный фон в восприятии образа. Соломон, указывая на свое ничтожество в глазах других, протестует против «ролевой» оценки: «Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами. ... Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!» (40) Но протест Соломона не принимают слушатели. Для них Соломон - «дурак этакий» (40) (Кузьмичов), «глупый человек» (40) (о.Христофор), сумасшедший (41) (Моисей Моисеич). В этом контексте игровая маска «лакея-шута», принятая Моисеем Моисеичем, обнаруживает свое совпадение с «внешней» оценкой Соломона, явно отсылая к более общей проблеме социальных противоречий. Негативный компонент включается в смысловой образ персонажа независимо от его личного выбора. Самоуничижение героя - «игровое», как у Моисей Моисеича, или «протестующее», как у Соломона, - входит как одна из составляющих в представление о несовершенстве мира в восприятии читателя. Таким образом, уже не на уровне повествуемого мира, но на уровне читателя впечатление шута, которое производит Соломон на окружающих, и лакейство Моисея Моисеича создают вокруг этих образов трагический ореол.
Трагические факты
Негативная эмоция может не присутствовать непосредственно в самохарактеристике персонажа, но включаться в его образ за счет трагических фактов его судьбы. Так, у Пантелея сгорели жена и дети. Характерно, что рассказ героя об этом событии подчеркнуто безэмоционален. Он включен в обычную «перекличку мыслей» Пантелея.
Ничего... хорошие господа... - бормотал он. - Повезли парнишку в ученье, а как он там, не слыхать про то... В Славяносербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить... Нету, это верно... А парнишка хороший, ничего... Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Так от бога положено... Чти отца твоего и матерь твою...У меня у самого были детки, да погорели... И жена сгорела, и детки... Это верно, под Крещенье ночью загорелась изба... Меня-то дома не было, я в Орел ездил. В Орел... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят, побежала назад и сгорела с детками... Да... На другой день одни только косточки нашли. (66)
Эмоциональная неотрефлексированность самим героем-рассказчиком страшного факта своей биографии предполагает компенсацию в эмоциональном отклике слушателя. Но Егорушка выступает лишь в качестве формального адресата речи Пантелея - его реакция никак не представлена в тексте. Напротив, есть указание на то, что Егорушка занят своими мыслями. Таким образом, рассказ Пантелея, минуя формального адресата, оказывается непосредственно обращен к читателю и взывает к его, читателя, эмоциональному отклику на трагический факт. Аналогично вводится в повествование и сообщение об очевидно опасной болезни Васи.
- Отчего это у тебя подбородок распух?
- Болит... Я, паничек, на спичечной фабрике работал... Доктор сказывал, что от этого
самого у меня и черлюсть пухнет. Там воздух нездоровый. А кроме меня, еще у троих ребят
черлюсть раздуло, а у одного так совсем сгнила.
Скоро вернулся Степка с бреднем. (58)
Та же безэмоциональность рассказчика и то же отсутствие реакции непосредственного слушателя, что и в эпизоде с Пантелеем. Тем самым читатель как повествовательная инстанция меняет свою природу. Граница между ним и повествуемым миром становится зыбкой, в принципе преодолимой. Активность читателя переориентируется с оценки, предполагаемой дистанцированностью изображенного мира, на участие/сочувствие, продуцируемое включенностью в ситуацию. Используя метафору, можно сказать, что судьба героя за счет этого приема становится ближе читателю, а чувство несчастья vers, тоски увеличивается, потому что эта эмоция осуществляется не как отстраненная, «чужая» и, значит, способная быть подвергнутой сомнению, но «своя» и, в силу субъективности, более ощутимая.
Страшные факты судьбы подводчиков дополняет рассказ об убийстве купцов. Введение этого рассказа в повествование, как и в предыдущих примерах, мотивировано «случайностью». Обоз остановился на отдых недалеко от могильных крестов. Вопрос Егорушки: «Дед, зачем это крест стоит?» (67) - повод к рассказу. Тем самым создается впечатление, что мир наполнен трагизмом, страшным, которое постоянно себя обнаруживает при любом контакте с действительностью.
Однако ощущение несчастья и тоски создается в повести не только через очевидные в этом ряду мотивы смерти и болезни, но и благодаря, на первый взгляд, нейтральным деталям.
Деталь как средство создания негативной эмоции
Чаще всего диссонирующий мотив, направленный на создание негативной эмоции в восприятии читателя, включается в описание внешности персонажа. Принципиально, что введение снижающей черты в характеристику касается всех упоминаемых лиц, независимо от их статуса (эпизодический, второстепенный, главный) в повествовании.
Есть персонажи, которые появляются в поле зрения Егорушки буквально на несколько минут. Одни из них не возникают больше в его сознании: таковы девка на возу, Тит14, жница, поющая женщина, старик-чабан, Роза, объездчик Варламова, старуха из деревни и пр. Другие, как графиня Драницкая или Варламов, какое-то время владеют его мыслями. Но независимо от возраста, положения, степени значительности персонажа для Егорушки, в каждое, даже очень беглое упоминание о человеке, вводится более или менее очевидно дискредитирующая черта. Во-первых, и во внешности, и в поведении персонажа могут быть подчеркнуты отталкивающие черты. Так, с лица судя по всему успешного купца, дяди Кузьмичова не сходит выражение «деловой сухости», он одинок, не замечает окружающего мира, постоянно раздражен, торопится и боится «пропустить дело». Покрытое пылью лицо Кузьмичова приобретает «инквизиторское выражение» (18). Дениску отличает способность к искреннему увлечению детским миром, он, хотя ему «было уже около 20-ти лет» (26), «не перестал быть еще маленьким» (26). Дениска любит играть в бабки, гонять голубей, бегать вдогонки и т.п. Однако наравне с позитивно окрашенным в культуре чувством радости бытия в этом персонаже обнаруживается и негативная сторона «детскости» - жестокость. «Дениска, любивший дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придав своему лицу злорадное выражение, перегнулся и хлестнул кнутом по овчарке» (19). Или в сцене отдыха: «Дениска ходил около них (лошадей - И.В.) и ... весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он аппетитно, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти» (22).