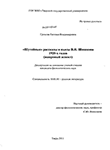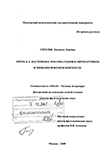Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Концепция карнавализации в трудах М. Бахтина 36
1.1. Необходимые параметры анализа карнавализованных произведений 1920-х годов 36
1.2. Рецепция теории Бахтина в трудах русских учёных 47
1.3. Карнавальный характер эпохи 1920-х годов в России 61
Глава 2. Карнавальный характер пьесы Н. Эрдмана «Мандат» в контексте карнавальных мотивов и образов драматургии В. Маяковского и М. Булгакова 65
2.1. Карнавальная основа сюжета 65
2.2. Карнавальное изображение новой советской эпохи 71
2.3. Снижение образа прошедшей эпохи и её атрибутов 86
2.4. Утверждение материально-телесной стихии 96
2.5. Карнавальная типология персонажей 110
2.6. Трансформация карнавального гротеска 123
Глава 3. Трансформация карнавального начала в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» 135
3.1. Карнавальный гротеск в осмыслении темы смерти 135
3.2. Изображение «нового советского человека» 170
3.3. Испытание философских идей в пьесе 176
Заключение 185
Список литературы
- Необходимые параметры анализа карнавализованных произведений 1920-х годов
- Рецепция теории Бахтина в трудах русских учёных
- Карнавальная основа сюжета
- Карнавальный гротеск в осмыслении темы смерти
Введение к работе
Имя широко известного в 1920-е годы драматурга Николая Робертовича Эрдмана (1900-1970) исчезло из театральной критики после того, как он был сослан в 1933 году в Енисейск. Вся страна говорила остротами из фильмов, созданных по его сценариям, но имя Эрдмана изымалось из титров. До сих пор его пьесы «Мандат» и «Самоубийца» мало известны русскому читателю и зрителю, хотя все знают сделанные по сценариям Эрдмана фильмы «Весёлые ребята» (1934, в соавторстве с В. Массом и Г. Александровым), «Волга-Волга» (1938, фильм получил Сталинскую премию), «Смелые люди» (1950, в соавторстве с М. Вольпиным, Эрдману присуждена Сталинская премия 2 степени и присвоено звание лауреата), «Снежная королева» (1957, в соавторстве с Г. Гребнером и Л. Атамановым), «В некотором царстве» (1958, на XI Международном кинофестивале в Карловых Варах фильм удостоен премии за оригинальное оформление и поэтический диалог), «Приключения Буратино» (1960, в соавторстве с Л. Толстой), «Морозко» (1965, в соавторстве с М. Вольпиным, на XVII Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции фильм получил Гран-при как лучший фильм для детей), «Снегурочка» (1969). По сценариям Эрдмана создано множество мультфильмов, таких как, например, «Федя Зайцев» (1949, в соавторстве с М. Вольпиным), «Двенадцать месяцев» (1956, в соавторстве с С. Маршаком).
Наследие Эрдмана включает в себя большое количество сценариев, интермедий, скетчей, обозрений, сценок, реприз. Им написаны интермедии к спектаклям по пьесам У. Шекспира («Гамлет», постановка Н. Акимова, 1932, «Два веронца», постановка Е. Симонова, 1952), К. Гоцци («Принцесса Турандот», постановка Е. Вахтангова, сезон 1932-33), С. Есенина («Пугачёв», постановка Ю. Любимова, 1967), Ф. Эрве («Мадемуазель Нитуш», постановка Р. Симонова, 1944), куплеты к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч
Синичкин» (постановка Р. Симонова, 1924); репризами драматурга говорили клоуны в цирке.
Однако главное в творческом наследии Эрдмана - его комедии, без которых сегодня не мыслится история русской литературы XX века. Они возвратились к широкому читателю, а затем и зрителю России после публикации пьес в театральных журналах в 1987 году1.
В 1990 году состоялось издание сборника, посвященного творчеству драматурга [276]. В книгу, кроме «Мандата» и «Самоубийцы», вошли также стихи, письма, скетчи и интермедии Эрдмана, воспоминания его современников и различные документы (в частности, переписка Эрдмана с семьёй, Вс. Мейерхольдом).
Пьесы Эрдмана были высоко оценены как русскими, так и зарубежными критиками и славистами. Жизни и творчеству драматурга посвящена выпущенная в 1992 году монография «Крик молчания» Джона Фридмана, известного американского слависта, одного из первых исследователей творчества и судьбы драматурга [278]. «Самоубийца», по мнению югославского исследователя М. Иовановича, «входит, наряду с "Вишневым садом", "В ожидании Годо" и "Трамваем "Желание"", в четверку лучших произведений мировой драматургии XX века» [145].
В России сегодня существуют исследования как «Самоубийцы», так и «Мандата». До публикации пьесы Эрдмана оценивались критикой и литературоведением по отдельности, что объясняется различной степенью их известности. После издания в 1990 году в одном сборнике пьесы начали рассматривать вместе, как единое наследие Эрдмана. Проследим тенденции их оценки театральной и литературной критикой.
Пьеса «Мандат», поставленная кумиром автора Мейерхольдом в 1925 году, была запрещена к постановке уже в 1930. С постановки пьесы в 1925 году установилась тенденция считать комедию «Мандат» сатирическим
' «Мандат» был опубликован в журнале «Театр» (1987, № 10), «Самоубийца» - в журнале «Современная драматургия» (1987, № 2).
произведением. Возможно, начало этому истолкованию пьесы положил Мейерхольд, который счёл автора «Мандата» продолжателем драматургических традиций Н. Гоголя и А. Сухово-Кобылина. Вплоть до 1990-х годов исследователи расходились лишь в одном — что именно считать объектом сатиры в пьесе.
В 1920-е годы в пьесе видели обличение мещанства. Так, театровед Н. Волков отмечает, что в «Мандате» «автором и режиссером дано актёрам задание вскрыть бессмыслицу и тупость современного мещанского бытия» [105, с. 4]. Заведующий литературной частью МХАТ П. Марков в рецензии на спектакль называет «основной осью комедии Эрдмана» «глубокое разоблачение мещанского быта», «сатирически резкое» его изображение [173, с. 270]. Но, сходясь в том, что тема пьесы, объект её сатиры — мещанство, критики делятся на две группы: большая часть квалифицированных истолкователей пьесу хвалила, другая - ругала.
Те, кто не одобрял «Мандат», прежде всего отмечали его легковесный и водевильный характер. Так, рецензент под именем Б. Моск. утверждал: «С одной стороны, литературный анекдот, с другой - обычные приёмы водевиля <...> снижают эту вещь до степени лёгкой увеселительной комедии водевильного жанра». По мнению критика, «автор просто не справился со своим материалом, и тот овладел им» [185, с. 8]. Б. Мазинг называл «Мандат» «обозрением, рядом словесных каламбуров, набором анекдотов» [171, с. 4], А. Слонимский видел в «Мандате» всего лишь «механическую склепку двух недоделанных водевилей» [232, с. 3].
Как недостаток отмечали «чрезмерность» юмора даже восхищённые пьесой критики. Так, И. Аксёнов, относящийся в целом к пьесе положительно, писал: «Изобретательность новых комбинаций кажется неистощимой. У них есть опасность - они готовы поглотить пьесу и задавить сюжет. Комедия готова рассыпаться на остроты» [82, с. 7]. П. Марков в статье 1925 года признавал, что «в комедии много недостатков,
она кажется беспорядочной и растянутой, она перегружена богатством остроумных определений и афоризмов» [176, с. 288].
Обвинители пьесы должны были, однако, помнить оглушительный успех спектакля. С. Радлов называл пьесу «блестящей однодневкой» [209, с. 2], а Б. Арватов считал «поистине печальным <...> обстоятельством» то, что «"Мандат" стал образцом революционного спектакля» [87, с. 2]. Поразительный успех «Мандата» они объясняли гением режиссера, который превратил заведомо слабую пьесу в серьёзную, значимую постановку. Так, по мнению заведующего литературной частью Большого театра Б. Гусмана, Мейерхольд «перескочил через голову Эрдмана» [128, с. 8]. Об этом же говорил и С. Бобров: «Мейерхольд вкладывает в архибезобидное паясничество Эрдмана совершенно особый и непредвидимый автором смысл: так строится жестокая и презрительная комедия целой колоды живых трупов» [94, с. 7].
Приверженцем этой точки зрения был А. Луначарский, чьё мнение было чрезвычайно существенно для 1920-х годов. В предисловии к сборнику «О театре», опубликованному в 1926 году, он так характеризовал пьесу: «Прекрасный текст, <...> комедия же средняя» [169, с. 283], так как «маски взяты Эрдманом нарочито мелкие» («человеческая пыль») и Эрдман «нигде не создал в пьесе крупного врага, чтобы направить в него свою разящую стрелу...» [169, с. 282]. По Луначарскому, «Эрдману посчастливилось» в том, что «такой большой мастер, как Мейерхольд, оформил его пьесу». Благодаря этому обстоятельству постановка - «самое большое театральное явление прошлого сезона» [169, с. 283], и «над всеми реалистическими пьесами прошлого сезона возвышается "Мандат"» [169, с. 282].
По нашему мнению, упрекая Эрдмана в излишней балаганности, критика видела в пьесе проявления карнавала. А. Луначарский как недостаток пьесы отмечает наличие карнавальных элементов, понимая их как «эффекты французского фарса»: «В фарсе Эрдмана имеется немало
натянутых положений, которые смешны именно своим незатейливым и, пожалуй, иной раз даже несколько шокирующим юмором» [169, с. 282].
Отрицательные отклики на пьесу Эрдмана в 1920-е годы, так же, как и негативная критика комедий М. А. Булгакова («Багровый остров», «Зойкина квартира») и В. В. Маяковского («Клоп» и «Баня»), обусловлены были неразвитостью теории комического. В 1925 году представителем так называемой «левой» критики В. Блюмом была начата атака на сатиру: «Искусство... теперь должно отказаться от сатирической миссии», так как «"чистая" сатира - буржуазная сатира», следовательно, «кто из "советских сатириков" этого не понимает, впадает в контрреволюцию и клевещет на новый быт» [93, с. 3. Выделено Блюмом. —КБ."]. Конечно, у Блюма были и противники - например, режиссер Театра им. Мейерхольда В. Фёдоров утверждал, что смех «есть то главное орудие, при помощи которого театр успешнее всего реализует свои агитационные устремления» [253, с. 14-15]. Но, всё же, отрицание сатиры как способа изображения действительности было очень распространено. Сатира на явления советского периода, какими бы они ни были, воспринималась отрицательно. Известный томский литературовед Н. Киселёв, первым обратившийся к «Мандату» после долгих лет молчания, в статье «Вокруг "Мандата" Н. Эрдмана» (1969) писал, что представители этой точки зрения «считали, что путь сатирической комедии - это не путь советской драматургии, и что, встав на этот путь, Эрдман объективно скатился к клевете на советскую действительность и советские порядки» [152, с. 173]. Так, Г. Адонц отказывал сатире «Мандата» в праве на существование, так как советская действительность не могла быть «так же черна и беспросветна, как гоголевская чичиковщина и ноздревщина» [81, с. 3]. Н. Верховский упрекал Эрдмана в том, что тот «отказался от всякого намёка на изображение положительных сторон современной Москвы и выбрал обличение и высмеивание» [103, с. 4].
2 Везде в дальнейших случаях в цитатах разрядка - автора цитаты, курсив - наш. - КБ.
За наличие сатиры в пьесах отрицали и комедии Булгакова 1920-х годов, известные по постановкам Театра им. Евг. Вахтангова и Камерного театра («Зойкина квартира», «Багровый остров»). Непосредственные отклики на спектакли были исключительно негативными. «Зойкина квартира», по мнению критики, «никакой культурной ценности <...> иметь не могла» [88, с. 14]. Постановка «Багрового острова» была воспринята рецензентами и критиками как клевета на советскую действительность. Хотя возглавлявший Камерный театр режиссер А. Таиров, чтобы защитить поставленный им спектакль, утверждал, что он направлен «против мещанского приспособленчества» в театре, критика не приняла постановку [80, с. 14]. Так, рецензент И. Туркельтауб увидел в спектакле «сплошное издевательство над советским строительством» [249, с. 10], а Е. С-ой - стремление автора «пропитать свою пьесу злой сатирой на советские учреждения, ведающие разрешением пьес к постановке в театрах» и «плевки рассерженного сменовеховца» [241, с. 4]. И. Бачелис назвал пьесу «по форме - пародией на театр, по существу - пасквилем на революцию» [92, с. 107], О. Литовский -«злостным пасквилем на Октябрьскую революцию» [166, с. 4].
Сходное отношение было и к пьесам Маяковского, поставленным в ТИМе. Комедии драматурга 1920-х годов признания у критики не нашли. Сатирическое восприятие явлений советской действительности в театре, который «не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло», вызывало неоднозначную реакцию. Немногочисленные положительные отклики на постановку «Клопа», как отмечает Н. Киселёв в статье «Сценическая судьба и история восприятия комедий В. Маяковского "Клоп" и "Баня" (1989), «уже не различались в дружном хоре отрицания и неприятия» после появления «Бани» [155, с. 61]. Так, Н. Гончарова в отклике на постановку «Бани» Мейерхольдом обвинила Маяковского в «издевательском отношении» к советской действительности [123, с. 4]. В. Ермилов увидел в «Бане» опасность «увеликанить победоносиковщину», чей образ счёл «нестерпимо
фальшивым», несмотря на то, что «пьеса Маяковского претендует <...> на зарисовку типичных общих явлений» [136, с. 10].
В начале 1930-х годов на осмыслении «Мандата» критикой продолжало сказываться настороженное отношение к сатирическим произведениям. Так, например, известный театральный критик и теоретик Б. Алперс в статье «Жанр советской комедии» (1932) называл Эрдмана наследником «традиций Гоголя и Сухово-Кобылина» и признавал, что «в тех случаях, когда объектом для <...> осмеяния берётся мир прошлого, как это было в "Мандате", - эти традиции могут быть хорошо использованы драматургом» [84, с. 187]. Тем не менее, отмечал театровед, «выход к комедийному спектаклю, идейно насыщенному и здоровому по своему общественному звучанию, лежит через преодоление гоголевских традиций в комедии», так как «гораздо труднее сделать на сцене театра смех утверждающим, а не разрушающим, сделать его не только оружием разоблачения отрицательных явлений и типов, но и средством раскрытия положительных явлений и персонажей» [84, с. 188].
В отличие от 1920-х, когда большая часть критиков по отношению к «Мандату» была настроена положительно и признавала тот факт, что пьеса, по словам известного театроведа П. Маркова, «указывает пути, по которым может и должна пойти современная сатирическая комедия» [176, с. 288], в 1930-е годы осмысление комедии стало в большинстве случаев отрицательным. Причины этого — усиление тоталитарного режима, вызвавшее запрещение следующей комедии Эрдмана «Самоубийца», закрытие ТИМа и арест Мейерхольда.
Травля попавшего с начала 1930-х годов в опалу режиссера началась с очернения «Мандата» - одной из наиболее успешных его постановок. Председатель Комитета по делам искусств П. Керженцев в разгромной статье «Чужой театр» (1937) утверждал следующее: «Вместо того, чтобы основное внимание обратить на показ людей советской эпохи, показ большевиков, театр принял на себя сомнительную миссию отображать во всех видах
исчезающий тип мещанина. Театр старательно разрисовывал уродливый образ мещанина, не умея и не желая разъяснить этот образ социально» [151, с. 2]. (Речь шла, конечно, и о постановке «Клопа».)
В 1950-е, когда сатира была реабилитирована как способ изображения действительности, недостатком комедии «Мандат» признавалось отсутствие в ней сатиры на мещанство. Так, Б. Ростоцкий в монографии 1952 года «Маяковский и театр» относил «Мандат» к «мнимообличительным пьесам, посвященным героям мещанской буржуазной обывательщины». Более того, по мнению исследователя, «в постановке "Мандата"... была предпринята открыто враждебная попытка поднять мещанина на пьедестал» [213, с. 209]. Вслед за ним известный советский литературовед В. Фролов в работе 1954 года «О советской комедии» доказывал, что «наиболее грубо искажалась жизнь» [260, с. 76] в комедиях М. Булгакова «Зойкина квартира» и Н. Эрдмана «Мандат», в последней «обыватель оказался героем, поднятым на пьедестал» [260, с. 77].
Примечательно, что в отрицательных отзывах театроведов отмечено отсутствие сугубо сатирического, однозначного отношения автора к своим героям. Так, по мнению Ростоцкого, «за внешним комизмом» пьесы «по существу скрывалось любование этими персонажами, смакование тупой зоологической ограниченности их быта» [213, с. 209]. Фролов отмечал, что в «Мандате» «персонажи старого мира <...> показаны вовсе не с целью их сатирического изобличения»: «Автор создал лишь забавный мир героев, он как бы говорил: "Посмотрите, эдакие чудаки живут на свете"» [260, с. 76].
После реабилитации Мейерхольда в 1955 году изменилось и отношение к пьесе Эрдмана. Например, в исследовании «Жанры советской драматургии» 1957 года В. Фролов, отрицавший «Мандат» в 1954 году, утверждал, что «для 1926 года эта комедия была событием значительным» [259, с. 236], и поместил Эрдмана в «солидный отряд писателей, работающих в драматической сатире» наряду с В. Маяковским, Б. Ромашовым, Л. Леоновым, В. Катаевым [259, с. 237].
В связи с возвращением имени Мейерхольда стала возможной постановка «Мандата» «по мотивам» его работы, которую в 1956 году в Театре-студии киноактёра осуществил друг Эрдмана, исполнитель главной роли в спектакле Мейерхольда Эраст Гарин [112, с. 242]. Восприятие пьесы Эрдмана критикой по-прежнему формируется в связи с социально-политическими оценками: осмыслением отношения драматурга к мещанству и советскому строю. Так, театровед И. Соловьёва в отклике на возобновление мейерхольдовской постановки, названном «Ради чего?», характеризует пьесу как сатиру на мещанство. Именно поэтому, по мнению критика, пьеса актуальна, «может жить и сегодня», ведь «ее тема, её антимещанский посыл не представляются устаревшими» [243, с. 74]. Напротив, В. Орлов в статье «В поисках утраченного времени» утверждает, что из-за непозволительного смещения объекта сатиры, которая оказывается направлена не только на мещанство, но и на советский строй, «пьеса Н. Эрдмана не принадлежит к высотам советской драматургии; к её бессмертным образцам» [195, с. 3].
В откликах на постановку вновь улавливается неоднозначность пафоса пьесы: так же, как и А. Луначарский, И. Соловьёва, отмечая «бурлескный, фарсовый сюжет и двусмысленные остроты», винит автора, по сути, за наличие в пьесе карнавального начала. Как и критика 1920-х годов, Соловьёва отмечает неопытность «очень юного автора», «ещё не научившегося скупости настоящего комедиографа и острословящего где только можно, даже несколько утомительно» [243, с. 74]. Позднее литературоведение пришло к выводу, что «количество, сама избыточность остроумия говорят о карнавальных истоках» [68, с. 108].
В 1960-е - 1970-е годы (как и в 1950-е, до постановки Гарина) пьесу Эрдмана лишь упоминают по большей части в связи с драматургией Маяковского, отношение к которой театро- и литературоведения весьма показательно. После смерти Маяковского, когда по указанию Сталина (1935) он стал считаться «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи»,
пьесы его публиковались, но не исследовались. Как отмечал А. Метченко в 1961 году, «даже после его смерти, на протяжении четверти века <...> господствовало мнение, что-де талантливейший мастер стиха был весьма посредственным драматургом» [177, с. 476]. Исследования посвящались сатирическим стихам, памфлетам и практически не затрагивали драматургию Маяковского [157; 208]. Работы, в которых серьёзно рассматривались его комедии, немногочисленны, если помнить об огромном количестве статей и монографий, посвященных стихам и поэмам. Рассматриваются- пьесы в монографиях А. Метченко 1961 года «Творчество Маяковского. 1925-1930 гг.» [177] и Б. Милявского 1963 года «Сатирик и время. О мастерстве Маяковского-драматурга» [180], статьях 1964 года Б. Милявского «"Живые люди" и "оживленные тенденции"» [179] и А. Февральского «Маяковский в борьбе за революционный театр» [251], монографиях В. Перцова 1972 года «Маяковский. Жизнь и творчество (1925-1930)» [197], Ю. Смирнова-Несвицкого 1975 года «Зрелище необычайнейшее. Маяковский и театр» [236] и С. Владимирова 1976 года «Об эстетических взглядах Маяковского» [104].
Все эти исследователи трактуют пьесу «Мандат» как предшествующую «Клопу» и «Бане». И поскольку в пьесах Маяковского отмечается в основном сатирическая направленность (они причисляются к «лучшим образцам русской сатирической комедии» [177, с. 476]), постольку и «Мандат» оценивается положительно за наличие в нём сатиры на мещанство [180, с. 104; 251, с. 330; 152, с. 181; 219, с. 332; 197, с. 247-248; 236, с. 78].
Сатиру в пьесе Эрдмана увидели и все те, кто имел отношение к постановке «Мандата» Мейерхольдом: И. Ильинский [143, с. 252], Э. Гарин [111, с. 324], А. Грипич [127, с. 117].
Отрицательно оценивали пьесу в 1960-е годы те, кто не увидел в ней сатирического пафоса. Юмор в пьесе по отношению к мещанам отмечает Б. Ростоцкий в монографии «О режиссерском творчестве В.Э. Мейерхольда» (1960). По его мнению, «тема живучести мещанства, приспособляемости
мещанства <...> не звучала и в самой пьесе» - «остроумной, но неглубокой
комедии, представляющей собой драматизированный анекдот о современных
мещанах» [214, с. 55-56]. Неоднозначность пафоса пьесы отмечает
С. Владимиров в «Очерках истории русской советской драматургии» (1963).
Он утверждает, что, хотя в «Мандате» «автор стремился показать
призрачность обывательского мира, обреченность попыток
приспособиться», «в образной структуре пьесы обывательщина вырастает до грандиозного и всеобъемлющего символа, выступает как сословие вечное и неистребимое» [196, с. 61]. Исследователь увидел в героях некие общечеловеческие черты, но попытался обвинить автора в политической ошибке.
Произведения Булгакова в 1960-е годы упоминают так же в связи с творчеством Маяковского и тоже предъявляют им идеологические обвинения. Если пьесы Маяковского и «Мандат» принято сопоставлять, то «Багровый остров» и «Баню» противопоставляют. Так, Б. Милявский утверждает: «За внешним, кажущимся тождеством раскрывается полная противоположность. <...> Маяковский выступает против бюрократического, чиновничьего «руководства» искусством», а у Булгакова «опорочивается, высмеивается самая идея государственного, партийного руководства театральным строительством» [180, с. 245].
В 1980-е годы в связи с политическими переменами в стране коренным образом изменилось отношение к «Мандату». После публикации в 1987 году пьесу начинают рассматривать отдельно от драматургии Маяковского. Исследователи по-прежнему осмысляют пьесу как сатиру, но видят в ней другой объект сатирического осмеяния и оценивают очень высоко за наличие сатиры на советскую власть. Новое поколение исследователей не находит в пьесе сатиры на мещанство. Так, А. Василевский видит «резкое» отличие пьес Эрдмана от комедий Маяковского, «в которых на "мещанский" мирок грозно наступает... "светлое будущее"», в том, что у Эрдмана «жалкие, растерянные, суетливые
люди мечутся между грозным прошлым и грозным надвигающимся будущим» [100, с. 206]. Н. Велехова в статье с говорящим названием «Над кем смеялся Эрдман?» (1989) утверждает, что Эрдман смеялся «не над этими людьми - что смеяться над обреченными, участвующими в не ими придуманном фарсе», он «смеялся над диктаторской властью» [102, с. 58].
По тем же соображениям впервые опубликованные в эти годы «Зойкина квартира» (Современная драматургия, 1982, № 2) и «Багровый остров» (Дружба народов, 1987, № 8) высоко оцениваются исследователями за найденные в них элементы сатиры. А. Нинов (1988) видит в «Багровом острове» сатиру против «пошлой литературщины, перекрашенной в красный или даже багровый цвет», и «широко распространенного приспособленчества», «отношений зависимости и диктата, губительных для искусства» [191, с. 20], С. Комаров (1989) - сатиру на «культурно-идеологические претензии мещанства, подмену ими пролетарской идеологии и культуры» [290, с. 13]. Н. Киселёв (1991) называет целью пьесы задачу «обличить и заклеймить приспособленчество в искусстве, политическую спекуляцию на революционной тематике, бесстыдство и беспринципность "повелителей репертуара"» [154, с. 150].
В 1980-е годы становится всё более популярной теория М. М. Бахтина, и исследователи начинают сознательно выделять карнавальные элементы в пьесах Эрдмана и Маяковского. Л. Руднева в статье 1987 года «Комедия Н. Эрдмана, её триумф и забвение» выделяет в постановке Мейерхольда такие элементы карнавала, как «приёмы народного, площадного театра и буффонады, балагана», не включая их в единое карнавальное целое [216, с. 30]. Карнавал как таковой в пьесе впервые отмечает А. Свободин в статье 1987 года: «В центре комедии заговор "бывших людей", превращающийся в сцене свадьбы в какой-то вселенский карнавал» [225, с. 182]. Н. Велехова видит в пьесе «карнавал очумевшей и вместе с тем несдавшейся Москвы нэповского времени: карнавал, который почуднее, чем у Рабле» [102, с. 59].
Как карнавальную традицию начинают осмыслять в эти годы и народность драматургии Маяковского (ее народно-поэтические, фольклорные истоки, близость к народной драме). Так же, как и у Эрдмана, наряду с сатирой исследователи выделяют в творчестве Маяковского-драматурга то, что ею не является, включает её в своё амбивалентное единство, - карнавальное начало. Так, Ю. Смирнов-Несвицкий в работе 1980 года, продолжая называть Маяковского сатириком, видит и «генетическую, морфологическую связь» «народно-смеховой культуры разных народов» с его драматургией, в которой находит «элементы ярмарочной, карнавальной стихии минувших эпох, в том числе средних веков и эпохи Возрождения». По мнению исследователя, «это была сознательная ориентация Маяковского» [237, с. 40].
В творчестве Булгакова начинают видеть традиции древних форм пародийного искусства. Так, Ю. Бабичева (1982) связывает пьесу «Багровый остров» с «сатировой» драмой, «завершавшей когда-то высокую трагедийную трилогию как своего рода «корректив смеха» в односторонней серьёзности высокого и прямого слова» [89, с. 96].
Пьеса «Самоубийца» до 1990-х годов была исследована в меньшей степени, чем «Мандат». Это объясняется тем, что, написанная в 1928 году, пьеса так и не была поставлена при жизни автора. В 1920-е годы пьесу пытались поставить несколько театров - ТИМ, МХАТ и Театр им. Евг. Вахтангова. Но в 1930 году пьеса была запрещена (и хотя ещё несколько лет Станиславский пытался осуществить постановку и даже обращался по этому поводу к Сталину, комедия «Самоубийца» так и не была поставлена), а сам автор в 1933 году оказался в ссылке.
Впервые на родине автора пьесу увидели на сцене только в 1982 году в Театре сатиры В. Плучеком в сокращенном варианте, но вскоре была снята с репертуара и возобновлена лишь в 1987 году. В 1990 году состоялась постановка пьесы в Театре на Таганке, осуществленная близким другом Эрдмана Юрием Любимовым.
О том, как оценили «Самоубийцу» до её публикации и постановки, когда о ней знали немногие, известно мало. К. Станиславский в письме к Вл. Немировичу-Данченко назвал пьесу «великолепной» и признавался, что во время чтения её автором «так хохотал, что должен был просить сделать длинный перерыв, так как сердце не выдерживало» [245, с. 372]. А. Луначарский, по воспоминаниям его жены, «после того, как <...> смеялся чуть не до слез и несколько раз принимался аплодировать, <...> резюмировал, обняв Николая Робертовича за плечи: "Остро, занятно... но ставить "Самоубийцу" нельзя"» [168, с. 22].
Действительно, пьесу «Самоубийца», как и «Мандат», в 1930-е годы критика отрицала. Автора обвиняли в сатирическом изображении советской действительности и даже в контрреволюции. Так, Вс. Вишневский в письме Зинаиде Райх (1932) называл пьесу «насквозь порочным текстом, <...> разрозренным на реплики контрреволюционным монологом» [276, с. 288]. Б. Ал перс в статье 1932 года «Жанр советской комедии» характеризовал «Самоубийцу» как «комедию с надрывом, сатирический памфлет», «обличающий не отдельные явления, но всю строящуюся общественную систему в целом» [84, с. 187]. П.Керженцев находил в «Самоубийце» «защиту права мещанина на существование», называл её «определенным политическим выступлением против линии партии» [151, с. 2].
Более сдержанную оценку даёт Вс. Иванов в отзыве на пьесу, написанном для редакции альманаха «Год шестнадцатый» в 1932 году. Он называет «Самоубийцу» «хлестким, хотя и устаревшим фельетоном» [276, с. 290], «пьесой среднего качества». Тем не менее, «оную пьесу» он предлагает «напечатать», «чтобы разоблачить мифическую гениальность», «т.к. вокруг неё создалась легенда и очень много людей искусства считает, что непоявление её на сцене или в печати есть факт затирания гения». По его мнению, «выпады, вроде реплик писателя и т.п., стоит вычистить, ибо они представляют малую художественную ценность и вряд ли её улучшат, хотя именно эти-то выпады и придают известный "перец" пьесе» [276,
с. 291]. Мы согласны с точкой зрения М. Мироновой, которая в статье «Специфика театральной критики 1920-х годов» (2004) называет этот отзыв проявлением «одного из частых в то время приёмов намеренного несоответствия содержания текста и его цели», когда «внешне отрицательный тон статьи должен был замаскировать просьбу опубликовать запрещённую пьесу хотя бы с купюрами» [182, с. 155].
В послевоенные годы существование «Самоубийцы» старательно замалчивается, а немногочисленные упоминания носят отрицательный характер. Так, О. Литовский в своих воспоминаниях, опубликованных в 1958 году, утверждал, что «при всей талантливости..., при всём блеске отдельных сцен» пьеса, «хотел или не хотел этого автор - была крайне реакционна» [167, с. 129], и называл её «политически фальшивой» [167, с. 130].
В 1960-е годы, когда благодаря реабилитации Мейерхольда отношение к «Мандату» меняется в лучшую сторону, и оценка «Самоубийцы» становится положительной. Как и первой пьесе Эрдмана, «Самоубийце» приписывается сатирический пафос, направленный на мещанство. Так, С. Владимиров в «Очерках истории русской советской драматургии» (1963) утверждает, что в «Самоубийце» «объектом сатиры становилась "интеллигентщина"» [196, с. 63]. Первое серьёзное исследование пьесы - статья Н. Киселёва «Комедия Н. Эрдмана "Самоубийца"» (1969). Желая ввести имя Эрдмана в научный обиход, литературовед явно политизирует пьесу. Он видит в ней «гневное, безжалостное разоблачение мещанства и мелкобуржуазной интеллигенции» [153, с. 192], пытающихся «утвердить себя <...> в условиях всё более крепнущей диктатуры пролетариата» [153, с. 187]. Томский исследователь убежден, что автор не сочувствует своим героям [153, с. 192].
После публикации пьесы в 1987 году литературоведы не так однозначны в оценке авторского отношения к героям. А. Свободин в статье 1987 года «Легендарная пьеса и её автор» утверждает, что хотя «Самоубийца», как и «Мандат», «углубляется в мир мещанина», у Эрдмана
«сквозь сатиру и смех, где-то, может быть, на втором или на третьем плане "капают слезы", возникает жалость...» [225, с. 183].
В 1990-е и затем в 2000-е годы в связи с выходом в свет первого сборника эрдмановских пьес (1990) их начинают изучать как единое творчество драматурга. Кроме статей, появляются основательные диссертационные исследования (И. Канунниковой, В. Каблукова, Е. Поликарповой) и монографии (Е. Шевченко (Поликарповой)), посвященные творчеству Эрдмана.
Исследователи, по большей части, по-прежнему видят в комедии «Мандат» сатиру, но расходятся в определении её объекта. Некоторые продолжают придерживаться той точки зрения, что Эрдман высмеял в своём произведении мещанство и в соответствии с этим либо принимают, либо отрицают пьесу. Например, В. Петров в статье 1991 года «Пьеса Н. Эрдмана "Мандат" в контексте сатирической комедиографии 20-х гг.» объясняет «особую актуальность» пьесы «в наши дни» тем, что драматург «не только разоблачал социальную мимикрию "бывших", но и обличал весьма живучее мещанство и нарождающийся бюрократизм» [200, с. 70]. Литературовед не сочувствует героям пьесы и уверен, что и автор относится к ним так же [200, с. 73]. На той же позиции стоит А. Хржановский [262, с. 10].
Напротив, М. Смоляницкий в статье 1992 года обвиняет автора в том, что пьеса идеально соответствовала идеологическим задачам эпохи 1920-х годов: «"Мандат» <...> как нельзя лучше соответствовал "социальному заказу" времени» [240, с. 121]. «Принцип взаимоотношений между сценой и залом, предложенный создателями "Мандата"» Эрдманом и Мейерхольдом критик называет «прямым, "проповедническим" хманипулированием коллективным сознанием» [240, с. 119].
М. Димант и Л. Дубшан в статье «Раз ГПУ, зайдя к Эзопу...» (2000) обвиняют пьесу в «насмешке над обывателями, пытающимися прислониться к чему-то твердому: то ли к советскому строю, который им чужд, то ли к монархизму, который мертв». Авторы совершенно не согласны с
«либеральным театроведением перестроечного времени», которое «уверяло, что в "Мандате" присутствовала сатира и на самоё советскую жизнь, только замаскированная» [133].
Ст. Рассадин в статье, напечатанной в биографическом словаре «Русские писатели 20 века» (2000), также видит в «Мандате» «органическую часть» «истинно советской сатиры, исполненной пафоса, пусть не вторящего указаниям победоносной власти, но созвучного им». Конечно, - оправдывает драматурга критик, - «временами в "Мандате" пробуждался нечаянный <...> драматизм», «особенно в трагифарсовом финале». Но, по мысли Рассадина, слова «обыватель», «мещанин» и для Эрдмана «звучали пока приговором, конечно, не трибунальским, к чему склонялся тот же Маяковский..., но не подлежащим обжалованию приговором истории» [283, с. 793].
Противоположной точки зрения придерживаются исследователи, которые находят причины непреходящей актуальности обеих пьес в том, что их сатира направлена на советский строй. Так, Л. Велехов в статье «Самый остроумный» (1990) пишет, что под воздействием «вульгарных штампов советского литературоведения» «Мандату» «продолжают приписывать избитую идею разоблачения мещанства», и считает такую трактовку неверной, «обесценивающей пьесу» [101, с. 91]. Для Велехова Эрдман -защитник мещанства, который «разоблачил и высмеял» «тупую и бездушную репрессивно-бюрократическую систему» [101, с. 92]. И. Иванюшина в кандидатской диссертации 1992 года, посвященной утопическому сознанию Маяковского, видит в «Мандате» «сарказм», направленный на «абсурд системы» [285, с. 14], В. Шенталинский в книге «Донос на Сократа» (2001), посвященной взаимоотношениям писателей с советской властью, утверждает, что в «Мандате» Эрдман «разоблачал не частные недостатки людей, а саму репрессивно-бюрократическую систему» [270, с. 430].
Точно так же и «Самоубийцу» в 1990-е годы критики и литературоведы ценят за наличие в пьесе, по словам А. Свободина, «сатирической модели общества» [227, с. 17]. Режиссер В. Плучек,
ставивший эту пьесу, в воспоминаниях 1997 года утверждает, что «все сатирические стрелы "Самоубийцы" идут по <...> "сталинщине"» [107, с. 233]. По мнению М. Иовановича (2000), в «Самоубийце» представлен «бунт личности против бездушного государства» [145]. Е. Сальникова считает, что «в своих пьесах Эрдман не столько изобличает несознательных граждан, сколько передаёт полную безнадежность советского будущего» [220, с. 7]. По мнению М. Диманта и Л. Дубшана, здесь «сатира политическая» на всё -«марксизм, социализм, советское правительство, вождей и существующий строй в целом» [133].
Пьесы характеризуют и как сатиру, направленную в два адреса. А. Свободин во вступительной статье к сборнику произведений Эрдмана отмечает, что в «Мандате» есть сатира и «на мещанство», и «на тот, другой, отраженный в пьесе мир» [227, с. 9] — на советскую систему, точнее, на её бюрократический аппарат, на замену Человека бумажкой, «мандатом». И. Сухих в статье 1995 года полагает, что «смех "Мандата" универсально-разнообразен, направлен в несколько адресов» [246, с. 215]: на «поклонников покойного государя-императора» и на «новомодных совбуров (советских буржуа) и совмещай» [246, с. 217]. Е.Поликарпова (Шевченко) в диссертационном исследовании 1997 года «Трагикомический театр Николая Эрдмана» называет объектом сатиры Эрдмана и мещанство, и советскую власть [297, с. 9].
Таким образом, идейный пафос пьес сводится к политической сатире. При таком подходе текст неизбежно искажается при анализе. Л. Велехов в вышеупомянутой статье 1990 года утверждает, например, что идея «Самоубийцы» - это «мысль о том, что человек в нашем обществе стеснён такой последней степенью несвободы, что он не только не волен выбирать, как ему жить, но даже умереть так, как хочет, не может» [101, с. 93]. Так же рассуждает и И. Канунникова в статье «Клетка и Гапіта allegro (Николай Эрдман)» в «Очерках русской литературы XX века (после 1917 г.)» (1994) [146, с. 267].
Вот почему озникает новая перспективная тенденция и в осмыслении жанра пьес «Мандат» и «Самоубийца». В их неоднозначном пафосе верно начинают видеть не только комическое, но и трагическое начало. Так, Л. Велехов находит у Эрдмана по отношению к героям юмор, окрашенный трагическими тонами: «Если каким смехом и мог над ними посмеяться» Эрдман, то «смехом, окрашенным трагической иронией» [101, с. 91]. И. Канунниковой жанр «Мандата» обозначается как «шуто-трагедия» [146, с. 264], как «"трагикомедии" или "трагифарсы"» [256, с. 173] определяет жанр пьес Д. Фридман в статье «Кто превращает тьму во свет...» (1999), «трагический фарс» видят в «Мандате» М. Йованович [145], в «Самоубийце» - Т. Сардинская (2004) [221]. К сожалению, при этом характер комического пафоса зачастую определяют как сатирический. Так, О. Фельдман в статье 1990 года отмечает «нерасторжимость сатиры и трагедии, определяющую природу письма драматурга» [254, с. 119].
Более основательно изучается трагикомический характер творчества Эрдмана в диссертационных исследованиях и монографиях. Как «мир трагикомедии» рассматривается эрдмановскии театр в интересной кандидатской диссертации Е.Поликарповой (Шевченко) (1997). Автор утверждает, что «талант Эрдмана, безусловно, комический», но «в культуре XX века <...> очень часто комический талант не может выразить себя иначе, как в трагикомической форме». Поэтому «драматургическое новаторство Эрдмана проникнуто сознанием того, что комическое в современном мире приближается к трагическому; комическое даже более безысходно, чем трагическое. «Человеческая комедия» у Эрдмана сопряжена с ощущением трагизма человеческого существования» [297, с. 4]. В следующей своей работе «Театр Николая Эрдмана» (2006) - первой отечественной монографии, посвященной творчеству Эрдмана, - Е. Шевченко называет гротеск пьес автора «трагикомическим»: «трагическое существование человека в современном мире
выявляется в "нетрагических формах"» — «бурлеске, шутовстве, клоунаде, фарсе, балагане» [269, с. 205-206].
Наконец всё более соответствующим природе творчества Эрдмана в современном литературоведении признается подход с позиций карнавализации. Так, В. Плучек интерпретирует «Самоубийцу», обращаясь к Бахтину: «Эта пьеса была неугодна, так как в ней, по существу, впервые возникала проблема антистраха. <...> Дальше антистрах в этой пьесе имеет колоссальное количество различных ипостасей. Мне нравится <...> "бахтинианская". У Бахтина выступает смех всегда, как антистрах смерти, как некая народная философия жизни. Интересно, что в этой пьесе всё построено, весь последний акт построен на страшных вещах заигрывания со смертью. Здесь смерть выступает, как антистрах смерти. <...> Смерть превращена в фарс» [107, с. 233].
Подобый подход связан с общим интересом к теории карнавала. Так, исследователи последних десятилетий всё более акцентируют внимание на карнавализации в драматургии Маяковского. Исследуя фольклоризм пьесы «Мистерия-Буфф», Л. Шагарова (1990) находит в драматургии Маяковского «традиции русского народного театра» [267, с. 65] и отмечает, что автор «опирается на народную смеховую культуру» [267, с. 67]. В. Головчинер в интересной, новаторской работе 1991 года, давшей толчок многим исследователям, рассматривает комедии «Клоп» и «Баня» в единстве с «Мистерией-Буфф» и связывает их со средневековой мистерией [119, с. 9]. Наличие карнавального мироощущения в раннем творчестве Маяковского отмечает И. Иванюшина, исследующая утопический характер творчества поэта и драматурга [285]. «Театральным действом <...> сродни народной смеховой культуре, народному театру, балагану» называют «Клоп» С. Кормилов и И. Искржицкая [161, с. 112] и указывают, что Маяковскому «было свойственно оценивать одно и то же, как в народной смеховой культуре, амбивалентно» [161, с. 117]. Карнавальные традиции видит в драматургии Маяковского Е. Смокотина. Её статья 2001 года посвящена
трансформации мотивов верха и низа в пьесе «Мистерия-Буфф» [238, с. 10]. «Систему средневековых жанров» [304, с. 6] - мистерию, миракль, моралите, народный театр (в частности, комедию дель арте) — изучает в драматургии Маяковского О. Чебанова [263]. Но всестороннего исследования карнавализации в пьесах Маяковского 1920-х годов литературоведы не проводят.
Гротескно-буффонадные традиции в «Багровом острове» Булгакова отмечает В. Петров [199], Ю. Неводов связывает творчество писателя с жанром мениппеи [189].
Точно так же исследователи лишь обозначают карнавальные тенденции в творчестве Эрдмана. Так, в статье «Элементы пародии в поэтике Н. Эрдмана» (1995) И. Канунникова отмечает как «одну из главных составляющих творческого метода» драматурга «пародийные элементы» [147, с. 30], в осмыслении которых «как особого типа прозаического и поэтического слова» ориентируется на «ставшую уже классической книгу» Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» [147, с. 30-31]. В основательной кандидатской диссертации 1996 года «Художественный мир Н. Р. Эрдмана» литературовед уделяет внимание и другим составляющим карнавальной стихии. Так, одним из «жанрообразующих компонентов» в пьесах Эрдмана она называет «элементы "грубой комики"» [288, с. 6] и подчеркивает их «решительную реабилитацию» [288, с. 15] автором. Карнавальный характер драматургии Эрдмана исследователь видит «естественным следствием "карнавализации" жизни в переломные моменты истории» [288, с. 13]. Но, оговаривается И. Канунникова, если «обилие элементов "грубой комики"» в ренессансной драматургии «объяснялось общим жизнерадостным настроением, рождалось из ощущения полноты
3 Имеется в виду «Проблемы творчества Достоевского» (1929). Известный же нам классический вариант «Проблемы поэтики Достоевского» появился гораздо позже, в 1972 году.
бытия», то у Эрдмана карнавальное поведение героев провоцируется «невыносимыми окружающими обстоятельствами» [288, с. 8].
В художественном мире Эрдмана И. Канунникова отмечает и «гротескные приёмы», составляющие основу карнавального языка, но подчиняет их сатире: так как Эрдман «был сатириком <...> "до кончиков ногтей"», то и гротеск «необходим Эрдману именно для. достижения сатирического эффекта» [289, с. 60]. В итоге исследователь осмысляет функцию карнавального начала в пьесе как подчинённую. По её мнению, и «Мандат», и «Самоубийца» - «сатирические комедии», «основой структурного единства (и вообще художественной целостности пьес) оказывается именно сатира: особенности комедийного действия подчиняются сатирическому пафосу и служат сатирической цели» [288, с. 6].
Карнавальный характер драматургии Эрдмана в целом отмечает и В. Каблуков в диссертации 1997 года. Изучая проблемы поэтики Эрдмана, исследователь обозначает в пьесах «появление карнавальных образов» [286, с. 16], вызванное «эсхатологическим мироощущением, пронизывающим всю художественную ткань пьес Н. Эрдмана» [286, с. 16]. Литературовед называет карнавализацию «одним из самых продуктивных способов организации смешного в поэтике Эрдмана», карнавал, по его мысли, используется «для создания комического эффекта» [286, с. 17].
Е. Поликарпова (Шевченко) в диссертационном исследовании (1997) также видит «гротескные формы и гротескные мотивы» в пьесе: «Гротеск Эрдмана приближается к модернистскому гротеску, истоки которого- - в гротеске романтическом» [297, с. 11].
Однако, по мнению- исследователей, карнавал в поэтике Эрдмана выполняет подчинённую функцию, основой же творчества Эрдмана является синтез трагического и комического.
Так, Е. Поликарпова (1997) отмечает, что в «Самоубийце» «смерть эрдмановского героя» «носит карнавальный характер» [298, с. 186], «в
антитезе "жизнь - смерть" в случае с Подсекальниковым "жизнь" выходит на первое место <...> на самом низшем, "растительном" уровне, на уровне "существования"». По её мнению, карнавальное, «гротескное и трагикомическое в финале «Самоубийцы» соединяются, обнажая трагедию индивидуального существования» [298, с. 187]. Исследователь выделяет в пьесе также «глубокий интерес к <...> фарсу и родственной ему commedia dell"arte» [297, с. 14]. В монографии 2006 года развиваются эти положения. В «Самоубийце» Е. Шевченко (Поликарпова) видит «попытку преодолеть трагическую ситуацию, в которой оказался "маленький" человек XX века, при помощи гротескно-комических - "зрелищных" - форм: испытанных средств фарса, буффонады и балагана» [269, с. 121].
В. Каблуков считает, что «карнавализация не приводит к освобождению от страха, наоборот, она усиливает страх, вызывает новые приступы ужаса перед жизнью» [286, с. 16], в «Самоубийце» «элементы карнавализации, в связи с центральной темой самоубийства, подчеркивают неотвратимость смерти, упрочивают трагикомическое звучание произведения» [286, с. 17].
Стремление отказаться от теории карнавализации побуждает исследователей переключиться на балаганную традицию. Так, Ю. Щеглов в оригинальной статье «Конструктивистский балаган Эрдмана» (1998) подробно рассмотрел проблему «родства эрдмановской драматургии с балаганной фольклорной комедией» [273, с. 122]. Таким образом, исследователь проанализировал лишь одну из составляющих карнавальной стихии в отрыве от единого карнавального целого. «Из репертуара народного театра ближайшие параллели к Эрдману обнаруживаются в кукольных сценариях о Петрушке и в комических диалогах барина со слугой. Отголоски этих фольклорных жанров налицо уже в списке действующих лиц и в вещественном реквизите эрдмановских комедий», — пишет литературовед. В «Мандате» он отмечает наличие таких балаганных персонажей, как Шарманщик, Барабанщик и Женщина с попугаем и бубном, а также
«вещественного реквизита» — сундука и гроба, являющихся «нередким элементом балаганных комедий» [273, с. 123]. Общее с народным театром у Эрдмана Ю. Щеглов видит «на уровнях тематики, сюжетных мотивов и фарсовых трюков». Например, по мысли Щеглова, разговор Автонома Сигизмундовича с Агафангелом соответствует «популярному жанру диалога барина (помещика:, офицера) со слугой (старостой, денщиком) [273, с. 124].
С началом нового века литературоведы, говоря о карнавальном-характере драматургии Эрдмана, предпочитают опираться не столько на Бахтина, сколько на развивающие бахтинскую теорию работы Д. С. Лихачёва, исследовавшего «антимир» древнерусской смеховой культуры [55; 57].
Так, по мнению О. Журчевой (2001), Эрдман в «Мандате» «более, чем кто-либо другой, отразил всю полноту традиции народною праздничной карнавальной культуры средневековья, причем в её «кромешном» русском варианте» [137, с. 195]. Исследователь видит в пьесе «карнавальное перевёртывание верха и низа» (хотя и сводит его к перевёртыванию «важного и неважного, быта и бытия»), «праздничную амбивалетность и универсальность смеха». Однако, по мнению литературоведа, «полная имманентность идеального начала от жизни людей, изображенных в пьесе, его фатальная враждебность им, заставляет вспомнить, и другую, русскую, более близкую традицию народного театра». Исследователь предлагает вспомнить «о национальной специфике древнерусского "смехового мира"» и опирается на введённые Лихачёвым понятия- «антикультура», «антимир» [137, с. 194]. О. Спехова. в статье «Мотив оборотничества в пьесе Н.Р. Эрдмана «Мандат»» (2002) также видит в пьесе «своего рода "антимир"» [244, с. 90].
Ориентируясь на работу Ю. Щеглова, обращаются к творчеству Эрдмана многие литературоведы. В. Головчинер в статье «"Черти родят болото» или Проблема интерпретации пьес Н. Эрдмана» (2005) отмечает в пьесе Эрдмана «широчайшие возможности комического в <...> фольклорно-
балаганном <.. .> варианте» [117, с. 269].
Е. Шевченко (Поликарпова) в монографии 2006 года приходит к выводу, что поэтика Эрдмана «принципиально несводима к какой-либо доминанте», она «сформировалась на пересечении множества поэтик» и «в качестве наиболее весомых выступают поэтика конструктивизма, поэтика балагана и поэтика гротеска» [269, с. 202-203].
О. Журчева в статье 2007 года отмечает «родство эрдмановской драматургии с балаганной фольклорной комедией» [139, с. 87]. В результате карнавальное начало в творчестве Эрдмана сводится к балаганной традиции. По мысли Журчевой, в пьесе «традиции русского балагурства <...> прослеживаются на уровне конфликта и композиции, мотивов и приёмов, но в первую очередь, на уровне языка комедии» [139, с. 87], это «словесные "пинки и оплеухи"», «загадки и недоразумения», «переплетение двух смысловых пластов: бытового, утилитарного и абстрактного» [139, с. 88]. Таким образом, исследователь видит в пьесе «использование словесных приёмов народной смеховой культуры» [139, с. 92] именно как балаганную традицию, вне карнавального целого.
Мы видим, что многие литературоведы в 1990-2000-е годы избегают употреблять термин «карнавал» по отношению к творчеству Эрдмана. Такая позиция исследователей связана с распространившейся в эти годы критикой теории Бахтина.
Противостоит этой тенденции Н. Гуськов в основательной монографии «От карнавала к канону» (2003). В отличие от вышеупомянутых исследователей, он пишет о карнавальной традиции в творчестве Эрдмана и других драматургов, опираясь на теорию Бахтина в целом. В его работе, посвященной процессам карнавализации советской комедии 1920-х годов, развёрнута интересная, продуктивная концепция. Литературовед отмечает карнавальный хронотоп в пьесах Эрдмана (площадной характер советской коммунальной квартиры [42, с. 74]), мотив «оживших» вещей, которые
становятся «почти полноправными действующими лицами пьесы» [42, с. 80], мотив праздника (свадьба в «Мандате» и поминки в «Самоубийце» [42, с. 85-86]), «использование "фамильярной" речи» [42, с. 93], сюжетный приём увенчания-развенчания в «Мандате» [42, с. 105-106], особый тип шута [42, с. 123]. Однако Н. Гуськов использует пьесы Эрдмана лишь как «примеры и обоснования, количественно ограниченные вследствие многочисленности изучаемых источников» [42, с. 16].
В XXI веке появляются совершенно новые истолкования сюжета, новые жанровые определения пьес Эрдмана. В диссертационной работе Л. Тильги «Поэтика драмы рубежа 1920-х - 1930-х годов и мотив самоубийства» (1995) «Самоубийца» рассматривается «в связи с сюясетным мотивом, актуальность которого усилилась к концу 1920-х годов» - мотивом самоубийства [302, с. 3].
Через призму гоголевского «Ревизора» рассматривает пьесы' Эрдмана Ю. Селиванов в двух статьях под одинаковым названием «Н.Р. Эрдман и Н.В. Гоголь: Особенности художественного взаимодействия» (2000). Он уверен, что в «Самоубийце» «Эрдман пришел к совершенно особому типу художественного взаимодействия с гоголевской драматургической поэтикой», более того, по мнению автора, «Самоубийца» «создавался как текст, написанный "поверх" "Ревизора"», «мог выявить и раскрыть свои потенциальные резервы смысла только в соотнесении с "Ревизором"» [228, с. 4].
О. Журчева (2001) в отношении «Мандата» вводит новое для драматического произведения жанровое определение - анекдот [138]. В. Головчинер в упомянутой ранее статье 2005 года находит в пьесах «коннотации сюжета о договоре человека с дьяволом, о продаже души чёрту» [117, с. 266]. По её мнению, драматург «исследует общественную природу человека, социальную психологию и поведение людей, в массе своей далёких от рычагов государственного управления», и «показывает, как велика их готовность вступить в контакт с властью для достижения комфорта
ценой "продажи" близких, потери себя, как опасны <...> для сознания отдельного человека и состояния общества в целом и возносящая, лишающая разума эйфория победителя, и чувство беспредельного страха побеждённых» [117, с. 269]. Эти положения прозвучат и в её монографии 2007 года «Эпическая драма в русской литературе XX века» [120].
Последние годы отмечены повышенным интересом к «Самоубийце». К сожалению, некоторые исследователи строят свои концепции на деформации текста пьесы. Например, Ю. Селиванов в статье 2007 года отмечает в «Самоубийце» «сознательное обращение Эрдмана к античной мифологии» и утверждает, что Подсекальников - «одна из аполлонических масок греческого бога вина и оргий». Сюжет пьесы, уверен литературовед, «отражает структуру мифа об умирающем и воскресающем боге» [230, с. 172].
В том же ключе мыслит и М. Миронова. Она считает, что «драматургию Н. Эрдмана необходимо рассматривать как неомифологический текст». Исследователь утверждает, что Подсекальников, «точнее его душа, доверяя модели восхождения к Раю», коммунистическому «светлому будущему», «пытается вырваться из Ада», «настоящей жизни, хаоса» [181, с. 140]. При этом искажается текст пьесы: её сюжет, реплики персонажей, не соблюдается принцип целостного анализа текста.
Однако показательны сами поиски новых концепций: они выявляют неудовлетворенность литературоведения имеющимися исследованиями, зачастую идеологизированными в оценках.
Таким образом, авторы критических и литературоведческих работ в большинстве своём видят в пьесах Эрдмана сатиру, объект которой последовательно уточняется. Некоторые исследователи, рассматривая пьесы как трагикомедии, акцентируют трагический пафос, недостаточно выясняют роль комического в пьесе. Такие исследования страдают неполнотой изучения комического начала.
Более соответствующим творчеству драматурга нам представляется подход к пьесам с позиций карнавализации.
Комедии Эрдмана создавались одновременно с такими карнавализованными комедиями, как «Багровый остров» и «Зойкина квартира» М. Булгакова, «Клоп» и «Баня» В. Маяковского. На сопоставление их критикой и литературоведением влияла политическая конъюнктура времени. В 1930-е годы пьесы «Клоп», «Баня» и «Мандат» противопоставлялись друг другу по их идейным установкам: Маяковский в пьесе «сумел разоблачить и пригвоздить к позорному столбу мещанство», а Эрдман «защищал обывательскую среду, сочувствовал ей, жалел её» [152, с. 179]. В 1950-е годы полагали, что «Мандат» уступает «по своим идейным достоинствам» [195, с. 3] и «по значимости социальных обобщений» [243, с. 75] комедиям «Баня» и «Клоп».
Сегодня эти пьесы по большей части противопоставляют, но уже совсем по другим параметрам. Политическая окраска понятия «мещанин» ослабла, и основой для сопоставления пьес становится отношение к героям как «маленьким людям». По мнению И. Иванюшиной, у Эрдмана тема «маленького человека» достигает «трагического звучания», Маяковский же «прошел» мимо этой темы, «перед нами <.. .> различные философские подходы к проблеме человека» [285, с. 14].
Маяковского и Булгакова принято чаще резко противопоставлять в связи с различием их социальных и эстетических позиций. Как «два полюса, два антипода и в человеческом, и в литературном плане» осмысляют двух драматургов литературоведы 90-х годов [264, с. 30].
Пьесы Булгакова и Эрдмана исследователи практически не сопоставляют. В работе А. Баркова 1994 года Эрдман назван прообразом Коровьева [90]. Б. Соколов мельком упоминает в связи с «Зойкиной квартирой» «Мандат» и «Самоубийцу» [242, с. 227].
На наш взгляд, существует некая общая система, в рамках которой развивалась драматургия Эрдмана, Маяковского, Булгакова 1920-х годов.
Это карнавальная стихия, проявляющаяся, но по-разному, в драматургии писателей-современников.
Проблему карнавализации литературы основательно и подробно решал М. Бахтин. Созданная в 20-е - 30-е годы XX века, теория карнавализации. Бахтина стала известна- широкому кругу исследователей лишь в 1965 году. Согласно ей карнавальный смех включает в себя и сатиру, и- юмор в неразрывном амбивалентном единстве (их вычленение стало возможным позже, когда появились сатирические и юмористические произведения.) Эта теория комического представляется нам наиболее адекватно отвечающей всему строю и языку пьес Эрдмана, созданных в карнавализованную эпоху 1920-х годов - тогда же, когда складывалась теория Бахтина.
М. Реутин видит «суть бахтинского* метода» и основную заслугу исследователя в поиске общего «знаменателя» ко всей смеховой народной культуре [76, с. 12]. На наш взгляд, единым-знаменателем и для драматургии Эрдмана является карнавальный, амбивалентный смех. По нашему мнению, наиболее верное осмысление творчества Эрдмана возможно лишь при исследовании «Мандата» и «Самоубийцы» с учётом карнавального характера-эпохи 1920-х годов, признанного многими исследователями.
Так, Е. Серебрякова в диссертационной работе «Театрально-карнавальный компонент в прозе М.А. Булгакова 20-х годов» (2002) доказывает, что «современники тех горьких лет не раз с удивлением отмечали весёлый празднично-карнавальный дух эпохи» [300, с. 17]. По мнению исследователя, «массовое сознание, по природе глубоко архаичное, нашло форму, наиболее адекватную для выражения всей глубины социального бунта, выросшую на почве мифа, - карнавал» [300, с. 18].
В упомянутой, монографии 2003 года Н. Гуськов утверждает, что «средневековый карнавал <...> в Новое время уже не способен возродиться в чистом виде вследствие трансформации всех сфер жизни и эволюции культурного сознания», но «на протяжении последних трёх столетий, в том
числе в России XX в., нередко обнаруживаются не только некоторые черты карнавальное в произведениях ряда авторов, но и ситуации историко-культурного процесса, типологически подобные карнавалу, непосредственно или косвенно связанные со средневековой смеховой традицией» [42, с. 19].
Вслед за В. Химич («Карнавализация как стилевая тенденция в литературе 20-х гг.», 1994 [79]) Гуськов называет 1920-е «порой расцвета» карнавального начала в России, в то время как 1900-1910-е годы - период его «возрождения», а 1930-е — «кризиса и постепенного исчезновения» [42, с. 20]. Преобладание карнавального начала в искусстве 1920-х исследователь объясняет «спецификой искусства, своеобразием жизни 1920-х годов и характером их взаимодействия» [42, с. 28]. По мнению Гуськова, в эти годы «карнавальный элемент занял значительное место в наиболее значительной в художественном и историко-культурном отношении части комедийных пьес» той эпохи [42, с. 63].
Актуальность исследования состоит в полном литературоведческом анализе пьес Эрдмана как карнавализованных, тем самым принадлежащих своей эпохе и одновременно включённых в «большое время» развития литературы.
Научная новизна исследования заключается в утверждении карнавализации организующим началом драматургии Эрдмана, проявляющимся во всей полноте и связи своих элементов, что подтверждается сопоставлением с одновременно созданными комедиями В. Маяковского и М. Булгакова, имеющими сходную эстетическую (карнавальную) природу.
Объектом исследования стали крупные формы драматургии Эрдмана - пьесы «Мандат» и «Самоубийца». При необходимости сопоставления анализируются также комедии «Клоп» и «Баня» Маяковского, «Багровый остров» и «Зойкина квартира» Булгакова. Карнавализованные пьесы Булгакова о революции и гражданской войне объектом сопоставления не стали, т.к. с пьесами Эрдмана соотнесены произведения, близкие по
тематике (нэп, отношение к утвердившейся советской власти). Предметом изучения являются карнавализованные составляющие поэтики означенных пьес Эрдмана, Маяковского, Булгакова.
Цель работы — исследовать поэтику драматургии Н.Р. Эрдмана (пьес «Мандат» и «Самоубийца») в контексте драматургии карнавализованной эпохи 1920-х годов (Маяковский, Булгаков), изучить особенности проявления карнавального начала и характер его трансформации в этих произведениях.
Из указанной цели вытекают следующие задачи:
1. Обосновать состоятельность теории Бахтина в применении к
эпохе 1920-х годов и определить необходимые параметры анализа
карнавализованных произведений.
Исследовать характер проявления карнавального начала в сюжете, системе образов, поэтике в целом «Мандата» и «Самоубийцы» в контексте карнавализованной драматургии Маяковского и Булгакова 1920-х годов.
Сопоставить проявления языка карнавальных форм и символов в произведениях Эрдмана, Маяковского, Булгакова.
Проследить трансформацию карнавального гротеска в комедиях «Мандат» и «Самоубийца».
Уточнить пафос произведений Эрдмана и прояснить отношение автора к героям.
Методологической основой исследования стало учение М.М. Бахтина, согласно которому произведение нельзя рассматривать отдельно от предшествующих эпох, так как оно может уходить своими корнями в далёкое прошлое и быть включённым в диалог культур. Принципами анализа стали также культурно-исторический и имманентный подходы. Теоретической основой работы являются посвященные карнавальной культуре труды М. Бахтина и других учёных - как сторонников его теории (В. Проппа, Л. Пинского, Д. Лихачева, Вяч. Вс. Иванова), так и оппонентов (Ю. Манна, М. Реутина).
Положения, выносимые на защиту:
1. Карнавальное начало формирует пафос и поэтику драматургии
Эрдмана: организует сюжет в целом и построение отдельных сцен,
проявляется в системе образов и языке произведений.
2. В комедиях 1920-х годов карнавальное начало неизбежно
трансформируется от ренессансного гротеска к романтическому («Мандат»)
и модернистскому («Самоубийца»).
3. Среди карнавализованных комедий 1920-х годов - Маяковского,
Булгакова — пьесы Эрдмана занимают особое место последовательным и
полным проявлением карнавального начала.
4. Карнавализованные комедии Эрдмана тяготеют к смеху
амбивалентному, сатира лишь вносит некоторые штрихи в общую картину
жизни, так как герои Эрдмана — огромная часть населения, и изображение их
не может быть только сатирическим, то есть отрицающим. Напротив, в
произведениях Маяковского карнавал, бессознательно проявляющийся под
влиянием эпохи, корректировался политизированной авторской позицией, и
карнавальный смех превращался в сатиру.
Данными задачами обуславливается структура исследования: первая глава посвящена теории карнавала и карнавализации, во второй главе исследуются особенности карнавального начала в комедии «Мандат» в контексте комедий Маяковского и Булгакова, в третьей - трансформация карнавального гротеска в пьесе «Самоубийца». Работа включает в себя также введение, заключение и библиографический список, состоящий из 304 источников.
Научно-практическая значимость диссертации определяется тем, что она восстанавливает недостающие звенья отечественного литературного процесса 1920-х годов: укрепляет доказательства карнавализованного характера драматургии этого периода и проясняет позиции ведущих драматургов по отношению к новой (советской) действительности. Поэтому её результаты могут быть использованы при чтении общих и специальных
курсов по истории русской литературы и театра XX века, при составлении учебных и методических пособий для студентов-филологов и театроведов.
Основные положения диссертации получили апробацию в ряде опубликованных статей (Владивосток, 2002, 2003, 2004, 2007, Томск, 2008, Томск, 2009), опубликованных выступлениях и докладах на научно-методической конференции «Проблемы славянской культуры и цивилизации» (Уссурийск, 2004), Международной конференции молодых филологов (Таллинн, 2007), научно-практической конференции «Система искусств в структуре культурного пространства» (Владивосток, 2007) и Всероссийской научной конференции с международным участием «Системы и модели: границы интерпретаций» (Томск, 2007).
Необходимые параметры анализа карнавализованных произведений 1920-х годов
Понятие карнавала было введено в литературоведческий оборот М.М. Бахтиным в работах «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965) и «Проблемы поэтики Достоевского» (1972). Бахтин выделил эту категорию на основе исследования народной смеховой культуры эпох средневековья и Возрождения - «необозримого мира смеховых форм и проявлений», который «противостоял официальной и серьёзной (по своему тону) культуре церковного и феодального средневековья» [24, с. 8].
Смеховая культура, по Бахтину, представлена «тремя основными видами»: «обрядово-зрелищными формами», «словесными смеховыми произведениями» и «различными формами и жанрами фамильярно-площадной речи» [24, с. 9]. Особое внимание Бахтин уделяет карнавалу, но рассматривает его не столько в узком («карнавал в собственном смысле» [24, с. 9]), сколько в расширительном смысле - как «совокупность всех разнообразных празднеств, обрядов и форм карнавального типа» [21, с. 140].
В расширительном значении «карнавал» включает следующие основные понятия: «карнавальное мироощущение», особая «система поведения», «язык карнавальных форм и символов» и «карнавальный смех». Рассмотрим эти карнавальные категории.
1. Карнавальное мироощущение, по Бахтину, — это «основной мировоззренческий смысл народно-праздничных карнавальных форм» [24, с. 269], «убеждение в необходимости и возможности радикальной смены и обновления всего существующего» [24, с. 302]. Это «народное ощущение своей коллективной вечности, своего земного исторического народного бессмертия и непрерывного обновления - роста» [24, с. 275], причем «бессмертие народа ощущается в неразрывном единстве с бессмертием всего становящегося бытия» [24, с. 283] и сочетается с ощущением «относительности существующей власти и господствующей правды» [24, с. 282].
Разбирая карнавальное мироощущение, Бахтин следует за выдающимся учёным О. Фрейденберг, на монографию которой «Поэтика сюжета и жанра» (1936) он ссылается. О. Фрейденберг видит основу первобытной мысли в осознании «сменяющейся неизменности» жизни [78, с. 70-71], в осознании «неподвижно сменяющейся жизни» [78, с. 83]. По словам Бахтина, книга Фрейденберг «имеет большую ценность», в ней «собран огромный фольклорный материал, имеющий прямое отношение к народной смеховой культуре (преимущественно античной)». Но, по мнению исследователя, «истолковывается этот материал в основном в духе теорий дологического мышления, и проблема народной смеховой культуры в книге остается непоставленной» [24, с. 63].
2. Система поведения проявляется прежде всего в празднествах карнавального типа. Собственно карнавал как наиболее яркая обрядово-зрелищная форма - это «вторая жизнь народа, организованная на начале смеха» [24, с. 13], «временный выход за пределы обычного (официального) строя жизни» [24, с. 12], «пародия» на него, «мир наизнанку» [24, с. 16]. Карнавал «давал совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений» [24, с. 10]: этот «праздник ... смен и обновлений», «враждебный всякому увековечению, завершению и концу», «торжествовал как бы временное освобождение от господствующей правды и существующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и запретов» [24, с. 15]. Карнавал по идее своей всенароден и «носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны» [24, с. 12].
На карнавальной площади создаётся особая система поведения — «идеально-реальный тип общения между людьми, невозможный в обычной жизни», «вольный фамильярно-площадной контакт между людьми, не знающий никаких дистанций между ними» [24, с. 21-22].
3. По Бахтину, карнавалом в процессе его многовекового развития, подготовленного тысячелетиями развития более древних смеховых обрядов, «был выработан как бы особый язык карнавальных форм и символов» [24, с. 16]. В соответствии с карнавальным мироощущением, «враждебным всему готовому и завершённому, всяким претензиям на незыблемость и вечность», все формы и символы карнавального языка проникнуты «пафосом смен и обновлений, сознанием весёлой относительности господствующих правд и властей». Для него характерны логика «обратности», «наоборот», «наизнанку», логика непрестанных перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада, «разнообразные виды пародий и травестий, снижений, профанации, шутовских увенчаний и развенчаний» [24, с. 16].
Этот же карнавальный язык, по сути, имеет в виду Бахтин, вводя термин «гротескный реализм» для обозначения «гротескного типа образности» [24, с. 38] и - шире - «той особой эстетической концепции бытия», которая характерна для народной смеховой культуры [24, с. 25].
В основе этой эстетической концепции лежит гротеск — особый «метод построения образов» [24, с. 38], в котором «движение перестает быть движением готовых форм - растительных и животных — в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной неготовости бытия» [24, с. 40]. Гротескный образ «характеризует явление в состоянии его изменения, .. . в стадии смерти и рождения, роста» [24, с. 31].
По Бахтину, конститутивные (определяющие) черты гротескного образа - это «отношение к времени, к становлению» и «амбивалентность»: «в нём в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения — и старое и новое» [24, с. 31]. Сущность гротеска состоит в том, чтобы «выразить противоречивую и двуликую полноту жизни, включающую в себя отрицание и уничтожение (смерть старого) как необходимый момент, неотделимый от утверждения, от рождения нового и лучшего» [24, с. 74].
В монографии, посвященной творчеству Рабле, Бахтин даёт историю гротеска. Гротескный тип образности («гротескный реализм») - это древнейший тип, известный в мифологии и в архаическом искусстве всех народов. Но «расцвет гротескного реализма — это образная система народной смеховой культуры средневековья, а его художественная вершина — литература Возрождения» [24, с. 39]. Именно ренессансный гротеск, пронизывающий литературу Возрождения, разработан Бахтиным основательно и детально на примере произведений Рабле.
Затем, утверждает Бахтин, в результате постепенного обеднения карнавальных форм народной культуры, «утративший живые связи с народной площадной культурой и ставший чисто литературной традицией, гротеск перерождается»: «происходит известная формализация карнавально-гротескных образов» [24, с. 42].
В предромантизме и в раннем романтизме гротеск возрождается в новом качестве. Он становится «формой для выражения субъективного, индивидуального мироощущения, очень далёкой от народно-карнавального мироощущения прошлых веков (хотя кое-какие элементы этого последнего и остаются в нём)» [24, с. 44]. Так, «в отличие от средневекового и ренессансного гротеска, ... носившего площадной и всенародный характер, романтический гротеск становится камерным: это как бы карнавал, переживаемый в одиночку с острым сознанием этой своей отъединенности» [24, с. 45]. Трансформировалось смеховое начало, оно «редуцировалось и приняло форму юмора, иронии, сарказма».
Рецепция теории Бахтина в трудах русских учёных
Концепция карнавала, созданная М. Бахтиным, - самое серьёзное достижение отечественного литературоведения по данному вопросу. Не следует считать, однако, что Бахтин — единственный, кто занимался проблемой народной смеховой культуры. Как отметил Вяч. Вс. Иванов, «на свой лад карнавалом и смеховой культурой одновременно с Бахтиным или даже немного ранее занимались Адриан Пиотровский ... , Ольга Фрейденберг ... , Владимир Пропп, Петр Богатырев, Сергей Эйзенштейн» [45].
Одновременно и на том же материале, что и Бахтин, работал Л. Пинский. Учёные были связаны личным знакомством и общением. На фундаментальный труд Пинского «Реализм эпохи Возрождения» (1961) опирался в своей работе Бахтин: «Очень важным в концепции Л. Е.Пинского представляется нам признание им амбивалентности раблезианского смеха» [24, с. 156]. Бахтин особо отмечает тот факт, что «основным источником смеха» у Рабле Пинский считает «"движение самой жизни", то есть становление, смену, весёлую относительность бытия» [24, с. 157].
Параллельно с трудами Бахтина и Пинского по западноевропейской карнавализованной литературе шла работа над русской праздничной культурой. Так, В. Пропп ещё до появления бахтинских работ «Творчество Франсуа Рабле...» и «Проблемы поэтики Достоевского» в монографии «Русские аграрные праздники» (1963) видит суть русских календарных праздников в «аграрно-магическом характере» [75, с. 85].
Пропп отмечает, что «уже давно замечено сходство между земледельческими обрядами античности и позднейшей Европы, включая и Русь»: «Это не значит, что всё можно объяснить заимствованием; это означает, что есть некая закономерная связь между формами труда и формами мышления» [75, с. 33]. Описанные Проппом русские обряды «известны всем народам Европы» [75, с. 101]. «При изучении праздников обнаруживается общность форм, предполагающая общность почвы, на которой эти формы возникают» [75, с. 102].
Цель русских праздников, по Проппу, - «способствовать плодородию земли и размножению всего живого», это «продуцирующие обряды» [75, с. 85], которые «отражают земледельческие интересы, выражают стремление земледельца повлиять на плодородие земли» [75, с. 88]. Продуцирующим характером Пропп объясняет и массовый разгул, сопровождающий большинство аграрных праздников. По его мнению, архаичное мышление «приводит к представлению, что человеческая плодовитость и плодородие земли стоят в самой тесной связи»: «человеческая плодовитость и все, что с ней связано, стимулирует силы земли и заставит её дать урожай» [75, с. 129].
Для Бахтина же главный принцип народной праздничной культуры — принцип вечной смены, обновления, смерти-рождения, прославление весёлого хода времени. Отметим, что, по мнению Вяч. Вс. Иванова, «Бахтин отличался наибольшей чёткостью выводов» [45].
Теория Бахтина оказалась способна многое охватить и объяснить в народной культуре. Вот почему целый ряд выдающихся учёных приняли теорию и развили её.
Так, В. Пропп в монографии «Проблемы комизма и смеха» (1976), опубликованной после появления книги Бахтина, кроме «обрядового» [74, с. 133] смеха (рассмотренного исследователем в монографии «Аграрные праздники») выделил особый «разгульный смех» [74, с. 135], при характеристике которого исследователь постоянно ссылается на Бахтина: «Этот вид смеха также имеется у Рабле, о чем М.М. Бахтин пишет следующим образом...» [74, с. 138] . По сути, теоретик имеет в виду тот же смех, который Бахтин назвал карнавальным: «По примеру Бахтина этот вид смеха можно назвать смехом раблезианским», это «смех площадей, балаганов, смех народных празднеств и увеселений» [74, с. 135]. Этот вид смеха исследователь находит на русской почве - по его мнению, «такому веселью предавались только в определенные сроки, преимущественно в период зимнего солнцеворота и на масленицу» [74, с. 135]. Русская масленица, несомненно, является родственной западноевропейскому карнавалу.
Ю. Борев в работе «Комическое, или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия» (1970) пишет: «Бахтинский теоретический анализ "карнавального" состояния столь значителен и проницателен, что автору удаётся, рассматривая лишь одну из форм смеха, высказать суждения, охватывающие ещё никем до него не замеченные некоторые важные общие эстетические особенности комического» [29, с. 40].
Безоговорочно принимает теорию Бахтина Вяч. Вс. Иванов. Вхтатье «Из заметок о строении и функциях карнавального образа» (1973) он утверждает, что Бахтину «удалось не только обнаружить роль карнавальной традиции и родственных ей явлений карнавализации в истории литературы и культуры, но и определить наиболее характерные черты карнавального образа» [47, с. 37].
Д.С. Лихачёв в статье 1973 года «Древнерусский смех» считает важным подчеркнуть, что он «продолжает некоторые мысли М.М. Бахтина», касающиеся «смеховой культуры», «смеховых празднеств», «средневекового смеха», «народного смеха», «карнавального смеха». Исследователь убежден, что книга о Рабле «даёт ключ к пониманию древнерусского смеха, указывает подход», «касается ... особенностей древнерусского смеха» поскольку «древнерусский смех является разновидностью средневекового смеха в целом» [55, с. 73]. По Лихачёву, древнерусский смех «строит изнаночный мир, мир перевёрнутый» - так называемый «антимир». В нём «отсутствует постоянство, богатство, сытость, одетость, родство, дружба, ... роль церкви играет кабак, веселье заменено пьянством», в нём «сняты все покровы, одежды, обнажен стыд и нет ничего святого». Теоретик отмечает, что древнерусский смех «остался в качестве национального смеха в XIX и даже XX вв.» [55, с. 90].
Карнавальная основа сюжета
В основе пьесы «Мандат» лежит конфликт между прошлым и настоящей действительностью, между старым и новым миром, их взаимная борьба. Многие исследователи, как, например, Ю. Селиванов, совершенно справедливо отметили в пьесе «противопоставление прошлого, настоящего и будущего» [229, с. 109]. Развитие действия основывается на том, что потерявшие своё общественное положение герои, не имея уверенности в том, какая власть установится, пытаются приспособиться, приноровиться и к новым советским реалиям, и к царской власти на случай, если она вернётся. Несмотря на то, что новый, советский строй в пьесе не представлен ни одним из героев, в комедии даётся видение, восприятие нового персонажами пьесы.
Незавершившейся сменой эпох, столкновением лицом к лицу уходящего прошлого и наступающего будущего определяется карнавальный характер большинства комедий 1920-х годов. Так, в пьесах В.Маяковского «Клоп» (1928) и «Баня» (1929) по воле автора настоящее и будущее глядятся друг в друга, соприкасаются и противопоставляются либо появлением героя в предполагаемом будущем (Присыпкин в комедии «Клоп»), либо прибытием в настоящее некоей гостьи из будущего (Фосфорическая женщина в комедии «Баня»). У Булгакова столкновение настоящего и будущего, настоящего и прошлого ярче реализуется в творчестве 1930-х годов. В пьесе «Блаженство» (1934) осуществляется путешествие современников Булгакова в будущее, в «Иване Васильевиче» (1935) - в прошлое. Во второй пьесе не только управдом Бунша и обаятельнейший мошенник Жорж Милославский оказываются в России XVI века, но и Иван Грозный попадает в Москву 30-х { годов XX века. В пьесах Булгакова 1920-х годов мы наблюдаем, как пристраиваются к новой жизни бывшие аристократы - в «Зойкиной квартире» (1925) обнищавшая Зоя Пельц со своим возлюбленным, графом Обольяниновым, организует бордель под видом мастерской для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих. В «Багровом острове» (1927) новая революционная пьеса (в которой аллегорически показана борьба старого строя и нового в России) ставится на сцене старого провинциального театра, идеи новой пьесы перемежаются со старыми представлениями актёров. Тем не менее, в этой самой карнавальной комедии Булгакова 1920-х годов карнавальная атмосфера охватывает наибольший круг действующих лиц не только за счет столкновения прошлого и настоящего в умах актёров, основой для карнавализации является также и представленная в комедии жизнь театра. Театр органически входит в систему карнавальных образов, это особая карнавализующая среда. По замечанию Бахтина, «театрально-зрелищные формы средневековья ... тяготели к народно-площадной карнавальной культуре и ... входили в её состав» [24, с. 11], до сих пор «сохраняются некоторые элементы карнавала ... в театрально-зрелищной жизни нового времени», «даже "актёрский мирок" сохранил в себе кое-что от карнавальных вольностей, карнавального мироощущения и карнавального обаяния» [21, с. 151]. Усиливает карнавализацию «Багрового острова» композиционный принцип «сцены на сцене». Этот карнавальный приём, разрушающий рампу, уничтожающий разделение «на исполнителей и зрителей» [21, с. 141], очень популярен в 20-е годы. Он использован и Маяковским в «Бане» в сцене с посещением Победоносиковым театра, когда герой в качестве зрителя наблюдает сцены с собственным участием и не узнаёт сам себя: «Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже» [6, с. 95].
В основе яркой карнавальности «Мандата» - особый акцент, сделанный автором на сменяемости, обновлении, изменении всего существующего. Пьеса сосредоточена на самом процессе перемен: старое (самодержавие) сменяется новым (советская власть), новое (народная, общественная собственность) сменяется старым (политика нэпа с частной собственностью и коммерцией), нет ничего устоявшегося, со дня на день всё может измениться в ту или иную сторону. Процесс изменения всей жизни постоянно подчеркивается в «Мандате»: «теперь не старое время» [10, с. 21], «может быть, всё это так раньше и было, а только теперь...» [10, с. 22]. Незаконченный, несвершившиися переход одной эпохи в другую находит отражение в используемом автором особом карнавальном языке. Именно карнавальную логику «обратности», «наоборот», «наизнанку» мы наблюдаем в первом же явлении в отмеченной многими критиками яркой сцене развешивания картин в доме Гулячкиных. «Вечер в Копенгагене» при переворачивании оказывается портретом Карла Маркса, и в зависимости от ситуации (ожидается ли в гости комиссар, для которого Карл Маркс — «самое высшее начальство», или же «порядочный человек» - господин Сметанич [10, с. 18]) картина поворачивается необходимой стороной. В. этой замечательной сцепе имеет место первое из многочисленных проявлений в пьесе карнавальной логики «колеса».
«Колесо» политических реалий во внешнем мире находит отражение в сюжете пьесы, где в пределах одной квартиры происходит многократно повторяющаяся карнавальная смена политических убеждений. Ситуация, в которой оказались герои Эрдмана, - настоящая карнавальная жизнь, «выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере «жизнь наизнанку», «мир наоборот»» [21, с. 141]. Жизнь, отклонившаяся от своего обычного течения, лежит в основе карнавализованных пьес 1920-х годов Булгакова - в «Зойкиной квартире», «Беге». В «Багровом острове» Савва Лукич, цензор, явившийся оценивать постановку, в какой-то мере является тем человеком, который нарушает заведенный в театре порядок жизни. Чтобы успеть показать ему пьесу, устраивают генеральную до обычных репетиций, необходимые костюмы надеваются поверх других - как раз шла репетиция «Горя от ума», автору приходится играть в своей пьесе вместо отсутствующего актёра.
Именно такая «нарушившаяся» жизнь является неиссякаемым источником карнавального смеха в «Мандате». Как люди на карнавальной площади, в «прежней» жизни разделенные «непроницаемыми иерархическими барьерами», «вступают в вольный фамильярный контакт» [21, с. 141], так и герои в пьесе достигают нового уровня общения: Невозможная в «старое время» свадьба Варвары и сына господина Сметанича, человека другого общественного положения, становится возможной. Этот карнавальный мезальянс, когда «в карнавальные контакты и сочетания вступает всё то, что было замкнуто, разъединено, удалено друг от друга внекарнавальным иерархическим мировоззрением» [21, с. 142], становится в «Мандате» отправной точкой развития сюжета. В дальнейшем осуществится ещё один мезальянс — Сметаничи попытаются женить старшего сына на «престолонаследнице».
Мезальянсы свойственны карнавализованной драматургии 1920-х годов. В «Багровом острове» Булгакова персонажами революционной пьесы, сочиненной Дымогацким, становятся герои романов Жюль Верна чопорная леди в пьесе изменяет мужу с туземцем, полководец из белых арапов переходит на сторону красных туземцев. Карнавальный- мезальянс лежит в основе завязки «Клопа» Маяковского: отправной точкой сюжета является решение рабочего Присыпкина жениться на «состоятельной» маникюрше. Маяковский довел до логического конца тот мезальянс, что так и не был осуществлен в «Мандате». У Эрдмана господин Сметанич-старший только собирается женить своего сына на Варваре Гулячкиной из «разорённой» [10, с. 19] мещанской семьи, так как её брат якобы партийный и выступит в качестве приданого. В пьесе Маяковского зажиточные частники-парикмахеры Ренесансы действительно выдают свою дочь за представителя рабочего класса - Присыпкина, который обеспечит им «древнее, незапятнанное пролетарское происхождение» и «профессиональный союзный билет в доме» [7, с. 9].
Карнавальный гротеск в осмыслении темы смерти
Организующим ядром карнавальной стихии в «Самоубийце», наряду со сменой общественных устоев, жизненного порядка, является нетождественный самому себе образ главного героя. Подсекальников -человек, который, устав от жизни, принял решение покончить с собой, но не в состоянии осуществить задуманное. Подсекальников включается в некую игру в самоубийство, делающую его жизнь необычной, особой, наполненной смыслом. Идея «пострадать за всех» [11, с. 109] позволяет герою почувствовать себя значимым. В связи с этим ему приходится в итоге играть роль «мертвого», надевать маску «покойника».
Подсекальников - «живой мертвец», человек, вышедший из обычной жизни, оказавшийся вне её. Герой находится в состоянии выбора -предпочесть геройскую смерть или обычную, ничем не примечательную жизнь. Он мечется на границе двух миров, не в силах остановиться в одном из них, не может определиться, жить ему или умереть. Столкновение категорий «смерть» и «жизнь» проявляется в языке пьесы. Фразы: «Муж ваш умер, но труп его полон жизни, он живет среди нас, как общественный факт. Давайте же вместе поддерживать эту жизнь» [11, с. 137], «Стреляйтесь себе на здоровье» [11, с. 137], «Что, покойник здесь живет?» [11, с. 188], «Живите так же, как умер ваш муж» [11, с. 180], «Но утритесь, товарищи, и смело шагайте вперед, в ногу с покойником» [11, с. 207] - демонстрируют переход жизни в смерть и смерти в жизнь.
Тема смерти в произведении основная. В «Самоубийце», в отличие от «Мандата», одна сюжетная линия, связанная с центральным образом карнавально нетождественного самому себе Подсекальникова. Не случайно Ю.Щеглов отмечает «явное отсутствие единства личности у ... Подсекальникова, который ... проявляет себя в одних сценах как ограниченный обыватель, а в других - как прозорливый наблюдатель жизни, стоящий на уровне передовых идей века» [273, с. 121]. Развитие действия пьесы составляет чередование «смертей» и «воскресений» героя. Сюжет, таким образом, построен на бинарном мотиве «жизнь-смерть», осмысленном карнавально.
Переход жизни в смерть и смерти в жизнь, их столкновение находит отражение в карнавальных образах. На протяжении всей пьесы благодаря игровому поведению главного героя смерть, самоубийство, эти ужасные для любого человека события, как и в карнавале, «всегда оборачиваются ... смешным и весёлым» [24, с. 47], подвергаются снижениям и осмысляются как «смешные страшилища».
Завязка конфликта между ничем не примечательной жизнью посредственного человека и его «красивой», геройской смертью происходит, когда жена Подсекальникова после ссоры с ним на «почве ливерной колбасы» [11, с. 106] решает, что муж ушёл, чтобы «что-нибудь над собою сделать» [11, с. ПО]. Таким образом, в духе истинного карнавала с его «особой связью еды со смертью и с преисподней» [24, с. 332] поводом к самоубийству послужила ливерная колбаса, так считают и родственники Семёна Семёновича.
Аристарх Доминикович. Из-за этого не стреляются. ... Вы спросите у близких - из-за чего. Серафима Ильинична. Из-за ливерной колбасы, Аристарх Доминикович [11, с. 211].
Ещё во время пустой ссоры из-за колбасы задаётся тема смерти: «Знаешь, Семён, ты во мне этой ливерной колбасой столько убил, столько убил...» [11, с. 104] . Ожидание смерти как избавления от «такой жизни» витает в воздухе этой коммунальной квартиры. «Господи, что же это такое делается? А? Это же очень печально так жить», — говорит во время ссоры Мария Лукьяновна. «Ты бы лучше, Мария, подумала, как ужасно на мне эта жизнь отражается», - вторит Подсекальников. В следующем же явлении Мария Лукьяновна выражается ещё категоричнее и яснее: «Так, Семён, жить нельзя» [11, с. 106]. Ощущение, предчувствие смерти сгущается: «Пусть я лучше скончаюсь на почве ливерной колбасы, а есть я её всё равно не буду» [11, с. 106], ливерная колбаса выступает причиной смерти в словах Подсекальникова.
Через несколько реплик смерть как итог всей жизни заявляет о себе прямо. Мария Лукьяновна. Так, Семён, фокусы в цирке показывать можно, но жить так нельзя.
Семён Семёнович. Как это так нельзя? Что же мне, подыхать, по-твоему? Подыхать? Да? Ты, Мария, мне прямо скажи: ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься [11, с. 106—107].
Неудивительно, что когда Семён Семёнович после семейной сцены исчезает, Мария Лукьяновна уверена, что муж ушёл стреляться. Доведённая до крайности тяжелой жизнью, женщина готова поверить в любые ужасы. В то же время готовность Марии Лукьяновны принять возникшую у неё мысль о самоубийстве мужа за непререкаемую истину мы можем расценить как самое настоящее карнавальное сумасшествие. Это подтверждается повторяющимися репликами: «Я с ума сойду, мамочка, так и знай» [11, с. 108], «Что ты, Маша? Куда ты? Очухайся!» [11, с. 109].
Мотив сумасшествия отражается и в реплике Александра Петровича «Вы совсем обезумели. Для чего же вы женщину волоком тащите?» [11, с. 123].
Итак, смерть связывается с образом еды. Примечательно, кстати, что образ ливерной колбасы в этой сцене ещё и заменяет собой ожидаемый, предполагаемый эротический план (супружеская постель). Семён Семёнович ночью будит жену лишь с целью узнать, не осталось ли от обеда ливерной колбасы, в постели ведется разговор о еде: «А когда я с тобой на супружеском ложе голодаю всю ночь безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать» [11, с. 105]. Сексуальный план начала фразы «на супружеском ложе» разрушается её продолжением «голодаю всю ночь».
Поведение Подсекальникова и реакция на него окружающих обрастает всеми возможными карнавальными мотивами. Далее происходит карнавальная связь образа еды со скатологическим образом: «Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь, а потом уже станешь намазывать колбасу » [11, с. 106]. Дополнительно в этой сцене включается карнавальное употребление ругательств.
Семён Семёнович. Только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария — ты сволочь. .. . Сволочь ты! Сукина дочь! Чёрт! [11, с. 107]
Образ смерти сопрягается с акцентированием телесного начала -выясняется, что Семён Семёнович если и решил покончить с собой, то уйти никуда не мог, так как он без штанов. Телесный низ (отсутствие штанов) приравнивается к телесному верху (глаза) в рассуждении Серафимы Ильиничны: «Человек без штанов - что без глаз, никуда он уйти не может» [11, с. ПО].