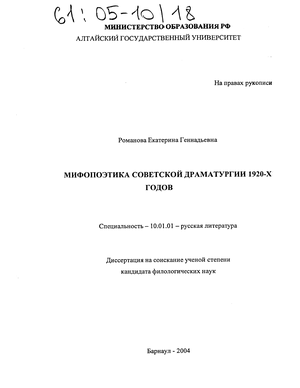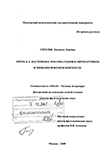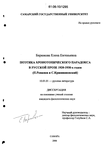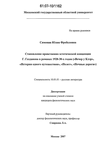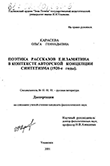Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. «НОВЫЙ МИР»: космогонический миф и ритуал инициации в драматургии 1920-х гг 18
ГЛАВА 2. CLASS «НОВАЯ ВЕРА»: религиозно-мифологическая основа коммунистической идеологии в произведениях советских драматургов . CLASS 57
ГЛАВА 3. CLASS «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»: интертекстуальные и мифологические корни CLASS 89
ГЛАВА 4. Драматургия Н.Р. Эрдмана: мифологемы эпохи и их метаморфозы 114
Заключение 165
Библиография 169
- «НОВЫЙ МИР»: космогонический миф и ритуал инициации в драматургии 1920-х гг
- «НОВАЯ ВЕРА»: религиозно-мифологическая основа коммунистической идеологии в произведениях советских драматургов
- «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»: интертекстуальные и мифологические корни
- Драматургия Н.Р. Эрдмана: мифологемы эпохи и их метаморфозы
Введение к работе
20-е годы XX века - время небывалого расцвета драматургии. Многообразие драматургических форм в советской литературе этого периода определялось сосуществованием драматургии «официальной», то есть воплощающей в себе концепцию госзаказа и «неофициальной» — продукцией литераторов-«попутчиков», сочетающих новые советские ценности с оригинальным творческим методом.
Драматургическое наследие 1920-х гг. органически вписывается в общий литературный контекст эпохи, одной из характерных черт которой стал расцвет неомифологизма. Начиная с 10-х гг. XX века явление «ремифологизации», возрождения мифа захватывает различные стороны европейской культуры и литературы. Неомифологизм как течение культурной жизни предполагал не возрождение древних нативных мифов, а «производство неких мифоидов» [120:141] - элементов, сочетающих в себе архаичность значения и отпечаток творческой воли автора.
Интерес к мифу в искусстве и науке XX века послужил толчком для
разработки нового учения о мифе, который в культуре предшествовавших
эпох ассоциировался не более чем с древним сказанием и был соотнесен с
определенными стадиями развития человеческого общества. К настоящему
моменту существуют десятки различных дефиниций мифа, базирующихся на
принципиально разных предпосылках. Одни определяют его как жанровое
образование (Н. Фрай), другие как: элемент системы первобытной
человеческой культуры или идеологии (А. Лосев) и т. д. Психоаналитическая
традиция (3. Фрейд, Дж. Кэмпбелл) приписывает мифу
психопрагматическую функцию. К.-Г. Юнг видит в мифе сокровищницу коллективного бессознательного, манифестирующую опыт человечества при помощи матричной системы архетипов. С точки зрения юнгианской теории мифа становится понятен механизм репродукции константных тем и образов в литературе того или иного исторического периода.
XX век расширил границы детерминированной мифом реальности, в которую были включены и вся человеческая культура (искусство, идеология, политика и пр.) и человеческое сознание как таковое. В настоящее время миф рассматривается как трансисторическое, имманентное человеческой культуре явление.
Многозначность термина усиливается введением в научный обиход понятия «современный миф», соотносимого уже не с системой архаического миропонимания, а с принципами неомифологической ментальносте.
Специфическая мифоцентричность советской литературы 1920-х гг., оперирующей нерасторжимым комплексом религиозно-мифологических элементов, которые имеют как архаическую, так и сугубо литературную основы, была осмыслена в работах таких исследователей, как К. Кларк, Е.М. Мелетинский, В.Е. Хализев, А. Синявский, В. Руднев и др., однако в сфере драматургии этот вопрос нельзя назвать решенным. Несмотря на очевидность, мифологический подход к драматургии 1920-х гг. не является разработанным в достаточной мере. Процесс космологического переосмысления новой исторической реальности, отразившийся в драматургии означенного периода, остался за рамками научного рассмотрения.
Можно сказать, что исследование драматургии советского периода 1920-х гг. носит однонаправленный характер, поскольку в поле зрения исследователей попадают лишь отдельные произведения (Н.В. Розенберг [158], В.Б.Петров [144]). Драматургия первого послереволюционного десятилетия, отчасти забытая в 1930-40-х гг., в 1950-60-х гг. вновь вызывает повышенный интерес. Так, в 1958 г. выходит в свет сборник «Первые советские пьесы», в котором были опубликованы не переиздававшиеся ранее драматургические произведения. Позже были изданы пьесы А. Файко, В. Киршона, Б. Ромашова и др. В 1960-х гг. выходит ряд монографических трудов по истории довоенной советской драматургии. Возобновление исследовательского и читательского интереса к драматургии данного
5 исторического периода во многом связано с причинами социально-политического характера, поскольку именно хрущевская оттепель позволяет реанимировать имена и тексты, запрещенные ранее. Монография ЛГТамашина [187], трехтомные «Очерки истории русской советской драматургии» [136], обширный труд Д.О.Богуславского и В.А. Диева [18], коллективная работа Д. О. Богуславского, В.А. Диева и А.С.Карпова [19] в целом решены в рамках социологической методологии. Работы подобной широты охвата материала практически не появлялись в последующие годы. В монографии Д.О.Богуславского и В.А. Диева драматургия 1920-х гг. классифицируется по принципу жанрового соответствия. Работа исследователей содержит широкомасштабное описание картины драматургической жизни периода. Останавливаясь на творчестве того или иного драматурга, Д.О. Богуславский и В.А. Диев делают акцент на анализе собственно поэтики произведения, а также последовательно вписывают его в типологическую систему советской драматургии. Отмечая явление реанимации мифа в драматургии периода гражданской войны и 1920-х гг., описывая расцвет массового народного театра, ритуальная основа которого восходила к мистериальной архаике, и апеллируя к «идейно-культурному обиходу» [19:71] советской цивилизации, нашедшей отображение в драматургии данного периода, исследователи, однако, связывают мифоцентричность, например, жанра игрищ с «печатью умозрительной символики, связанной с чуждыми, декадентско-символистскими влияниями» [19:70].
Перестройка, повлекшая за собой реабилитацию запрещенной ранее литературы (и драматургии в частности), вызывает бум исследовательского интереса к вновь изданным, забытым произведениям. Однако литература «официальная» теряет для исследователей всякую привлекательность, уходя на периферию научных исследований. В отношении драматургии 1920-х гг. можно говорить даже не о вытеснении ее на периферию, а скорее о полном забвении. В поле зрения исследователей драматургии попадают
М.А. Булгаков, B.B. Маяковский, Н.Р. Эрдман, Л. Леонов, но бесполезно искать там В.Н. Билль-Белоцерковского, Н. Погодина, В. Киршона, К. Тренева, Б. Ромашова - драматургов не менее известных в исследуемый нами период. Интерес к сфере «официальной» советской литературы сохраняется за рубежом, именно работы западных русистов (К. Кларк, Г. Гюнтер, Т. Лахузен) оставались до последнего времени единственным пособием при знакомстве с соцреализмом.
Единственная попытка системного подхода к предмету нашего исследования в последние десятилетия — сборник «Парадокс о драме: перечитывая пьесы 20-30-х годов» (1993) [142], носящий скорее публицистический, нежели литературоведческий характер. Первая часть сборника посвящена современному анализу идеологического диктата в области художественного творчества и драматургии в частности. Вторая часть состоит из очерков, повествующих о забытых или запрещенных пьесах и судьбах таких драматургов, как М. Цветаева, С. Третьяков, М. Булгаков, Ю. Олеша. Н.Р. Эрдман и др. Социально-политический ракурс сближает очерки, включенные в сборник, с работами советских литературоведов, поскольку, изменив вектор оценки, исследователи новой формации оставляют неизменной ее критерий, точкой отчета которого является социально-политическая реальность.
Таким образом, исследование драматургии советского периода 1920-х гг. носит фрагментарный характер, в то время как составление цельной картины драматургической жизни десятилетия являет необходимость привлечения широкого круга авторов, в том числе и относящихся к литературе так называемого «второго эшелона», нагляднее других представляющих тенденции эпохи. На настоящий момент исследования подобного размаха не существует, поэтому нам пришлось апеллировать к вышеперечисленным монографиям 60-х гг.
Анализ мифопоэтического уровня широкого корпуса драматургических текстов означенного периода, включающего в себя произведения так
7 называемых «забытых» авторов, позволяет наметить типологическую картину литературного процесса. Пьесы 1920-х гг., не представляющие на современном этапе особенной художественной ценности, несут на себе отчетливый отпечаток культурного контекста, прямолинейно отражая специфику литературного процесса, а также интересующий нас комплекс религиозно-мифологических представлений новой советской цивилизации. На фоне унифицированных (принципиальное совпадение мифологического базиса) текстов советской драматургии получает новое освещение произведения писателя, выпадающего из заданных рамок. Такой фигурой, не вписывающейся в жесткую схему советского дискурса, является Н.Р. Эрдман, которому посвящена одна из глав нашей работы.
В научной литературе советского периода творчество Н.Р. Эрдмана либо замалчивалось, либо, как это сделано в фундаментальном труде Д.О. Богуславского и В.А. Диева [19], о нем упоминалось лишь вскользь, как о наглядном примере антимещанской сатиры невысокого художественного уровня. Такой подход был продиктован причинами внелитературного порядка, поскольку сам драматург был репрессирован в 1933 г., а его произведения (даже после возвращения автора из ссылки и частичной реабилитации) не были опубликованы. История изучения отдельных текстов Н.Р. Эрдмана, начавшаяся в 1920-е гг. с восторженных откликов современников и разгромных выпадов официальной критики по поводу антисоветского пафоса, возобновляется только в 1970-е гг. Попытку реабилитировать творчество драматурга предпринимает профессор Томского государственного университета Н.Н. Киселев, автор нескольких работ (в том числе и монографии), затрагивающих отдельные аспекты произведений Н.Р. Эрдмана [89-90]. Рассматривая поэтику пьес драматурга в рамках традиционного социологического литературоведения, Н.Н. Киселев трактует произведения драматурга в русле антимещанской сатиры. Несомненной заслугой исследователя является анализ пьес Н.Р. Эрдмана в общем контексте комедиографии 1920-30-х гг.
В конце 1980-х - начале 1990-х гг., после выхода в свет обеих пьес и отдельных интермедий драматурга, появляется ряд исследовательских работ, авторы которых, к сожалению, так и не смогли избавиться от политического ракурса. Таковой, к примеру, является статья Е. Стрельцовой «Великое унижение. Николай Эрдман» [186], автор которой однозначно определяет последнюю пьесу драматурга как «политическую сатиру», подчиняя этому выводу всю логику своей статьи. Отмечая важность категории темноты для комедии «Самоубийца», Е. Стрельцова трактует ее в сугубо политическом свете - как мрак советской действительности. Наблюдения за поэтикой в исследованиях такого плана носят фрагментарный характер, основу текста составляют история издания того или иного произведения и биография автора (А. Гутерц [57-61], А. Гоцес [53-55]), что объяснимо недостатком информации о жизни и творчестве Н.Р.Эрдмана. Мифопоэтичность, интертекстуальность произведений драматурга, определение их роли в драматургии 1920-х гг. остаются либо за рамками работы, либо не получают достаточного освещения (Т. Л. Воробьева [38], В. Б. Петров [144]).
Наибольшей основательностью и глубиной обладают работы Джона Фридмана (Гарвард, США) [207-209]. Автор многих исследований, посвященных творчеству Н.Р. Эрдмана. Д. Фридман избегает грубых социологических трактовок и определяет направление творческого пути драматурга от традиции остраненного смеха Н.В. Гоголя к театру абсурда. «Новаторство "Мандата" (и тем более "Самоубийцы") - пишет он, - именно в том, что Эрдман сумел вложить в казалось бы легкую фарсовую по форме пьесу глубину философского восприятия мира» [210:211]. Однако в его работах исследование собственно поэтики носит сопроводительный по отношению к историко-биографическим данным характер.
Созвучной нашим задачам оказалась статья Ю. Щеглова «Конструктивный балаган Н.Эрдмана» [228], связывающая поэтику драматурга с традициями народного театра. Останавливаясь на процессе отражения фольклорной модели мира в пьесе Н.Р. Эрдмана, исследователь
9 также ставит своей целью «уяснение поэтического мира драматургии Эрдмана на фоне типологически родственных ей явлений театра» пытается определить место «Мандата» и «Самоубийцы» в литературе 1920-30-х годов, считая, что в них «был прозорливо выдвинут ряд формул и мифологем, оказавшихся релевантными для понимания всей советской истории, ментальносте и культуры» [228:119].
Актуальность нашего исследования, таким образом, определяется, во-первых, недостаточной изученностью драматургии 1920-х гг. на современном этапе литературоведения и, во-вторых, неразработанностью мифопоэтического подхода к совокупному тексту советской драматургии 1920-х гг., между тем как использование указанного подхода представляется оправданным и продуктивным, поскольку, как уже было сказано, мифологические структуры весьма значимы в советской литературе данного периода.
Объектом исследования является отечественная драматургия 1920-х гг.
В качестве предмета нами взят мифопоэтический уровень анализируемых.:
произведений. Материалом исследования послужили произведения
драматургии советского периода 1920-х гг. Привлекая для анализа широкий
литературный контекст, мы обращали преимущественное внимание на мало
изученные до настоящего момента тексты, в то время как более известные и
неоднократно исследованные произведения В.В.Маяковского,
М.А.Булгакова и др. использовались нами для расширения контекста в качестве сопоставительного материала. Основную базу исследования составили пьесы В.Н. Билль-Белоцерковского, Н.Погодина, А. Файко, А. Глебова, А. Серафимовича, В. Киршона, К. Тренева, А. Луначарского, Б. Ромашова, Б. Лавренева, А. Неверова и др. Отдельная глава посвящена произведениям Н.Р. Эрдмана. Если того требовала логика исследования, к анализу привлекались также отдельные драматургические произведения 1917-20 и 1930-х гг.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые предпринимается попытка мифопоэтического анализа не отдельных произведений, но по возможности максимально широкого круга текстов советской драматургии данного периода. Нам было важно вписать советскую драматургию 1920-х гг. в общий культурно-мифологический контекст эпохи и выявить архаический уровень исследуемых текстов. Драматургия Н.Р. Эрдмана, не получившая до сих пор достаточного осмысления, анализируется нами с позиций мифопоэтической специфики.
Целью данной работы является исследование мифопоэтики советской драматургии 1920-х гг., определение основных мифологем и мифологических сюжетов, эксплицированных в пьесах этого периода. Поставленная цель предопределила ряд конкретных задач диссертационного исследования:
Рассмотреть реализацию космогонического сюжета в драматургии 1920-х гг.
Осуществить анализ архаической схемы инициации, проявленной в пьесах первого послереволюционного десятилетия.
Обозначить религиозно-мифологический контекст «новой советской мифологии», актуальной для драматургии 1920-х гг.:
на идейном уровне;
на уровне системы персонажей.
Рассмотреть бытование мифологемы «новый человек» в интертекстуальном поле драматургии 1920-х гг.
Вписать феномен драматургии Н.Р. Эрдмана в контекст универсальных мифологем эпохи.
Обозначить процесс трансформации религиозно-мифологической системы «официальной» драматургии в произведениях Н.Р. Эрдмана.
В соответствии с намеченными задачами мы определяем следующие положения, выносимые на защиту:
1. Космогонический сюжет является основополагающим для драматургии 1920-х гг.
Инициационный комплекс в драматургии 1920-х гг. реализуется как правило через использование сюжетной схемы волшебной сказки.
В драматургии 1920-х гг., ориентированной на советскую систему ценностей, интенсивно используется христианско-религиозная символика, лишенная ореола сакральности.
В рамках послереволюционной культуры роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» обретает статус сакрального текста и становится основой формирования коммунистического мифа о «новом человеке».
Произведения Н.Р.Эрдмана, характеризующиеся усложненным использованием основных мифопоэтических универсалий эпохи, реализуют особый тип контаминации библейских и советских ценностей.
Рабочая гипотеза. Мифопоэтический контекст, актуальный для советской литературы 1920-х гг. в целом, последовательно проявляется в драматургии этого периода. Он реализуется как сложный религиозно-мифологический комплекс на разных уровнях текста, предопределяет систему персонажей и сюжетно-композиционное построение произведения. В пьесах советских авторов отчетливо прослеживается реализация космогонического сюжета и использование инициационной схемы. Драматургия 1920-х гг. отражает трансформацию коммунистической идеологии в религиозно-мифологическую систему. Особую значимость приобретает мифологема «новый человек». Творчество Н.Р.Эрдмана органично вписывается в мифопоэтический контекст эпохи, реализуя основные мифопоэтические универсалии. Его пьесы, обладающие всей спецификой неомифологических текстов, контаминируют пародийно осмысленные космогонические и новозаветные элементы, реализуют сказочную сюжетную схему.
12
Теоретико-методологическая база исследования определяется
структурно-семиотическим подходом к изучению текста, разработанным в
трудах Ю.М. Лотмана, Б.А.Успенского, В.Н.Топорова, В.В.Иванова и др.
Немаловажным для анализа драматургического наследия 1920-х гг. оказались
исследования в области поэтики, реализованные в работах В.Я. Проппа,
Ю.Н. Тынянова, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, О.М. Фрейденберг,
С.С. Аверинцева. Существенное значение для определения контекста «новой советской мифологии» имели работы А. Синявского, М. Вайскопфа, К. Кларк, А. Эткинда, Ю. Левина, вскрывающие религиозно-мифологическую основу всей советской цивилизации. В работе была использована методика интертекстуального анализа, отраженная в исследованиях таких ученых, как Р. Барт, И.П. Смирнов, А.К. Жолковский и
др.
В рамках структурно-семиотической методологии плодотворным для нашего исследования представляется метод мифологического анализа, опирающийся на традиции мифокритики, в основу которой положен принцип отыскания мифологических репродукций в художественных произведениях более поздних эпох. Современная мифологическая критика, генетически восходящая к «ритуальной» (Дж. Фрэзер) и «архетипной» (К - Г. Юнг) концепциям, представляет собой оригинальную литературоведческую методологию, основанную на новейших учениях о мифе (Н. Фрай, Е.М. Мелетинский). В ее основу положено представление о мифе как решающем факторе для понимания всей культурной продукции человечества, миф в рамках такой концепции понимается как трансисторический генератор культуры, держащий ее в определенных мифоцентрических рамках. В плане литературоведческого анализа мифокритика оперирует используемым нами термином «мифологема», который обозначает заимствование у мифа мотива, темы или ее части и воспроизведении их в более поздних литературных текстах и является
13 важнейшим структурообразующим принципом современной литературной практики.
Плодотворность применения указанного метода анализа диктуется жанровой природой материала, генетически восходящего к ритуалам, связанным с идеей цикличности, с процессами умирания и возрождения, что и было доказано в рамках мифокритических теорий, точкой отчета которых, собственно, и явилась интерпретация античной и средневековой драмы, показавшая, что миф и ритуал выступили непосредственной средой для древней драмы.
Методы исследования. В рамках мифопоэтического подхода используются структурно-семиотический и интертекстуальный методы.
Структуру работы составляют введение, четыре главы, заключение и библиографический список, насчитывающий 250 наименований. Первые три главы исследования носят обзорный характер, что связано с необходимостью рассмотрения широкого корпуса малоизученного материала. Последняя глава посвящена анализу творческого наследия Н.Р. Эрдмана.
Диссертационное исследование построено по принципу описания комплекса мифологем, манифестируемых драматургией 1920-х гг. Система «официальной» драматургии оперирует жесткими архаическими схемами, лишенными прежнего сакрального статуса. Двигаясь от реализованных в советской драматургии мифологических, структур архаического плана (космогонические мифы, мифы инициации) к элементам библейского уровня (ветхозаветные, новозаветные компоненты) и новой революционной мифологии (трансформация мифа в творчестве Н.Г.Чернышевского и его интертекстуальная рецепция), мы приходим к анализу творчества писателя-«попутчика» Н.Р. Эрдмана, интегрирующего вышеуказанные элементы.
Первая глава - «Новый мир» - посвящена исследованию архаических структур, присутствующих в драматических текстах 1920-х гг. Анализ показывает, что драматургия означенного периода тяготеет к реконструкции космогонического сюжета, который, наряду с инициационным, является
14 одним из основополагающих для новой советской мифологии. Драматургия 1920-х гг. вписывает осмысляемый ею феномен революции в контекст космогонического мифа — как катаклизм, символизирующий собой конец истории, возврат к первоначальному хаосу, то есть начало нового цикла. Все рассмотренные нами произведения реализуют единый алгоритм развития мифологического сюжета: движение от полного разрушения старого мира, сопряженного с апокалиптической битвой добра и зла, к созданию нового мирового порядка. Жесткая схема космогонического мифа (сочетающая языческие и библейские элементы) обычно дополнена мотивами эсхатологического порядка. Нами предпринимается попытка классификации конгломерата драматургических текстов по принципу использования тех или иных элементов реконструируемого космогонического сюжета. К элементам космогонического порядка тесно примыкают мифологема Вавилонской башни, которая ассоциируется с моментом созидания нового - «советского» -космоса и получает в совокупности исследуемых текстов позитивные коннотации. Космогонической метаморфозе перерождения космоса созвучен, процесс инициационного перерождения человека. Советская литература данного периода, являющая собой становящийся канон соцреализма, - это литература о герое, который посредством ряда испытаний перерождается в «нового человека», проходящего путь от не-сознательности к сознанию. Комплекс инициационных мотивов, реализованных в драматургии 1920-х гг., несет на себе отпечаток сюжетной схемы традиционной волшебной сказки. Пьесы Н. Погодина, В.Н. Билль-Белоцерковского и В. Киршона, оригинально сочетая собственно архаические элементы и с их более поздней трансформацией в жанре волшебной сказки, наглядно иллюстрируют этот процесс.
Вторая глава работы - «Новая вера» - носит отчасти культурологический характер, поскольку в ней обрисовывается религиозно-мифологический контекст новой советской идеологии, отражающейся в драматургии 1920-х гг. Процесс перерождения идеологии в религию
15 позволяет по-новому осмыслить использование христианской символики в исследуемых нами текстах. Религиозно-мифологическая система, воплотившаяся в коммунистической идеологии, включает в себя: космогонический бой светлых и темных сил за право владения космосом, победу светлых сил, означающую скорейшее возникновение Царства Небесного на земле (коммунизма), и установление нового бога. В драматургии этот религиозно-мифологический комплекс выражен на идейном уровне и на уровне системы персонажей, аксиологические принципы которой жестко заданы христианской парадигмой оценки. И хотя деструктивные устремления свойственны и положительным и отрицательным персонажам, в первом случае они расцениваются как непременное условие последующего созидания, то есть в рамках концепции космогонического цикла, а во втором - резко негативно, поскольку ведут к ввержению всего универсума в хаос.
В третьей главе работы - «Новый человек» - рассматривается бытование одноименной мифологемы в интертекстуальном поле драматургии советского периода 1920-х гг. Мифологема актуализируется еще в 60-е годы XIX века, приобретает особенно острый характер на рубеже веков и, получив дополнительный импульс в условиях революционной ситуации, по-новому осмысляется советской культурой послереволюционной формации. Фокусом рассмотрения исследуемой мифологемы становится роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», стоящий у истоков зарождения нового революционно-демократического мифа. Анализируемые нами произведения Н.Р.Эрдмана, В.Н. Билль-Белоцерковского и А. Глебова пересекаются в точке интертекстуального взаимодействия с романом Н.Г.Чернышевского. При этом в пьесах последних двух авторов обозначенная мифологема реализуется в согласии с алгоритмом претекста, в то время как в произведении Н.Р. Эрдмана ей приданы пародийные, а значит отрицательные коннотации.
Четвертая глава посвящена драматургии Н.Р. Эрдмана. С одной стороны, мы вписываем его произведения в ряд текстов, проанализированных в первых трех главах, с другой стороны, по ряду признаков противопоставляем его творчество системе «официальной» драматургии. Используя мифопоэтические элементы того же порядка, что и вышеописанные пьесы советских драматургов (космогонические, инициационные, сказочные), Эрдман придает им другие коннотации, по-иному реализуя их художественный потенциал. Анализируя первую пьесу Эрдмана «Мандат», мы останавливаемся на ее композиционном своеобразии, заключающемся в парадоксальном сочетании фольклорной традиции (сказочная схема) с принципами композиционной системы гоголевских текстов (использование миражной интриги и немой сцены). Вторая часть главы посвящена последней пьесе драматурга «Самоубийце», пародийно реализующей космогонический сюжет с одной стороны и последовательно развертывающей новозаветный путь Христа с другой. Мифопоэтическая природа пьесы отчетливо прослеживается в использовании системы бинарных оппозиций свет/тьма, звук/тишина, жизнь/смерть, восходящих к архаическим мифологическим структурам. Отражая в пьесе основной мифологический алгоритм эпохи - инициационный путь к «новому человеку» - Н.Р. Эрдман по-своему трактует метаморфозу главного героя, который, пройдя путь специфической индивидуации, становится не «новым», а просто - человеком.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русской и зарубежной литературы Алтайского государственного университета. Материалы диссертации легли в основу докладов, прозвучавших на Международной научно-практической конференции «Литературное произведение: сюжет и мотив» (Новосибирск, 2002), Межвузовской научно-практической конференции «Текст: варианты интерпретации» (Бийск, 2003) и Конференции молодых ученых «Диалог
17 культур» (Барнаул, 2003). Основные положения работы отражены в 8 публикациях, общим объемом Д-^п.л.
«НОВЫЙ МИР»: космогонический миф и ритуал инициации в драматургии 1920-х гг
Мифопоэтический контекст драматургии 1920-х гг. может быть представлен рядом мифологем, тяготеющих к трем основным концептам, которые мы условно обозначили как «новый мир», «новую веру» и «новый человек». Первый из названных концептов сосредоточил в себе элементы космогонического и инициационного порядков.
Период первой трети XX века, в целом связанный в мировой литературе с процессом так называемой «ремифологизации», в советской культуре был осложнен социальными катаклизмами (череда революционных событий), повлекшими за собой резкую трансформацию культурной реальности. Одним из основных объектов художественного осмысления в литературе советского периода 1920-х гг. становится феномен революции, который получает мифопоэтическое истолкование, изображается как момент космизации ввергнутого в хаос мира.
Надо отметить, что в русской культуре, которой наследует советская, революция изначально трактовалась как процесс космогонический. Такая интерпретация была предусмотрена всем революционно-демократическим движением XIX века, претендовавшим на принципиальное изменение мироустройства. Обращение к культурному наследию леворадикального толка показывает, что практически все популярные во второй половине XIX и на рубеже веков революционные песни несли в себе элементы космогонического мифа вкупе с философскими идеями ницшеанского типа (на русской почве роль провозвестника появления нового человека (сверхчеловека) сыграл Н.Г. Чернышевский). Показательны отраженные в тексте «Рабочей марсельезы» эсхатологические мотивы «последнего и решительного» боя, знаменующего собой конец старого мира:
Отречемся от старого мира). Отряхнем его прах с наших ног! ... И взойдет за кровавой зарею Солнце правды и братства людей. Купим мир мы последней борьбою, Купим кровью мы счастье детей. [163:391-392]
Трактуемая в контексте космогонической мифологии русская революция предстает как попытка реализации древнейшей мифологической концепции обновления космоса, характерной для всех архаических обществ. Европейская цивилизация воспринимает ее во многом через иудейско-христианские и другие более древние традиции, берущие начало на Ближнем Востоке (Египет, Месопотамия, Израиль). Предполагается, что космос развивается циклически, т.е. подвержен прогрессирующей деградации, которая требует его периодического разрушения и возрождения. Говоря о специфике мифологии древнего Ближнего Востока, М. Элиаде пишет: «По мере того, как космический цикл становится все более обширным, идея совершенства все более и более имплицирует дополнительную идею, а именно: для того, чтобы началось нечто истинно новое, нужно полностью уничтожить остатки старого цикла. Иначе говоря, если мы желаем абсолютного начала, то конец должен быть самым радикальным» [230:54]. Подобная идея становится одной из основополагающих для революционного процесса и подвергается активному осмыслению в послереволюционной культуре. Этим отчасти объясняется актуальность мифопоэтического контекста для литературы периода гражданской войны и 1920-х гг. С другой стороны, она детерминирована предшествующей литературной эпохой (серебряный век с его тягой к мифу, неомифологизм символистов).
Большевизм, которому была свойственна позиция притяжения/отталкивания по отношению к религии, воспринимает «христианскую модель» обновления Космоса, характерную своим отказом от идеи цикличности. После мирового катаклизма, влекущего за собой всеобщее преобразование, дальнейшее историческое развитие не предусматривается, т.к. после Страшного суда праведники пребудут в вечном раю, грешники — в аду. Революция, уподобленная Страшному суду, также знаменует собой конец истории, ибо предполагает последующее наступление своеобразного «золотого века» = коммунизма, венчающего собой развитие человеческой цивилизации. Такая трактовка коммунистического общества соотносима скорее не с традиционным христианством, предусматривающим полный распад космоса в конце истории (звезды упадут на землю, сама она канет в бездну и т.п.), а с милленаристским течением, декларирующим тысячелетнее царство праведников на земле.
В традиционном мифе периодическое разрушение земли символизирует возвращение к Хаосу (началу начал) и новое творение. Основными причинами такого возвращения обычно являются грехи людей и старение мира. Революция, отождествляемая культурой с природным катаклизмом огромной разрушительной силы, наделяется очистительным смыслом. Революционный процесс предполагает радикальную ломку почти всех институтов, исторических традиций, перестройку всей жизни общества. Ее причинами также считаются порочность, разложение старого мира (увенчивающееся бессмысленной войной) и грехи людей («буржуев»).
Древние космогонические ритуалы отражали ввержение мира в хаотическое состояние оргиастическими действами. В революционном контексте, по замечанию А. Синявского, расставание с прошлым (т.е. его разрушение) сопровождается «революционной вакханалией» [173:13]. Участники драмы выступают в роли «святых убийц» или «святых грешников». У истоков этой образности стоит А. Блок, рисующий в своей поэме «Двенадцать» персонажей подобного плана
«НОВАЯ ВЕРА»: религиозно-мифологическая основа коммунистической идеологии в произведениях советских драматургов
Совокупность религиозно-мифологических элементов, присутствующих в драматургических произведениях 1920-х гг. и объединенных нами в понятие «новая вера», включает в себя компоненты как идеологического, так и собственно мифологического характера. Синтезирование культурных знаков, нерасторжимость их переплетения свидетельствует о неомифологическом характере исследуемых нами текстов.
Вопреки декларируемому отказу от церковно-религиозных ценностей культурно-идеологическая основа коммунистического дискурса имела отчетливо религиозно-мифологическую основу. Культурные продукты эпохи, к которым относятся и интересующие нас произведения советской драматургии, достаточно явно иллюстрируют этот тезис, поскольку, как правило, несут в себе мощный заряд христианской символики, встроенной в новый мифопоэтический контекст.
«Система марксистского миросозерцания приобретала в Советской стране вид некой новой религии явно авторитарного характера, дающей чувство защищенности посредством повиновения сильной личности и ликвидации личной независимости», - пишет Н.Б. Лебина в монографии «Повседневная жизнь советского города. 1920/1930 годы» [101:151]. Тезис о явном перевоплощении коммунизма в религию «наизнанку», компартии в церковь, оппозиции в еретическую секту и т.д. является достаточно распространенным в научной литературе, посвященной советской культуре 1920-30-х гг.
А. Синявский в книге «Основы советской цивилизации» говорит о том, что и коммунизм, и революция пытались воплотить в жизнь высшие запросы, содержащиеся в душе человека, и коренным образом переделать мир, отменив всю предшествующую историю человечества как неправильную и неправедную. А посему «коммунизм входит не только как новый социально-политический строй и экономический уклад, но и как новая великая религия, отрицающая все другие религии» [173:11].
В религиозно-мифологическом контексте процесс резкой смены формации естественно воспринимался как Апокалипсис, конец мира (истории) - как установление царства божьего на земле. Искажая христианское учение, коммунизм вбирает в себя идею Апокалипсиса, Страшного суда для грешников-буржуев и последующего рая для праведников-пролетариев. В силу патриархальности мировоззрения значительная часть населения России отождествляла идеалы христианства и коммунизма. Поскольку массовое сознание оставалось религиозным, оно было готово к восприятию новой догмы, в которую был превращен примитивированный в России марксизм. Кроме того, надо заметить, что для подавляющего числа населения программа большевиков сводилась к нескольким лозунгам, большая часть которых в основе своей восходит к библейским изречениям.
Характерно, что параллели между марксизмом и христианством были отмечены задолго до Октябрьской революции в работах деятелей социал-демократического толка. Более того, практически каждый из видных представителей течения обращался к этой проблеме.
Так, Ф.Энгельс в своем введении к работе К.Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» приравнивает ранних христиан к социалистам, говоря о христианстве как об «опасной партии переворота» [233:547]. В работе «К истории первоначального христианства» [234] он соотносит раннее христианство и рабочее движение, подчеркивая присущие им обоим проповедь избавления от рабства и нищеты и стойкость в достижении поставленных целей, несмотря на явную травлю и гонения.
К. Каутский в работе «Происхождение христианства» (1908 г., в России была издана уже в 1909 г.) развивает идеи Ф. Энгельса. В Евангелии он находит «ярую классовую вражду к богатым» [85:307], раннее христианство описывает" как религию пролетариев и люмпен-пролетариев, раннехристианскую общину, моделью которой служила апостольская группа во главе с Христом, как коммуну: «Ввиду этого резко выраженного пролетарского характера общины вполне естественно, что она стремилась к коммунистической организации» [85:310]. Однако раннехристианская община, достигнув такого похвального результата, как отказ от личной собственности, постепенно пришла в упадок. К. Каутский объясняет это тем, что первые века нашей эры не имели в себе всех исторических условий, необходимых для осуществления пролетарской революции. Теперь же, в начале XX века, такие условия, по его мнению, в наличии имеются.
Образ Христа К. Каутский трактует в том же ключе: он отводит ему роль руководителя восставших пролетариев: «Как ни кроток и смиренен обычно Иисус, - пишет он, - но иногда у него вырываются замечания совсем иного характера, которые позволяют предположить, что в первоначальной традиции он являлся бунтовщиком, который был распят за неудачное восстание» [85:339]. Говоря об отрицании брака в раннехристианской общине (имеются в виду разные формы безбрачия — и целибат, и общность жен), он утверждает, что «воззрение общины на брак, семью, положение женщины вполне соответствуют тем формам, которые логически вытекают из коммунизма, и в свою очередь служат новым доказательством, что коммунизм определял собой мышление раннего христианства» [85:330]. Интересно то, что трактовка родственных связей как препятствия на пути организации нового сообщества становится крайне актуальной для советской послереволюционной культуры и литературы. Революционной традиции свойственно некоторое отождествление раннехристианской и коммунистической общин, при этом первая рассматривается как явный прообраз второй.
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»: интертекстуальные и мифологические корни
Наряду с идеей космогонического творения нового мира одной из основных тенденций эпохи становится антропологическая концепция создания «нового человека». Несущий за собой целый комплекс религиозных, философских и литературных аллюзий, «новый человек» явился одной из тех идей, которые пытались обрести реальное воплощение. Революционные потрясения, трактуемые в мифопоэтическом ключе как катаклизм космогонического значения, придали новый смысл идее, детерминированной литературой и философией XIX - начала XX вв.
Термин «новый человек» берет свое начало в Ветхом завете, однако особое значение приобретает в свете философии Ф.Ницше, столь популярной в среде русских интеллектуалов рубежа веков. А. Эткинд пишет: «Такие лидеры будущей советской интеллигенции, как Горький, Маяковский, Луначарский в свои молодые годы находились под сильнейшим влиянием Ницше, и их позднейший большевизм позаимствовал у Ницше куда больше, чем у Маркса» [244 ) Кроме того, значимые коннотации этому понятию в русской культуре придает беспрецедентный по своему влиянию на читателя роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», имеющий, впрочем, в своей идеологической концепции типологическое сходство с ницшеанской философией сверхчеловека. И в том, и в другом случаях «старый человек» расценивается как средство построения некоего будущего существа, как то, что, по словам Ф. Ницше, «должно преодолеть» [129:9]. На протяжении нескольких десятилетий рубежа XIX-XX вв. в русской культуре предлагались разные способы и средства такого преодоления, сама же цель и необходимость преобразования казались несомненными.
После романа Н.Г. Чернышевского идея нового человека (наряду с идеей создания нового мира) становится одной из основополагающих для концепции революционного движения. Она кодифицируется даже на уровне песенного (то есть одного из самых близких к мифопоэтическому, фольклорному) творчества. Для примера можно взять текст известной песни Г.А. Мачтета «Замучен тяжелой неволей», которая воспринималась как народная. В ней реализуется алгоритм развития нового человека в русле идей Н.Г. Чернышевского. Одновременно в образе человека будущего проявляются черты сильной личности ницшеанского толка:
Как ты, мы, быть может, послужим Лишь почвой для новых людей, Лишь грозным пророчеством новых, Грядущих и доблестных дней. .. . Но знаем, как знал ты, родимый, Что скоро из наших костей Подымется мститель суровый И будет он нас посильней [163:393].
Русская религиозно-философская мысль, начиная с Вл. Соловьева, также призывала к переделке тварного человека, к созданию богочеловека на земле. Сам Соловьев, выступающий как последователь христианской традиции, считал, что преображение мира и человека произойдет в конце всего мирового процесса. Большевики решили, что революция своим фактом уже ознаменовала такой конец. Кроме того, их не удовлетворял путь преобразования человека посредством искусства. Адепты марксизма, они видели истину не в духе, а материи. Идея создания нового человека в 1920-е гг. реализуется в разных плоскостях культуры, начиная с появления новой науки (педологии) и опытов по селекции23 и заканчивая новой концепцией театрального искусства. Так, по мнению Ю.А. Дмитриева, театральный режиссер Н.М. Фореггер «утверждал, что современная сцена должна, минуя психологию и вовсе не интересуясь ею, показывать нового человека, демонстрируя его силу, акробатическую ловкость и легкость, мастерство, умение споро и ладно выполнять любую работу» [66:161]. На уровне основных символов эпохи (человек-механизм, машина, винтик), олицетворяющих собой момент «перековки» человека, утверждалось преодоление биологичности в машинизации человеческого тела. Биомеханические утопии грезили о рационалистическом сращивании организма и механизма в сверхорганизм.
Кроме того, следует добавить, что в культуре 1920-х гг. шел процесс отождествления понятий «новый человек» и коммунист, большевик. Коммунист, как человек новой формации, представлялся примером более высокого уровня развития личности по сравнению с другими, «несознательными» и неразвитыми индивидами. Принадлежность к новой -советской - культуре определяла социальный статус гражданина. Оппозиция нового и старого в социокультурной реальности выразилась через противопоставление «новых» и «бывших» людей.
Трансформацию понятия «новый человек» в драматургии 1920-х гг. целесообразнее будет проследить на фоне общего интертекстуального поля эпохи. И фокусом такого рассмотрения станет роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?». Для литературы и, в частности, драматургии данного периода характерен процесс активного отталкивания/притяжения по отношению к предшествующим литературным практикам. С одной стороны, в послереволюционной советской литературе декларируется отказ от «буржуазного наследия». С другой - к середине 1920-х гг. авангардистский призыв «сбросить классиков с корабля истории» становится уже не актуальным.
Драматургия Н.Р. Эрдмана: мифологемы эпохи и их метаморфозы
Творческое наследие Н.Р. Эрдмана, включающее в себя интермедии, обозрения, отдельные сцены и две пьесы, занимает особенное место в системе советской драматургии 1920-х гг. Органично вписываясь в общую картину советской комедиографии данного периода (представленную в нашей работе пьесами Б.Ромашова, А.В.Луначарского и др.), произведения Н.Р. Эрдмана, тем не менее, выгодно отличаются от основной массы драматургических текстов глубиной проработки нравственно-философского уровня, сложностью сюжетно-композиционного строения и общей «литературоцентричностью». Огромную роль в пьесах драматурга играют элементы мифопоэтического характера.. Обе его комедии тесно связаны с традицией народного театра, прямо восходящей к мифологической архаике. Более всего это влияние очевидно в первой пьесе драматурга -«Мандате». В «Самоубийце» балаганная эстетика сопряжена с философичностью, водевильность сменяется трагикомичностью. Однако и для «Мандата» и для «Самоубийцы» одинаково значим мифопоэтический контекст, и если в первом случае речь идет скорее о фольклорном влиянии (сказка, жанры народного балагана), то во втором доминируют христианские компоненты, тесно переплетенные с собственно архаической мифопоэтикой и атрибутами обыденной религиозности.
Выделенный и описанный нами в предыдущих главах мифопоэтический комплекс элементов, относимых к системе новой советской мифологии, релевантен для произведений Н.Р. Эрдмана. Рассмотрение драматургического наследия писателя на фоне общетипологической картины десятилетия представляется исключительно плодотворным, поскольку, используя в своем творчестве универсальные мифологемы эпохи, Н.Р. Эрдман уходит от жесткой заданности и схематичности текстов советских драматургов, оригинально переосмысляя совокупность религиозно-мифологических структур, составляющих комплекс советской мифологии.
Произведениям Н.Р. Эрдмана свойственно переплетение балаганных, цирковых приемов и интертекстуальной игры. Обычная составляющая эстрадных текстов драматурга — пародийное изображение тех или иных объектов советской культуры и коммунистической идеологии.
Мифопоэтические и интертекстуальные элементы в его произведениях неразрывно связаны друг другом - этот сплав характерен для обеих пьес драматурга, реализован он и в малых сценических жанрах. Так, одноактная пьеса «Гибель Европы на Страстной площади» (1924) сочетает в себе пародирование одного из основных сюжетов «новой космогонии» и интертекстуальную игру с пьесой В. Маяковского, реализующей тот же мифологический сюжет. Это небольшое произведение Н.Р. Эрдмана предназначалось для эстрады, поэтому пародирование культурной реальности детерминировано в нем жанровой спецификой. В рамках эстрадного текста пародия служит в основном комической цели.
Событие, вокруг которого разворачивается действие «Гибели...» -«потоп», который в ранней советской культуре (в том числе, например, и у В. Маяковского), отождествляясь с хаосом, знаменовал собой начало нового цикла развития. Наряду с извержением вулкана потоп становится одним из самых устойчивых сюжетов советской космогонии. Такая тенденция обусловлена ее преемственностью по отношению к леворадикальной культуре, которая, по словам М. Вайскопфа, «отождествила Потоп с неодолимым восстанием - разливом бушующих масс, несущим очищение, а заодно и новое крещение миру» [24:97]. К середине 1920-х гг. уподобление восстания потопу или извержению (что в принципе равнозначно, поскольку вода или огонь выступают в роли одного из первоначал) становится культурным штампом и — соответственно — объектом для пародии, невозможной ранее. Пародийная игра со стереотипами ранней советской культуры, тяготеющей к ветхозаветной тематике, свойственна литературе середины - второй половины 1920-х гг. (М.А. Булгаков, А. Платонов, Е.И. Замятин и др.). Эрдман сопрягает такую игру с пародией на текст, который условно можно назвать «манифестацией» новой советской космогонии — это «Мистерия - буфф» В. Маяковского.
Анализ «Европы..» обнаруживает интертекстуальный диалог с текстами Маяковского; пародия направлена прежде всего на «официальную» публичную деятельность В. Маяковского: лозунги, летучки идеологического и рекламного характера. Так, Н.Р. Эрдман пародирует его рекламную продукцию: