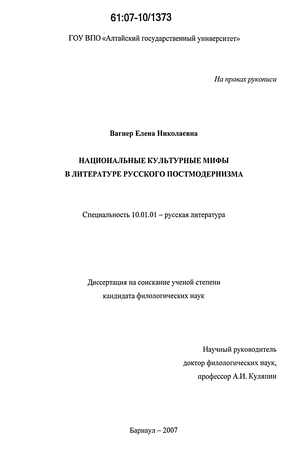Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Русский постмодернизм» и «национальная культурная мифология» 18
1.1. Русский постмодернизм 18
1.2. Национальная культурная мифология 34
Глава II. Эсхатологический миф 42
2.1. Эсхатологизм как свойство национального сознания 42
2.2. Эсхатологическое мироощущение на рубежах веков 49
2.3. Эсхатологический мотив поиска Града в поэме Вен. Ерофеева «Москва - Петушки» 57
2.4. Эсхатология и мессианизм в романе Вик. Ерофеева «Русская красавица» 64
2.5. Эсхатологизм рубежей веков в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» 75
2.6. Постапокалиптический мир в романе Т. Толстой «Кысь» 89
2.7. Постмодернизм и эсхатологизм 96
Глава III. Литературный миф 101
3.1. Литературоцентризм русской культуры. Восприятие А.С. Пушкина национальным сознанием 101
3.2. Имя Пушкинского дома в романе А. Битова 114
3.3. «Пушкин-вопрос» в поэме Вен. Ерофеева «Москва - Петушки».. 127
3.4. Пушкин как феномен русского Диснейленда в «Заповеднике» С. Довлатова 131
3.5. Идол Пушкина в романе Т. Толстой «Кысь» 137
3.6. Интерпретации пушкинского мифа в рассказах А. Жолковского, А. Битова, Т.Толстой 148
3.7. Памятник Пушкину в творчестве В. Пелевина («Чапаев и Пустота», «Мардонги») 163
3.8. Пушкинский миф в контексте мифа литературного: варианты функционирования, истоки, структура 170
Заключение 185
Библиография 195
- Национальная культурная мифология
- Эсхатологический мотив поиска Града в поэме Вен. Ерофеева «Москва - Петушки»
- Литературоцентризм русской культуры. Восприятие А.С. Пушкина национальным сознанием
- Интерпретации пушкинского мифа в рассказах А. Жолковского, А. Битова, Т.Толстой
Введение к работе
Работа «Национальные культурные мифы в литературе русского постмодернизма» посвящена чрезвычайно актуальным для современных гуманитарных наук проблемам, к которым относятся:
проблема культурного самоопределения России на рубеже XX-XXI вв.;
проблема воплощения национального опыта и осмысления произошедших в общественной жизни перемен в социально и эстетически значимых объектах - литературных текстах;
проблема культурной преемственности в русской литературе XX века;
проблема взаимодействия непосредственного исторического/ экзистенциального опыта (реальности) и его описания (текста).
Из обозначенных общегуманитарных и междисциплинарных проблем вытекает ряд тем и проблем более частного характера, к которым планируется обратиться в процессе исследования.
1. Проблема самоидентификации России в диахроническом аспекте и ее отражение в литературе русского постмодернизма (условные границы -последние три десятилетия XX в.). Выбор в качестве объекта исследования постмодернистских текстов объясняется не только их временным соответствием эпохе перемен, но и их интертекстуальностью, вследствие чего авторам приходится обращаться как к современности, так и к опыту предшествующей культуры, раскрывая, тем самым, заложенные в ней смыслы и интерпретируя их с позиций современности.
Подобный взгляд создает особую перспективу, позволяющую смотреть на события настоящего сквозь призму прошлого и наоборот, видеть историю с позиций дня сегодняшнего. Для литературы XX века такая позиция оказывается интересной и продуктивной, в связи с чем жанр исторического романа получает второе дыхание и принципиально меняется отношение к историческому процессу. История воспринимается как текст, который, в соответствии с установками постструктурализма, может быть прочитан и
5 интерпретирован по-разному. По замечанию Ю.М. Лотмана, прошлое воспринимается нами как нарратив, представленный некоторой суммой текстов: «Историк обречен иметь дело с текстами. <...> Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии - событие. <...> Историк не наблюдает события, а изучает их пересказы в виде нарративных источников» [184; с. 336-339]. Или, как говорит Л.А. Монтроуз, «текст историчен - история текстуальна», понимая под текстуальностью истории «тот факт, что мы не имеем прямого доступа к прошлому во всем его объеме и аутентичности, к живому материальному существованию, прошлое доступно нам только через уцелевшие текстуальные следы изучаемого общества» [204; с. 18]. Причем позиция «читателя» или интерпретатора оказывается в настоящее время не менее важной и активной, чем позиция автора и самого текста (в данном случае мы обращаемся к коммуникативной цепочке автор - текст - читатель). Подобная общекультурная тенденция проявилась не только в научном дискурсе (см. работы А.Т. Фоменко и В.Г. Носовского [217]), но и в литературе через обращение писателей к феномену альтернативной истории. На этом построены такие тексты, как «Остров Крым» В. Аксенова, «Палисандрия» С.Соколова, «Сорок лет Чанчжоэ» Д. Липскерова, «Великий поход за освобождение Индии» В. Залотухи, «Борис и Глеб» Ю. Буйды, «Чапаев и Пустота» В. Пелевина, «Голубое сало» В. Сорокина и др.
На протяжении XX века менялось осмысление истории в культурной парадигме. Если для начала века был характерен антиисторизм, а для середины века (эпоха господства структурализма) аисторизм, то для конца столетия наиболее подходящим определением можно признать квазиисторизм, который затем переходит в «новый историзм», определяемый A.M. Эткиндом как «история не событий, но людей и текстов в их отношении друг к другу» [347; с. 7].
При восприятии подобных текстов, интерпретирующих и деконструирующих традиционное представление о российской истории,
читатель невольно попадает в ситуацию герменевтического круга [68; с. 317]: с одной стороны, предлагаемая версия произошедшего как бы отменяет официальную и в рамках художественного произведения претендует на историческую подлинность; с другой - предлагаемый текст, обращаясь к значительным событиям национальной истории, вступает во взаимодействие со всеми предыдущими текстами, посвященными этим же событиям. При этом автор, естественно, не рассчитывает на читателя, который в плане исторической осведомленности окажется «tabula rasa», напротив, такой читатель был бы неспособен воспринять подобные произведения, специфика которых как раз и заключается в игре смыслов, рожденных несколькими версиями произошедшего, в диалоге традиционной официальной версии - и авторской, декоструктивистской.
В связи с отсутствием среди литературоведов единого мнения о феномене постмодернизма и о перечне относящихся к нему литературных текстов, возникает проблема определения объема понятия «постмодернизм» - в контексте не только уже сложившейся литературоведческой традиции, но и в соотношении с зарубежными (европейскими и американскими) аналогами. В результате этого планируется выявить специфику постмодернизма в России и проанализировать открытый им литературный и, в целом, культурологический потенциал.
Еще одна проблема заключается в выборе литературных текстов, подлежащих анализу. Количество написанного, естественно, велико, поэтому решение данной проблемы планируется проводить по критериям «экстралитературным» - то есть, основываясь на общественном резонансе, вызванном тем или иным литературным произведением, на степени осмысления и воплощения в художественном тексте национальной темы и на способности анализируемого текста быть воспринятым и, следовательно, усвоенным возможно большей читательской аудиторией. В данном случае мы имеем дело с феноменом популярности литературного текста, основу которого видим в соответствии некоего текста мнениям и установкам
7 достаточно большого количества читателей. Естественно, что наибольшей популярностью пользуется так называемая массовая, жанровая литература, которая не представляет для литературоведения особого интереса. Художественные тексты, к которым мы обращаемся в данной работе, занимают на шкале филологической ценности различные позиции - от признания их в качестве классики XX века («Пушкинский дом», «Москва -Петушки») до определения некоторых текстов как миддл-литературы, совмещающей в себе черты массовой и элитарной (творчество В. Пелевина). Однако последняя характеристика присуща литературе постмодернизма в целом, поэтому в наши задачи не входит проблема иерархий в современной литературе. В соответствии с обозначенными критериями выбора, в поле нашего внимания попадают наиболее известные в различных читательских кругах произведения таких авторов, как А. Битов, Вен. Ерофеев, Вик. Ерофеев, А. Жолковский, С. Довлатов, Т. Толстая, В. Пелевин. Творчеству последнего уделяется особое внимание в связи с наибольшей степенью «адекватности» современности. Как замечает А. Немзер, весьма критически относящийся к творчеству писателя, Пелевин - «идеальный выразитель коллективного бессознательного 1990-х годов» [210; с. 204].
Актуальность предпринятого исследования определяется двумя факторами: собственно литературным и внелитературным. Первый напрямую связан со спецификой литературы постмодернизма - эпохи, которая, по мнению большинства исследователей, только что завершилась или завершается буквально на наших глазах. Исследованию постмодернистской литературы в последнее десятилетие посвящено немало работ, но многие произведения все еще остаются мало изученными и требуют внимания. Однако актуальность исследований в области современной словесности связана еще и с самим культурно-историческим опытом, воплощенным и зафиксированным в этих текстах, опытом, осмысление которого происходит в настоящее время, и, как нам представляется, немалую роль в этом осмыслении играет литература.
8 Область национальной культурной мифологии в последние десятилетия привлекает внимание различных дисциплин, при этом ведутся не только теоретические исследования в данной области, но и поиск способов и механизмов использования национальных мифов в различного рода кампаниях (в политике, рекламе, СМИ, международной коммуникации и пр.). Однако функционированию этих мифов в литературе не уделяется должного внимания, в то время как именно литература является главной областью их формирования в диахроническом аспекте и функционирования в синхронии. Настоящая работа призвана проанализировать бытование национальных культурных мифов в современной литературе и восполнить данный пробел.
Объектом исследования является отечественная проза последней трети XX в. Мы намеренно не обращаемся к новейшим произведениям литературы, принадлежащим культуре теперь уже XXI века, так как в своем определении постмодернизма ориентируемся именно на его «финальность». Таким образом, рассматриваемые тексты - от «Пушкинского дома» (1969) до «Кысь» (2000) - хронологически охватывают последнюю треть века и воплощают некоторые особенности национального менталитета, актуализированные ситуацией рубежа эпох, что позволяет говорить о реализации в данных текстах представлений о мифах русской культуры.
Предмет исследования составляют национальные культурные мифы, представленные в рассматриваемых произведениях. В свою очередь, область культурной мифологии является элементом представления о национальном образе в целом. По мнению А.Х. Вафа, «образ страны, народа, нации - это сложно организованная система, имеющая иерархическое строение, система самодвижущаяся и в стимулах своего существования во многом зависимая от окружающих ее подобных систем» - то есть, «образ себя» строится в сопоставлениями с «образами других» и помимо синхронического аспекта имеет диахронический, включая «образ прошлого», «образ настоящего», «образ будущего» [219; с. 209]. По наблюдениям ученых, занимающихся
9 исследованиями в области имагологии и национальных стереотипов, одной из важнейших категорий национального образа является сфера культурных мифов (А.Ю. Большакова, B.C. Елистратов и др.).
Материалом исследования послужили следующие романы, повести и рассказы: «Пушкинский дом», «Вычитание зайца», «Фотография Пушкина» А. Битова; «Москва - Петушки» Вен. Ерофеева; «Заповедник» С. Довлатова; «Русская красавица» Вик. Ерофеева; «Чапаев и Пустота» В. Пелевина; «Кысь», «Сюжет», «Лимпопо» Т. Толстой; «НРЗБ» А. Жолковского. Следует сказать, что перечисленные тексты в разной степени попадают в зону нашего внимания, в связи с тем, что интересующая нас проблематика воплощена в рассматриваемых произведениях в различной мере.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка реконструировать и эксплицировать эсхатологический и литературный мифы русской культуры на материале литературы последней трети XX века, выявить их истоки и структуру, проследить их становление в диахроническом аспекте и функционирование в синхронии. Кроме того, в работе определяется место и значимость национальной культурной мифологии в более широком культурологическом спектре. При этом исследование приобретает междисциплинарный характер и производится на стыке литературоведения, имагологии, семиотики, психологии и культурологии.
Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть структуру и функционирование двух базовых мифов русской культуры -эсхатологического и литературного - в современной русской литературе, проследить их взаимосвязи как с предшествующей литературной традицией, так и с внелитературной действительностью.
Поставленной целью определяется ряд конкретных задач диссертационного исследования. Обращаясь к рассмотрению такого сложного синтетического явления, как национальный образ, мы понимаем, что в рамках работы подобного рода невозможно раскрыть его во всей
10 полноте, тем более, что в область нашего внимания попадает довольно обширный пласт художественных текстов, относящихся к постмодернизму. Поэтому из литературной массы последней трети XX века мы выбираем несколько наиболее репрезентативных, на наш взгляд, текстов авторов «первого ряда». Что касается основного теоретического конструкта, о котором идет речь - «образа России», то сквозь призму имагологического подхода мы разбиваем это явление на спектр отдельных тем или категорий, к числу которых относится национальная культурная мифология. Исследуя этот феномен на материале обозначенных текстов, мы определяем задачи настоящего исследования следующим образом:
Выявить специфику российского постмодернизма в его диахроническом (в контексте исторического развития России) и синхроническом (в сопоставлении с аналогичными культурными ситуациями других стран) аспектах.
Определить объем понятия «национальная культурная мифология» и выявить основные национальные культурные мифы на основе классического наследия русской литературы и философии.
Рассмотреть истоки, структуру и функционирование эсхатологического мифа в исследуемых текстах. Проследить взаимосвязь современных апокалиптических представлений с аналогичными идеями прошлого рубежа веков.
Рассмотреть истоки, структуру и функционирование литературного мифа в постмодернистской литературе, определить его основных героев. Проанализировать его национальную специфику, тенденции и культурологический потенциал.
Суммируя полученные результаты и подводя итоги исследования, реконструировать культурную мифологию России, представленную в литературе русского постмодернизма.
Методы исследования. В рамках данного исследования используются структурно-семиотический, культурологический и интертекстуальный методы анализа.
Выбор тематики исследования обусловлен кризисом общественного самосознания в России. Истоками этого кризиса, как нам кажется, являются ключевые события российской истории XX в., вызвавшие психологическую и культурную дезориентацию, вследствие которой не только резко изменилось существующее положение вещей, но и многократно переписывалась история: сначала крушение Российской Империи и революция со всеми произошедшими изменениями в социальных отношениях, затем - распад СССР и последующее «новое Смутное время» 1990-х гг.
Рассматривая национальную историю XX века в контексте всей общероссийской истории, можно заметить некоторые параллели и проследить, в чем, при всем их различии, заключается сходство ситуаций 1917 и 1991 годов, привлекшее внимание не только историков, но и писателей (Т. Толстая, В. Пелевин, Вик. Ерофеев, С. Соколов и др.).
А.С. Ахиезер в книге «Россия: критика исторического опыта» предлагает заслуживающую внимания версию культурно-исторического развития России. С этой позиции он обнаруживает несколько констант российской истории и выделяет в ее рамках два больших цивилизационных цикла, имеющих структурные параллели, которые позволяют рассматривать эти циклы как реализацию одной и той же исторической (и даже историософской) модели. Первый цикл начинается с древней Киевской Руси и заканчивается в 1917 году, второй длится с 1917 до 1991 г. В настоящее время развивается третий цикл, о котором автор только делает прогнозы (книга была издана в 1991 г., переиздана в 1997 г.).
Не углубляясь в подробности представленных исторических изысканий, отметим, что в российской истории обнаруживаются четыре большие национальные катастрофы, которые повлекли за собой изменения
12 во всех сферах жизни общества и характеризовались развитием каждый раз новых культурных моделей и нравственных идеалов нации. К таким катастрофам относятся следующие: феодальная раздробленность XII века, следствием которой, как отмечает А.С. Ахиезер, стало завоевание Киевской Руси Золотой Ордой; всесторонний раскол общества в XVI-XVII веке (церковный раскол в данном случае - лишь одна из составляющих общего процесса), повлекший Смуту и польско-литовскую интервенцию; революции 1917 года с гражданской войной и всем последовавшим переустройством общества; распад СССР. Таким образом, «критические точки» (1917 г. и 1991 г.) XX века являются финальными для двух циклов российской истории [12].
Обе исторические коллизии повлияли на самоопределение страны и отдельной личности, в том числе актуализировали проблему национального, которая проявилась на всех уровнях культуры. В начале века это были споры о пути России (начиная творчеством B.C. Соловьева и заканчивая концепцией евразийцев), апокалиптические предчувствия (значительная часть литературы и философии серебряного века), интенсивные изменения в русском языке, повлекшие за собой смену литературной парадигмы (и реформу орфографии 1918 г.), волна эмиграции и т.д. В конце века - это также споры о судьбе России (ведущиеся в самых разных сферах - политике, истории, социологии, литературе и т.д.), также апокалиптические настроения, еще более заметные изменения русского языка и снова смена литературной парадигмы: литература, с одной стороны, усваивает опыт модернизма, с другой - во многом зависит от предшествующей соцреалистической парадигмы, вступая с ней в отношения притяжения -отталкивания.
Говоря о проблеме национальной идентификации, следует подчеркнуть особую роль национальной культурной мифологии. В настоящее время существует множество работ, посвященных исследованию мифов той или иной культуры (Г. Лебон «Психология масс», Р. Барт «Мифологии», А. Цуладзе «Политическая мифология» и др.). Вслед за Г. Лебоном
13 Н.Б. Кириллова говорит о том, что национальные мифы составляют «душу народа»: «Национальное самосознание формируется на основе мифов и неотделимо от них. Точнее было бы сказать, что исторические события становятся значимыми для потомков, когда вписаны в структуру национального мифа» [151; с. 157]. В итоге автор приходит к выводу: «В этом смысле история нации - миф, созданный ею о самой себе» [151; с. 157]. В переходные периоды развития общества под сомнение ставятся не только существующие политические, экономические и прочие государственные институты, но зачастую и сложившиеся культурные традиции, нормы и иерархии. Подобную ситуацию можно наблюдать на примерах перехода от Российской Империи к Советскому Союзу и от СССР к Российской Федерации. В первом случае уместно вести речь о революционной деконструкции существующей культуры, во втором - о постмодернистской.
В настоящее время, когда в стране происходят изменения и появляются новые тенденции, проблема национального самоопределения и самоидентификации в историческом плане так и не решена. С одной стороны - это попытки национально-патриотического воспитания школьников и активное спекулирование национальными образами в области рекламы и PR, с другой - отсутствие четкой национальной политики и непрекращающееся влияние иностранных, инокультурных образцов в самых разных сферах (в первую очередь - в массовой культуре и средствах массовой коммуникации). При этом острота проблемы повышается из-за того, что Россия - государство многонациональное, и, следовательно, объединением должна служить не собственно национальная принадлежность, а нечто другое - то, что остается после вычитания всех внешних факторов, что объединяет всех граждан России, - то есть язык, и соответственно, литература как способ организации национального языка и национального сознания. Доказательством тому может служить факт, что в большинстве случаев определение «русский» сейчас заменяется на «российский», и только язык остается «русским».
14 Теоретико-методологическую базу диссертации составляют труды представителей российского и западного направлений семиотики, в которых были сформулированы и разработаны современная концепция мифа и положение о знаковой природе культуры: Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.Н. Топорова, Б.М. Гаспарова, Б. Гройса, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинского, В.П. Руднева, Р. Барта и др. Актуальны для данного исследования теоретические работы по постмодернизму (Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, И.П. Ильин и др.), а также труды авторов, обращающихся к феномену постмодернистской литературы: М.Н. Липовецкого, М.Н. Эпштейна, М.Н. Золотоносова, Б.М. Парамонова, И.С. Скоропановой, О.В. Богдановой, В. Курицына, П. Вайля, А. Гениса и т.д. Отдельные аспекты постмодернистской литературы, рассматриваемые нами в русле национальной мифологии, обращали на себя внимание современных критиков и литературоведов. Так, о мессианских мотивах в романе «Русская красавица» писали О. Дарк и В.В. Десятов, эсхатологизм поэмы Вен. Ерофеева анализировался в работах М. Липовецкого, М. Эпштейна, О.Богдановой, Н. Нагорной и др. К исследованию образа Пушкина в постмодернистской литературе обращались А.Г. Коваленко, В.В. Десятов, О.В. Богданова, Б. Парамонов и др. В работе была использована методика интертекстуального анализа, разработанная в трудах Ю. Кристевой, Р. Барта, И.П. Смирнова, А.К. Жолковского, А.И. Куляпина, В.В. Десятова и др. Касаясь проблематики, связанной с исследованием национального менталитета и национальных архетипов, мы обращаемся к опыту психологических и имагологических исследований, а также литературно-философским трудам Г.Д. Гачева. Кроме этого, актуальными и востребованными для данного сочинения оказались исторические и философские работы, выражающие историософские концепции западников и славянофилов, П.Я. Чаадаева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, А.С. Ахиезера, А.С. Панарина и др.
15 К анализу национальных мифов русской культуры мы обращаемся в контексте имагологических исследований. Их цель заключается в обнаружении и описании национальных стереотипов, на основе которых складываются представления о той или иной стране, иными словами - образ этой страны. В современной культурно-политической ситуации все большим интересом пользуется имагология, однако в России исследования в этой области осуществляются преимущественно в политологии и социологии, в то время как литература заслуживает особого внимания, так как в ней происходит фиксация национального опыта, стереотипов и автостереотипов, из которых складывается «образ» («imago») страны. А.В. Павловская определяет имагологию как «междисциплинарное научное направление, изучающее происхождение, функционирование, влияние на состояние общества стереотипных представлений» [228; с. 428]. Н.А. Кубанев и Л.Н. Набилкина, обращаясь к имагологии в русле преподавания лингво-страноведения и лингвокультурологии, формулируют ее определение как «наука об образах»: «В общемировом диалоге культур, деле укрепления взаимопонимания между народами велика роль комплиментарного или негативного образа чужой страны и ее народа. Имагология вносит свой важный вклад в этот процесс, изучая факторы, ведущие к формированию того или иного образа со знаком плюс или минус» [158].
Из отечественных исследований в данной сфере для нас актуальны работы авторов, выпускающих сборники статей «Россия и Запад: диалог культур» (С.Г. Тер-Минасова, А.Ю. Большакова, B.C. Елистратов, А.В. Павловская и др.), а также исследования О.В. Рябова, О.М. Здравомысловой, СП. Галенко и других, в которых наряду с культуролого-социологическими штудиями присутствуют литературоведческие. Так, А.Ю. Большаковой и B.C. Елистратовым предлагается рассматривать «образ России» как совокупность следующих констант культуры: национальный характер, национальная идентичность, Русская идея, душа России, пространство, время и национальные мифы. В связи с
невозможностью в рамках работы подобного рода охватить весь спектр категорий, составляющих «образ России», мы останавливаемся на феномене национальной культурной мифологии, представленной в русской литературе последней трети XX века.
В мировой науке интересующая нас проблематика разрабатывается уже давно, ей посвящены труды немецких, английских и французских исследователей, в основном не переведенные на русский язык. В работах таких немецких авторов, как Г. Блайхер (Blaicher G.: "Einleitung des Herausgebers: Bedingungen literarischer Stereotypisierung"), П. Бёрнер (Boerner P.: "Das Bild vom anderen Land als Gegenstand literarischer Forschung"), X. Дизеринк (Dyserinck H.: "Zum Problem der "images" und "mirages" und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft"), M. Фишер (Fischer M.: "Nationale images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen Imagologie"), Ф.К. Штанцель (Stanzel F. K.:"Der literarische Aspekt unserer Vorstellungen vom Charakter fremder Volker") и др., представлен имагологический подход к литературе, прослеживается взаимосвязь между существующим стереотипом страны и восприятием ее литературы, а также между созданным в художественном тексте образом и его влиянием на представления о стране.
Практическая значимость исследования определяется возможностью применения материалов диссертации в учебном процессе, при подготовке основных и специальных курсов по истории русской литературы XX века, истории философии, культурологии, в работе спецсеминаров. Кроме этого, материалы исследования могут послужить для разработки методик по выявлению культурных стереотипов, проведения анкетирования и культурологического мониторинга.
Апробация работы. Материалы диссертации легли в основу докладов, сделанных в рамках: Всероссийской конференции «А.С. Пушкин и русская литература» (Москва, 2004), V Всероссийской научно-практической конференции «Русский вопрос: история и современность» (Омск, 2005),
17 I Международной научно-практической конференции «Святоотеческие традиции в русской литературе» (Омск, 2005), Международной научной конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2005), VI Краевой молодежной научно-практической конференции (Рубцовск, 2005), VI и VII Межвузовской конференции молодых ученых «Диалог культур» (Барнаул, 2003, 2004), Международной научной конференции (Барнаул, 2005), XXXI, XXXII и XXXIII Научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов (Барнаул, 2004, 2005, 2006), Региональной научно-практической конференции, посвященной 275-летию Барнаула (Барнаул, 2005), Научно-практической конференции «Молодежь - Барнаулу» (Барнаул, 2005), XI Всероссийской научно-практической конференции «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, 2006), Научной конференции, посвященной 25-летию факультета филологии и журналистики Красноярского государственного университета (Красноярск, 2006), Международной конференции в рамках Дня славянской письменности и культуры «Россия и славянский мир: прошлое, настоящее, будущее» (Коломна, 2007).
Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка литературы, включающего 352 источника.
Национальная культурная мифология
Кроме фольклора и общеевропейской (греко-римской) мифологии, в России сформировался ряд национальных культурных мифов, связанных с историко-культурными особенностями страны. Их формирование происходило под воздействием исторических, политических, религиозных и других общекультурных факторов.
Подобные мифы присутствуют в любой культуре, к примеру, в американской одним из культурных мифов является «американская мечта», а также миф о свободе (демократии), который можно рассматривать как вариант прометеевского. В германской культуре в середине XX века был актуализован арийский миф. Воплощение этих мифов, реализация заложенных в них смыслов и культурно-семиотических матриц происходит на всех уровнях культуры: в искусстве, политике, религии, общественной жизни, ТВ, рекламе, бытовом поведении и т.д. В настоящее время исследование культурных (социальных) мифов пользуется все большим вниманием, что, во многом, объясняется их суггестивным потенциалом, востребованным в области политических технологий, рекламы и PR (см. работы А. Цуладзе и др.). Актуализация национальной мифологии происходит, как правило, в критические периоды исторического развития («американская мечта» во время Великой депрессии, арийский миф после поражения Германии в I Мировой войне, эсхатологический миф в России в период революций и т.д.).
По мнению М.Н. Эпштейна, в данном случае «речь идет о своеобразной мифологии, только не пришедшей к нам в готовом виде из доисторических времен, а той, которая складывается на исторической почве и в создании которой мы сами принимаем непосредственное участие - как звенья в цепи национальной памяти, дополненной идеализирующим воображением» [343; с. 103]. Одной из причин этого, как пишет М.Н. Эпштейн, является «тот факт, что в России не сложилось (или была рано утрачена, дошла в крайне разрозненных фрагментах) система языческой, дохристианской мифологии (в отличие от древнегреческой, индийской, германской)» [343; с. 103]. Такая культурная ситуация «активно влияет на процесс образования новой, современной мифологии, включающей в свой сакральный контекст много исторических фигур» [343; с. 103].
Одной из таких фигур является А.С. Пушкин, рассматриваемый нами в рамках литературного мифа русской культуры. Наряду с «литературным мифом» в отношении фигуры Пушкина мы употребляем понятие «пушкинский миф». Если бы речь шла только о литературных текстах, можно было бы говорить о «пушкинском тексте» или о «пушкинском дискурсе». Но так как представления о Пушкине, аналогичные выраженным в литературе, существуют также и за ее пределами - в публицистике, кинематографе, городском фольклоре, обыденной речи и так далее, - то есть в широком поле культуры, мы предлагаем пользоваться понятием «пушкинский миф». О.Р. Темиршина, размышляя об отличиях между «пушкинским мифом» и «образом Пушкина в литературе», считает, что «пушкинский миф (как, впрочем, и любой другой миф) покидает художественное поле литературы и теснейшим образом оказывается связанным с внелитературной действительностью» [292; с. 161]. Тем более, что в отношении поэта понятие «пушкинский миф» стало уже употребительным и не новым. Оно используется в публицистических и теоретических исследованиях. Так, в сборнике статей «Беллетристическая пушкиниана XIX-XXI веков», вышедшем в 2004 г. по материалам конференции, авторы используют такие понятия, как «пушкинский текст», понимаемый «в широком диапазоне - от функционирования в беллетристике интертекстуальных элементов до воссоздания образа самого поэта в разнообразных контекстах» [292; с. 158], «пушкинский миф» и «образ поэта в литературе» [292; с. 161]. При этом идет разграничение «пушкинистики» и «пушкинианы» [292; с. 158]. В статье К.И. Шарафадиной «Культурные эмблемы неомифа о поэте русской поэтической пушкинианы XIX-XXI вв.», по свидетельству рецензента, «исследовательница как бы очерчивает семантико-мифологический «факт значений» пушкинского мифа, а потом показывает сам процесс порождения пушкинской мифологии» [292; с. 162].
В работе «Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка» Б.М. Гаспаров рассматривает становление литературного языка в творчестве поэта, определяя в качестве доминанты пушкинского творчества его «апокалиптическую» направленность и основу. В исследовании говорится о существовании не только «национального культа Пушкина» [71; с. 15], но и «пушкинского мифа» [71; с. 17]. Автор замечает, что «как ни абсолютен императив культурного мифа, он может и должен быть рассмотрен с историко-литературной и историко-лингвистической точек зрения» [71; с. 18]. Если Б.М. Гаспаров подчеркивает важность исторического подхода к исследованию феномена пушкинской роли в национальной культуре, то B.C. Непомнящий считает, что «Пушкин -явление сверххудожественное и сверхисторическое» [215; с. 507]. Исследователь говорит о Пушкине как о «центральной фигуре русской культуры, и, более того, в значительной степени - русского самосознания» [215; с. 503], подчеркивая, что «пушкинский миф - неотъемлемая часть общенационального «пушкинского контекста» [215; с. 536]. В том же русле о поэте пишет Г. Гачев: «Пушкин космичен, сверхисторичен» [74; с. 11]. Автор рассматривает русское представление о Пушкине в двух аспектах - с одной стороны: «Пушкин, мифотворец, населил наш Олимп ... всякое его речение - миф и архетип и основоположение нам» [74; с. 9], с другой: «сам -святыня: его жизнь стала нам Житие, национальное достояние» [74; с. 10], более того, «Слово Пушкина нам - как «святые дары», с помощью которых творим «евхаристию», причащаемся к абсолютному смыслу Бытия» [74; с. 11]. Исследовательские позиции Непомнящего и Гачева с одной стороны, и Гаспарова с другой, можно условно обозначить как соответственно «нахождение внутри мифа» и «попытка взгляда извне».
B.C. Непомнящий, как и Г.Д. Гачев, идет по пути все большей мифологизации поэта, отмечая, что такого места «никакому другому гению нигде - по крайней мере в христианскую эру - не выпадало» и определяя «пушкинский миф - не как набор легенд, а как понимание Пушкина в качестве феномена бытия, как один из основных национальных мифов - по существу, русская культурная теодицея» [215; с. 536]. Б.М. Гаспаров предпринимает попытку, несмотря на «императив культурного мифа», разобраться, «почему именно эта историческая реальность послужила основой для такого символического переосмысления» [71; с. 18], которое воплотилось в творчестве Пушкина, в связи с чем рассматривает взаимосвязь личности и семиотического контекста эпохи. Эти две тенденции проявляются не только в работах указанных авторов, но и во всех исследованиях, посвященных Пушкину. В связи с этим О.Р. Темиршина в рецензии на сборник статей «Беллетристическая пушкиниана XIX - XXI веков» говорит об ощущении, что многие авторы «не анализируют пушкинский миф, а занимаются его творением» [292; с. 162].
Эсхатологический мотив поиска Града в поэме Вен. Ерофеева «Москва - Петушки»
Поэма «Москва - Петушки», включающая множество самых разноплановых цитат, обращается к Библии в качестве основного цитируемого источника. За то время, когда книга стала доступна, написана масса работ о библейских аллюзиях, христоподобности героя и прочих моментах, позволяющих рассматривать этот текст с позиций эсхатологической символики. Поэтому в данной работе мы не претендуем на раскрытие этой тематики, но обращаемся к тексту в ряду других произведений постмодернистской литературы с целью выявления основных символов и мотивов, связанных с эсхатологическим мифом. Герой поэмы и его тип поведения определяются как «культурный архетип юродства» и «шутовства, скрывающего за собой мученичество» (М. Липовецкий), как «традиции русского скоморошества» (Вик. Ерофеев), как «юродивый» и «дурак» (О. Богданова). Также О.В. Богданова отмечает, что «относительно образа Венички правильнее говорить о следовании заповедям Христа и об уподоблении его апостолу» [28; с. 56].
Путешествие героя длится между двумя точками (подъездами): в начале он просыпается в «неведомом подъезде» на сороковой по счету ступеньке [110; с. 6], в финале погибает после того, как «вбежал в неизвестный подъезд и дополз до самой верхней площадки» [ПО; с. 186]. Таким образом, маршрут движения в поэме задан и известен, однако герой не достигает желанных Петушков, его путешествие оказывается движением по кругу. Веничка, тем не менее, до самого конца верит, что приедет в Петушки, даже когда уже видит признаки Москвы. Поэтому в финале в названиях глав появляются абсурдные сочетания: «Петушки. Вокзальная площадь», «Петушки. Садовое кольцо», «Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому». В путешествии не достигается изначальная цель, но тем самым оно переводится из разряда обычной поездки, как это было двенадцать недель подряд, в область мистическую и метафизическую. При этом актуализируется эсхатологическая семантика, противопоставляющая земной апокалиптический мир Царству Небесному: «Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу - а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время?» [ПО; с. 178]. Во второй части поэмы исчезает не только время, но и пространство превращается в сплошную тьму за окном. Эти исчезновения символически восходит к апокалиптическому пророчеству о конце света, при котором уничтожаются пространство и время: «И небо скрылось, свившись как свиток» (Откр., 6:14); и «времени уже не будет» (Откр., 10:6).
Размышляя о странничестве и скитальчестве в русской культуре, И.П. Смирнов обращает внимание на то, что «странничество отличается от всяческих путешествий тем, что не ведает конечной цели в социофизическом пространстве» [284; с. 205], то есть путь и главное движение происходят во внутреннем мире странствующего. Это позволяет некоторым исследователям (О.В. Богданова [28]) рассматривать путешествие Венички как происходящее в его сознании, как мытарства души на тех самых сорока ступенях неизвестного подъезда, в котором герой просыпается в начале и выходит из сознания, то есть умирает или засыпает в конце поэмы («с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду» [ПО; с. 188]). Рассматривая путь ерофеевского героя в русской традиции странничества, важно отметить, что как духовное и культурное явление, странничество сопровождалось текстопорождением [284; с. 206].
Герой поэмы Ерофеева, оказываясь в ситуации выбора пути, соотносится с фольклорным витязем, перед которым открывается три дороги - направо, налево и прямо. Но, в отличие от фольклорного героя, Веничка лишен самого выбора: «Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево -попадешь на Курский вокзал; если прямо - все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть» [ПО; с. 8]. Подобное «искривление» пространства, где все дороги ведут в одну точку или не ведут никуда, достигает своего апогея во второй части поэмы: «Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б» [110; с. 156].
Все действие поэмы происходит в пути, не в какой-то определенной точке пространства, а между ними. Это либо путь к поезду, либо движение самого поезда и героя в нем от станции к станции. Поэтому главы обозначены не названиями станций, а расстояниями от одной станции до другой, сами же названия станций - лишь знаки, так как действие поэмы с ними никак не связано, за исключением начальной и конечной точек маршрута. Только одна глава - пункт трагического поворота поэмы и самого героя совпадает с названием станции: Орехово-Зуево, но и оно двойственно. После прибытия поезда Веничка продолжает движение, в финале которого поезд «Москва - Петушки» сменяется на «Москва - Петушки. Неизвестный подъезд», где герой и гибнет.
В качестве реальных и символически насыщенных знаков-топосов в поэме представлены Москва и Петушки. Но Петушки не оказываются местом действия повествования, они предстают только в воспоминаниях и мечтах героя. В связи с рассмотренной выше традиционной системой координат, Петушки на символическом уровне являются вариантом Китежа: это место мечты героя, куда он стремится, но не может попасть. Поэтому единственной реальной координатой остается Москва. Она описывается с помощью таких топонимов, как «Кремль», «Савеловский», «Каляевская», «улица Чехова», «Садовое кольцо», «Курский вокзал», «памятник Минину и Пожарскому», «Лобня» и др.
Как не раз отмечалось исследователями, описания Москвы и Петушков противопоставлены друг другу в качестве инфернального и небесного миров соответственно: «Он благ. Он ведет меня от страданий - к свету. От Москвы - к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне - к свету в Петушкам» [110; с. 70]. Веничка описывает Петушки как место, «где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех - может, он и был - там никого не тяготит» [ПО; с. 41], а за Петушками «сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды» [ПО; с. 42]. Наличие волчицы позволяет А.Э. Васюшкину говорить о римской семантике локуса Петушков в статье «Петушки как второй Рим?», в результате чего он приходит к выводу: «Везде - Москва, даже в Петушках» [60; с. 210]. Но, как мы уже отметили, по своему описанию Петушки ближе к китежской символике благодатного и богохранимого города, находящегося в ином измерении. Мотив странничества в сочетании с попыткой достигнуть недостижимого места восходит к ситуации поиска Града, в качестве которого выступают Петушки: «Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился» [ПО; с. 42]. Паломничество связано в культурной традиции с поиском идеала. В.В. Колесов в работе «Отражение русского менталитета в слове» пишет: «Идеал видели не в будущем (которого просто «нет»), а в другом месте, отсюда - известные с давних времен «хождения за правдой» в Беловодье и проч. Идеал представлен не во времени, а пространственно, наполняя собой другое место; он не творится нами, а сосуществует с нами, его можно искать, найти (в буквальном смысле слова на-ити, то есть дойти до него)» [155; с. 99].
Литературоцентризм русской культуры. Восприятие А.С. Пушкина национальным сознанием
Еще Б.П. Вышеславцев писал: «Чтобы понять душу народа, надо проникнуть в его сны. Но сны народа - это его эпос, его сказки, его поэзия» [67; с. 113]. Мнение Вышеславцева совпадает с теорией К.Г. Юнга о коллективном бессознательном, проявляющемся в эпосе, фольклоре, в том народном творчестве, которое носит наименее индивидуальный характер. Однако и авторская, художественная литература способна выражать не только бессознательное своих творцов, но и коллективные символы, архетипы и стереотипы современной автору действительности. Литературные тексты становятся способом сохранения национальной памяти и накопленного культурного опыта, способом трансляции этого опыта во времени и пространстве. Более того, как считает А.В. Иванов, именно в искусстве происходит сохранение и приумножение символических систем данной культуры, обеспечивающих первичные формы самоидентификации: «Духовно-аксиологические матрицы любого народа рано или поздно обречены на отмирание, если не получают "вторую жизнь" в творчестве элиты, способной осознавать и приращивать потенциал национальных корней» [128; с. 58].
Говоря о специфике русской культуры, исследователи подчеркивают особую роль литературы [106], которая стала не только художественным творчеством, но и буквально «нашим всем». О русском литературоцентризме написано немало, обратимся к мнению «со стороны», из Европы, высказанному в начале XX века Томашем Масариком: «Такова одна из особенностей русской культуры: в литературу (в «художественную» литературу) в значительной степени проникают социология, философия, история и политика - при абсолютистском гнете литература была самой свободной политической трибуной, это был своего рода русский парламент ... . Русская литература - форум политики, философии, религии, а также искусства и художественного слова» [194; с. 5]. Здесь же Т. Г. Масарик говорит о роли литературы в создании представления о российской действительности: «Знание России, ее духовной жизни и европеец и русский все еще черпают у русских писателей» [194; с. 5]. Поэтому в сконцентрированном до одной фразы виде мнение человека, которому для понимания русской политики пришлось обратиться к литературе, звучит так: «Россия -это русская литература» [194; с. 5].
Другим авторитетным мнением можно считать статью И.А. Бунина «Инония и Китеж», где, в частности, писатель говорит: «Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное» [38; с. 161]. В этом ключе Бунин, как и многие его современники, отзывается о Пушкине. Знаменательно то, что отношение к поэту проникнуто почти сакральным почтением, все местоимения, относящиеся к Пушкину, Бунин пишет с заглавной буквы [37; с. 457]. В том же контексте творчество и личность Пушкина воспринимались многими бунинскими современниками, А. Блок, например, пишет: «Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни. Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров - и рядом это имя: Пушкин» [27; с. 377]. Тогда же, на рубеже эпох, В. Ходасевич объяснял причину повышенного интереса к поэту в начале XX века: «...это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке» [318; с. 205]. Ходасевич, как и Блок, акцентирует символическое значение Пушкина, становящегося «именем», так как считает, что связь с его временем скоро окончательно утратится и будет уже невозможно ощутить близость поэта, «потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой»
[318; с. 205]. Следует сказать, что в деле формирования пушкинского мифа, превращения поэта в «имя» и «символ» решающую роль сыграла литература рубежа XIX - XX вв. В творчестве Блока, Белого, Ходасевича, Цветаевой, Ахматовой, Есенина и других авторов, представляющих русский серебряный век, можно выделить совокупность мотивов, тем и образов, составляющих «пушкинский текст». Причем влияние поэта происходит не только на уровне текстуальном, но и биографическом, что особенно ярко проявляется, например, в ориентации на Пушкина М. Цветаевой и С. Есенина.
В советский период интерес к поэту не угасает, напротив, появляется множество литературных произведений, посвященных Пушкину. Вместе с этим, по мнению Е.П. Воробьевой, «миф о русской литературе создавался именно в советское время, когда определяются «великие» и «лучшие» писатели, иерархически упорядочивается вся система литературы» [65; с. 67]. Как замечает В.В. Кунин в статье «Пушкин - литературный герой», с 1917 по 1983 годы «Пушкину посвящено 11 романов, не менее 20 повестей, примерно столько же пьес, а что касается рассказов, эссе, очерков, то библиографическая статистика здесь пока бессильна» [160; с. 223]. При этом автор ведет речь о произведениях, по преимуществу, исторических, и естественно, битовский «Пушкинский дом» (1971) или довлатовский «Заповедник» (1983) в эту статистику, как и в сознание читателей того времени, не входят.
Постмодернистское отношение к фигуре Пушкина, по сравнению с советским, кардинально меняется. С одной стороны, при этом выходит на первый план тезис о непознаваемости Пушкина, как и прошлого вообще, с другой - он еще более превращается в знак, символ, миф. Если предшествующая литература пыталась изобразить Пушкина как личность, ориентируясь на принципы жизнеподобия и исторической достоверности, то постмодернистский Пушкин - это феномен культуры, концепт, существующий в национальном сознании. Начало постмодернистской пушкиниане задают «Прогулки с Пушкиным» А.Д. Синявского и «Пушкинский дом» А.Г. Битова. Осознание пушкинского мифа на волне тенденций деидеологизации и деконструкции неизбежно повлекло игру с этим мифом, основанным не только на литературоцентризме, но и на сложившейся в советское время литературной иерархии, «огосударствлении» Пушкина и интерпретации его творчества в контексте движения к новому социальному устройству. Этим объясняется внимание писателей к «маргинальное» поэта, попытки иной - отличной от официальной - точки зрения и т.д. Скандал, вызванный публикацией в конце 1980-х гг. книги Синявского, является одним из свидетельств глубокой традиционности и идеологизации литературного истеблишмента того времени. С другой стороны, подобная реакция была вызвана нахождением литературы в семантическом поле пушкинского мифа, в рамках которого, по замечанию Б.М. Гаспарова, образ Пушкина «возводится в некий культурный абсолют, воспринимается как всеобъемлющее выражение русского духовного мира» [71, с. 14]. В связи с этим «покушение» на фигуру Пушкина было воспринято как подрыв русской духовности, ядром которой считается литература. Пушкин же, в свою очередь, осознается как ядро литературы.
Насколько можно судить с позиций дня нынешнего, для русского литературоцентризма даже постмодернизм, при всех его тенденциях деконструкции и децентрации, не стал явлением разрушительным. Так, в связи с проблемой специфики российского постмодернизма М. Липовецкий отмечает, что постструктуралистские методы анализа текста, легшие в теорию постмодернизма, складывались как средство подрыва логоцентризма, «а русская культура не логоцентрична, а литературоцентрична» [176; с. 195].
Несмотря на все децентрации и деконструкции, пушкинский авторитет так и остался непоколебим. При этом стоит отметить, что подобные негативистские акции происходили в русской культуре и раньше. К ним можно отнести периоды 1850-1860-х тт. и выступления футуристов в 1910-х гг. Однако такого рода реакции происходили внутри пушкинского мифа, соответствовали ему со знаком «минус». В отношении этих эпох Б.М. Гаспаров определяет роль Пушкина в качестве «абсолютного негативного символа», являвшегося таковым в той же мере, в какой «для смежных периодов он служил абсолютным позитивным символом» [71; с. 17]. Исследователь подчеркивает необходимость пушкинской фигуры, от которой в данном случае происходит отталкивание: «При всей своей противоположности, обе описанные фазы фазы притяжения к Пушкину и отталкивания от него - Е. В. русской культуры, последовательно сменявшие друг друга, равно нуждались в Пушкине для своего самовыражения, равным образом строили это свое самовыражение по принципу диалога с Пушкиным, и таким образом вносили свой вклад в поддержание и развитие культурного мифа» [71; с. 17].
Интерпретации пушкинского мифа в рассказах А. Жолковского, А. Битова, Т.Толстой
Вариант развертывания пушкинского мифа в рассказе «НРЗБ» позволяет говорить о близости взглядов А.К. Жолковского и Т. Толстой («Кысь»): мир будущего, в которое попадает герой, также лишен религиозных ценностей, но их заменяет фанатическое почитание Пушкина, в связи с чем предпринимается попытка «создания управляемого божественного глагола» [120; с. 98], приводящая в итоге к всемирной катастрофе.
У Толстой и Жолковского финальные апокалиптические пожары связаны с ролью Пушкина, вернее, с восприятием его личности «далекими потомками». В «НРЗБ» к апокалипсису приводит попытка воскрешения Пушкина, в «Кысь», напротив, попытка уничтожения идола-памятника Пушкину. В обоих случаях финальное описание дается через библейский код, позволяющий провести параллели между Пушкиным и Христом, воспринятыми с семиотической точки зрения. Это отпечаток тела сгорающего поэта на простыне, отсылающий к Спасу Нерукотворному и Туринской плащанице (« ... догорала забрызганная воском и чернилами простыня, ... так что на ней фантастически отпечатались вдвойне африканские черты его лица, искривленные пожиравшим их пламенем» [120; с. 99]), благоговейное отношение к Слову поэта, которое поистине нетленно («В самом центре голубого костра ... вся в помарках, кляксах и зачеркиваниях привычно бежала вкось, никуда не убегая, не сгорая и лишь слегка подрагивая в лизавших ее языках пламени голограмма до боли родного почерка»[120; с. 99]), воспарение верных этому Слову «апостолов» и огонь.
Тем самым второе пришествие Христа заменяется на «второе пришествие» Пушкина, создаваемое по воле людей (посредством магнитного поля или изготовлением деревянного памятника), следовательно, появляется не сам А.С. Пушкин, а его суррогат («антропоморфоид» [120; с. 98], то есть симулякр). Создание этого симулякра становится причиной всемирной катастрофы, таким образом, эсхатологический миф выворачивается наизнанку: Россия (русская культура в лице Пушкина) не спасает мир, а напротив, приводит к гибели. Но причина этой гибели заключается в следующем: то, что воспринимается как выражение (квинтэссенция) русской культуры, является знаком, оторванным от надлежащего контекста, так как в описываемых художественных мирах ни России, ни русской культуры нет.
В повести А. Битова «Фотография Пушкина», рассказе «Вычитание зайца» и толстовском «Сюжете» представлены альтернативные модели истории в их связи с судьбой Пушкина. При этом Битов рассматривает возможности поворотов в пушкинской жизни в «реалистическом» (отсутствие зайца на дороге) и фантастическом (путешествие в прошлое за фотографией поэта) вариантах. Но последнее слово все-таки остается за существующим положением дел - несмотря на потенциальные возможности, реализуется и проявляет себя наличествующая история и судьба поэта не изменяется.
Повесть «Фотография Пушкина» помещается автором в контекст «Пушкинского дома»: ее главный герой Игорь Одоевцев является не только потомственным пушкинистом, но и потомком Левы Одоевцева [26; с. 441]. Картина будущего, представленная в повести, представляет собой механистическую цивилизацию высоких технических достижений, включая возможность путешествий во времени, при которых планета Земля стала музеем. Не только сама планета, но и каждый ее объект, включая Петербург, музей-квартиру Пушкина, стол в этом музее и чернильный прибор на столе, -всё покрыто специальными колпаками [26; с. 436-437]. При этом такие выражения, как «серебряное небо Петрограда» или «хрустальное облако Петербурга» являются, по замечанию автора, образными и, к примеру, последнее «выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый» [26; с. 436]. Эти характеристики отсылают к антиутопиям XX века, где футуристические общества также существуют в стеклянно-хрустальных городах и домах.
Отправной точкой повести является празднование трехсотлетия со дня рождения Пушкина, в связи с чем принимается решение о путешествии на машине времени в пушкинское время, для того чтобы записать его голос и сделать фотографию: «Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели... Мы должны исправить эту ошибку времени!» [26; с. 437].
Отношение к поэту в конце XXI века, о котором повествует Битов, в основном совпадает с представленным в «Пушкинском доме»: Пушкин воспринимается, прежде всего, как имя. Сближая разные времена через нахождение в одном пространстве, автор, комментируя слова оратора «Всюду звучит имя Пушкина», пишет: «Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами ... , вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника... Даже, быть может, голос его...» [26; с. 435-436]. При этом, если в «Пушкинском доме» в качестве музея поэта представлялись само одноименное учреждение, Петербург-Ленинград и даже Россия, то в повести музей расширяется до размеров планеты: «Сама идея перенести заседание юбилейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно..» [26; с. 436]. Речь оратора заканчивается искаженной цитатой из пушкинского «Памятника».
Миссия отправиться в прошлое и сделать фотографию поэта поручается Игорю Одоевцеву, но, несмотря на массу знаний о той эпохе, герой не вписывается в нее, остается чужаком, и Пушкин постоянно ускользает от фотообъектива. С самого начала Игорь сталкивается с метонимическим замещением Пушкина - бакенбардами («Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках... ... Что-то пародийно-пушкинское было в его лице») и лицами по фамилии Апушкин и Непушкин [26; с. 448-449]. В дальнейшем герой знакомится с Пушкиным, а свою жизнь в XIX веке воспринимает сугубо в связи с пушкинским творчеством и в контексте послепушкинской литературы: «Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять та самая. Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский?.. Левочке было восемь, Федору - пятнадцать, Михаилу Юрьевичу - двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один! Он чувствовал себя на вершине времени. И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно» [26; с. 449].