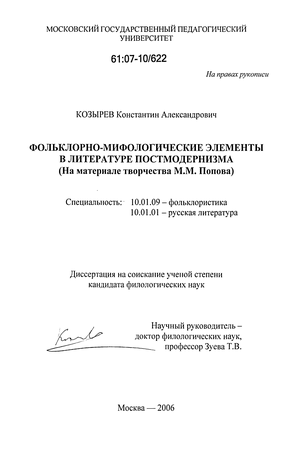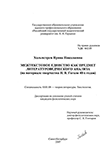Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Исторический и социокультурный кризис как фактор актуализации элементов мифологии в прозе современного литературного постмодернизма 27
Глава 2. Творческое осмысление проблемы социокультурного регресса в романе Михаила Попова «Ванечка»: функция мифоритуальной символики и образности 60
Глава 3. Элементы фольклора и мифологии в романе «Пора ехать в Сараево» и их влияние на историческую модель Михаила Попова 105
Заключение 139
Библиография 145
- Исторический и социокультурный кризис как фактор актуализации элементов мифологии в прозе современного литературного постмодернизма
- Творческое осмысление проблемы социокультурного регресса в романе Михаила Попова «Ванечка»: функция мифоритуальной символики и образности
- Элементы фольклора и мифологии в романе «Пора ехать в Сараево» и их влияние на историческую модель Михаила Попова
Введение к работе
В настоящее время критическое осмысление русского
литературного постмодернизма накопило достаточный багаж
профессиональных знаний, чтобы утверждать: отечественный извод
постмодерна не есть случайное, ограниченное узким кругом явление,
это важный фактор, оказывающий влияние на множество сфер
культурной и общественной жизни. Н.Маньковская в монографии,
имеющей в соответствии с характерной для постмодернистско-
постструктуралистских научных работ поэтикой заглавий
экзотическое название «Париж со змеями» и теоретически
выдержанный подзаголовок «Введение в эстетику постмодернизма»,
подчеркивает: «Пристальное внимание к культуре, эстетике и
искусству постмодернизма возникло в нашей стране во второй
половине 80-х годов, когда его западные образцы были не просто
импортированы либо пересажены на местную почву, но оказались
эмблемой уникальной культурной ситуации» . Действительно, вопрос
относительно эпистемиологической неуверенности как модели
наиболее адекватного описания того типа сознания, который
сложился в отечественной культуре в конце восьмидесятых - начале
девяностых годов в результате всеобщей девальвации большинства
целостных политических, идеологических и общефилософских
концепций, рассматривался многими исследователями,
занимавшимися вопросами современной культурологии, искусствознания и литературоведения. К их числу принадлежат работы И.Ильина «Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм» (М., 1996) и «Постмодернизм от истоков до конца
Мапъковская Н.Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). - М., 1994. - С. 5.
столетия» (М., 1998), словарь под названием «Постмодернизм. Словарь терминов» (М, 2001), монографии В. Курицына «Русский литературный постмодернизм» (М, 2001), О. Богдановой «Современный литературный процесс: (К вопросу о постмодернизме в русской литературе 70-90-х годов XX века)» (СПб., 2001), сборники М. Липовецкого «Русский постмодернизм: (Очерки исторической поэтики)» и А. Гениса «Иван Петрович умер: Статьи и расследования» (М., 1999), учебные пособия И. Скоропановой «Русская постмодернистская литература» (М, 2000) и Г. Нефагиной «Русская проза конца XX века» (М, 2005), работа М. Эпштейна «Постмодернизм в России: Литература и теория» (М., 2000), кандидатская диссертация Н.П. Беневоленской «Художественная философия русского литературного постмодернизма» (СПб., 2004) и
др.
Следует указать, что, хотя постмодернизм как явление западной литературы и культуры второй половины XX века основательно изучен западным литературоведением, тем не менее количество всеобъемлющих теоретических исследований по этому направлению весьма ограничено. И западное, и российское литературоведение предпочитают вести анализ художественного материала постмодернизма экстенсивно, одновременно углубляя отдельные проблемы.
Именно такого рода конкретным исследованием является настоящая диссертация, которая вводит в сферу внимания ученых -исследователей русской литературы рубежа XX и XXI веков и, в частности, прозы постмодернизма, имя прозаика Михаила Попова2 -
2 Отметим, что даже в учебном пособии Г.Нефагиной «Русская проза конца XX века» (М., 2005. 320 с.) в списке, где упомянуто более ста десяти произведений современной прозы, творчество Михаила Попова оказалось обойденным вниманием этого основательного исследователя.
автора, творчество которого по меркам современной прозы обширно и разнообразно в своих художественных проявлениях, а отдельные произведения (романы «Ванечка», «Пора ехать в Сараево», рассказы «Грядущий хэм», «Любимец» и др.) принадлежат кругу постмодернистской литературы, демонстрируя ее характерные черты. Приходится констатировать тот факт, что на сегодняшний день в большинстве критических статей и научных исследований, упомянутых выше, авторы не выходят за весьма узко очерченный круг, включающий несколько известных имен. Вместе с тем, рассмотрение современной прозы постмодернизма под означенным в теме диссертации углом, а именно - значение и роль в ней фольклорно-мифологических элементов - в отечественном литературоведении практически не предпринималось. Таким образом, указанные особенности работы определяют ее новизну и актуальность.
Подход к проблеме фольклорно-мифологической
составляющей в современной постмодернистской прозе, с одной
стороны, лежит в русле той концепции постмодернизма, которая
акцентирует его специфику как явления, творчески
переосмысливающего достижения и характерные черты различных художественных систем, опирающегося на всю историю мировой культуры. С другой стороны, правомерно отметить, что отечественная постмодернистская проза с элементами фольклора и мифа создавалась под определенным влиянием литературного направления, актуализировавшегося в отечественной литературе в 70-е - 80-е годы, которое условно именуют «мифологический реализм». Учитывая, что годы обучения М.Попова в Литературном институте им. A.M. Горького выпали на середину и конец 70-х годов, становится очевидным информированность студента и молодого автора в
текущем литературном процессе того времени. Однако
взаимодействие с фольклором и мифом как в целом в литературе постмодернизма, так и в его индивидуальном творчестве пошло иными путями.
Чтобы яснее стали особенности использования мифа и фольклора в современной отечественной прозе в целом, следует обратиться к отдельным чертам «мифологического реализма», для чего придется совершить краткий экскурс в область недавней истории литературы и соответствующих критических полемик и академических дискуссий. Представленный в последние десятилетия тесного совместного бытования литератур народов СССР такими именами, как Ч. Айтматов, О. Сулейменов, О. Чиладзе, Ч. Амирэджиби, В. Санги, Ан. Ким и др., мифологический реализм оказался частью той ветви литературы, в центре внимания которой стояла нравственно-философская проблематика.
По мнению критиков и литературоведов, мифологический реализм, постепенно формировавший и кристаллизовавший свои черты, не был генеральным направлением в отечественной прозе 70 -80-х годов, но постоянно находился в центре внимания критики, и характерные особенности его выявлялись во многочисленных статьях и исследованиях. Вопросы фольклоризации, мифологизма и притчевости современной литературы обсуждались, например, в ходе дискуссии «Современный литературный процесс и фольклор», которую журнал «Вопросы литературы» вел на своих страницах с 1976 по 1978 годы3.
Определенная вялость и неторопливость данной дискуссии, на наш взгляд, связана не только с особенностями журнальной полемики и медлительностью издательского процесса, но и со сложностью осмысления непростого хода взаимодействия двух систем: фольклора и мифа, с одной стороны, и авторской литературы - с другой.
Для выявления связей крупных прозаических форм с мифом использовались две взаимосвязанные и одновременно противопоставленные формулы: романизация мифа и мифологизация романа4.
Романизация мифа подразумевает не только присутствие его в фабульно-сюжетной основе романа или проявление в структуре образов, но определенные художественные преобразования архаических мифов. К этим преобразованиям следует отнести замену фантастических мотивировок мифа на реалистически оправданные, конкретизацию характеров, весьма обобщенно намеченных в мифе, психологически точные мотивировки поступков героев, поворот мифа неожиданной стороной, которую автор вычленяет из на первый взгляд незаметных деталей мифа5, разработку этнографического и археологического материала.
Мифологизация романа не требует каких-либо преобразований мифа, а происходит на определенных уровнях произведения. Так, нередко мифологизируется фигура автора-рассказчика или главного героя произведения . В отдельных случаях события, сюжетные построения романа имеют «мифологическое» завершение: например, немотивированную смерть персонажей-антагонистов (злого
В частности, эти четкие формулировки находят серьезное подтверждение в статье А. Эваноидзе «...Не храм, а мастерская» (Вопросы литературы. - 1978. № 5. - С.78-104).
5 Характерными и представительными по всем указанным пунктам являются преобразования мифа
06 аргонавтах и мифа о Дедале и Икаре в романе Отара Чиладзе «Шел по дороге человек».
Мифологизированной фигурой, безусловно, представляется герой романа Ч.Амирэджиби
благородный разбойник Дата Туташхиа. В конце 80-х годов такими мифологизированными героями являются, на наш взгляд, Тураевы - отец, сын и дед, - герои романа Анатолия Кима «Отец-лес». В данном случае нам приходится, видимо, вступать в полемику с самим автором, который обозначил жанр своего произведения как роман-притчу.
действующего лица после смерти доброго), или трагическое
мифологическое превращение героя . Мифологизации романа способствует также фрагментарное использование мифа в орнаментальной функции.
В конце 70-х и в 80-е годы миф и сказка стали проникать в произведения, которые критика и литературоведение определили как условно-метафорическая проза . По мнению ряда исследователей, авторы этого направления используют несколько типов условности, основные из которых условность сказочная, мифологическая, фантастическая .
Итак, проза 70-80-х годов взаимодействовала с мифологией и фольклором в рамках указанного художественного направления, имеющего нравственно-философский оттенок, достаточно интенсивно, а некоторые произведения были объединены критиками и литературоведами такими специфическими терминами, как «мифологический реализм» или «условно-метафорическая проза». Однако литература постмодернизма продвигалась в этом плане иным путем: процесс взаимодействия мифа, фольклора и собственно авторского текста в постмодернистских произведениях носит скорее диффузный характер.
Подобный финал находим в романе Ч.Амирэджиби «Дата Туташхиа»: после гибели героя Даты Туташхиа следует совершенно немотивированная смерть его антипода Мушни Зарандиа.
8 В этом плане примечательны анализ поэтики и толкование сказки-мифа (по терминологии,
предложенной У.Б. Далгат) о белом пароходе и большеголовой ушастой рыбке в повести
Ч.Айтматова «Белый пароход». (См. монографию У.Б. Далгат «Литература и фольклор.
Теоретические аспекты».- М., 1981.-С. 178-182).
9 Среди наиболее известных произведений условно-метафорической прозы данного периода -
романы В. Орлова «Альтист Данилов» и «Аптекарь», повесть В. Крупина «Живая вода» и др.
10 Об особенностях условно-метафорической прозы см. Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX
века: Учебное пособие. - М., 2005. - С. 113-171.
Большинство критических и литературоведческих работ, касающихся проблем литературы постмодернизма, как правило, начинаются с освещения собственно понятий «постмодерн» и «постмодернизм»; вероятно, так же следует поступить и применительно к данной работе. Сам термин возник в период Первой мировой войны в книге Р.Панквица «Кризис европейской культуры», изданной в 1917 году11, а утверждается, как об этом говорится в трудах Ж.-Ф. Лиотара, в 30-е годы XX века в академической среде. Причиной этому явилась, очевидно, реакция на существенные перемены в научной картине мира того периода, обусловленные рядом важных открытий в физике, математике, психологии и других естественных и гуманитарных науках. Вторая мировая война прервала естественный ход эволюции европейской научной мысли, но уже в 50-е годы в работах, с одной стороны, французских структуралистов (Р. Барт, К. Леви-Стросс), с другой - философии ситуационизма (Ги-Эрнст Дебор) будут заложены основы нового философского осмысления культуры. Вместе с тем новый фактор, а именно научно-техническая революция в странах Запада определяет изменения в развитии средств производства, коммуникации, информационного обмена, что формирует совершенно новую среду обитания и серьезно влияет на изменение повседневного мировоззрения. Наконец, политические перипетии европейской истории, заключающиеся, в первую очередь, в возникновении фашизма и его поражении, а также в возросшей роли в мировой политике социалистических стран, заставили по-новому взглянуть на проблему культурного диалога, толерантности и ценностных систем.
К концу 60-х - началу 70-х годов стараниями ряда французских философов и ученых такие понятия, как «постмодерн» и
11 См. статью Постмодернизм в кн. Кравченко А.И. Культурология: словарь. - М., 2000. - С. 456.
«постмодернизм», окончательно получают возможность адекватной актуализации. Постмодернизм осмысляется как универсальная мировоззренческая парадигма, обозначившая новый подход к познавательной и творческой деятельности человека. «Возникнув как рефлексия на новые явления в сфере искусства, постмодернизм постепенно превратился в специфическую философию культурного сознания современности...», - пишет Илья Ильин в работе «Постмодернизм от истоков до конца столетия».
Можно с уверенностью утверждать, что научных определений понятий «постмодерн» и «постмодернизм» существует немало. Обращение к базовым теоретическим положениям обуславливает необходимость указать формулировки классиков, в первую очередь Жана-Франсуа Лиотара: «...Упрощая до крайности, мы считаем "постмодерном" недоверие в отношении метарассказов. Оно является, конечно, результатом прогресса науки; но и прогресс в свою очередь предполагает это недоверие. С выходом из употребления метанарративного механизма легитимации связан, в частности, кризис метафизической философии, а также кризис зависящей от нее университетской институции. Нарративная функция теряет свои функторы: великого героя, великие опасности, великие кругосветные плавания и великую цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, а также денотативных, прескриптивных, дескриптивных и т. п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую валентность sui generis»^.
В узком смысле недоверие к метанарративам проявляется как стирание жестких оппозиций в привычных культурных парадигмах, образование новых, непривычных систем ассоциаций и аллюзий,
12 Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. - М., 1998. - С. 6. иЛиотарЖ.-Ф. Состояние постмодерна. -СПб., 1998.-С. 11.
мультикультурализм и плюрализм, наконец, размывание сложившихся систем моральных норм и потеря внимания к привычным табу или же престижным символам. Последнее утверждение не следует расценивать как осуждение или морализаторство: с одной стороны, генерация любых новых форм коллективного сознания есть явление если не позитивное, то, во всяком случае, закономерное, но никак не антисистемное по своей природе; с другой - оценка вновь созданных феноменов условна и определяется выбором конкретной ценностной шкалы.
Вообще взгляд на постмодерн в первую очередь как на своего
рода хронологическую категорию в истории культуры и литературы
является достаточно распространенным. Рассуждая в предисловии к
монографии «Русский литературный постмодернизм» по поводу
терминологических и дефинитивных проблем, относящихся к
теоретической базе рассматриваемого вопроса, Вячеслав Курицын
считает более корректным использование термина
«постсовременность», воспринимая это слово во взаимодействии двух его самых очевидных значений. «Во-первых, постсовременность -состояние, в котором субъект теряет некую адекватность течению времени; ситуация, предполагающая возможность "одновременного" нахождения в разных временах. Во-вторых, это то, что наступает после Нового времени, указывает на исчерпанность проекта Нового времени».14
Но если для историка науки или культуры проблема исследования постмодерна как явления на уровне мировоззренческих систем, постмодернизма как этапа эволюции художественной культуры, постструктурализма как явления научной и философской мысли, а также взаимовлияния упомянутых явлений и вообще
14 Курицын В. Русский литературный постмодернизм.
соотносимое их друг с другом является чрезвычайно острой и дискуссионной, то в отношении литературного постмодернизма дело обстоит во многом проще. С одной стороны потому, что в отношении него исследователями определены четкие временные рамки - от 60-х годов до наших дней. (В этом сходятся большинство отечественных исследователей - Н. Маньковская, И. Ильин, Д. Затонский, В. Курицын и даже М. Эпштейн, который в полемическом задоре трактуюет постмодернистскую чувствительность как последствие травмы, наносимой индивиду взрывным увеличением информационного потока и вызванной «...растущей диспропорцией между человеком, чьи возможности биологически ограниченны, и человечеством, которое не ограничено в своей техно-информационной экспансии...»15) С другой стороны, в литературе постмодернизма вполне определенно очерчен круг рассматриваемых авторов: Дж. Варне, Дж. Фаулз, Т. Пинчон, У. Эко, М. Павич и др. в зарубежной литературе, и соответственно В. Пелевин, В. Сорокин, Д. Пригов, Саша Соколов и ряд других - в литературе отечественной. Последнее, впрочем, облегчается авторской самоидентификацией и непосредственной манифестацией собственной принадлежности к конкретному литературному направлению. Показательным в этом отношении выглядит ироничное суждение одного из персонажей В. Пелевина: «Постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров. /.../ Им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в слово само вслушайся...» . Отчасти же причиной этому является внятная актуализация атрибутов различных жанров постмодернистской литературы. Как пишет об
Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна. 16 Пелевин В.О. Жизнь насекомых. - М., 1998. - С. 135.
этом В. Пестерев в работе «Постмодернизм и поэтика романа», «несмотря на множественность и подчас несовместимость интерпретаций постмодернизма, вопреки текучей видоизменяемости и несводимости к единообразию его литературных форм, постмодерн определился (и прежде всего, конечно, в писательской практике) в константах художественности постмодернистского текста, которые адекватны сумме общих свойств постмодернистской романной поэтики. Многомерное, интертекстуальное пространство; открытый текст, нелинейное письмо, вплоть до воплощения формулы "текст как мир". Вторичность: "отражение отражения" и "образ образа". Смешение жанровых черт и взаимодействие в произведении различных художественных систем. Цитация, от прямой до формально-условной, и гиперинформативность. Откровенная установка на стирание граней между высоким и тривиальным искусством; низовые жанры в синтезе с суперинтеллектуальностью. Фрагментарность, монтаж, коллаж и пастиш. Внешняя неординарность формы и поэтика общих мест. Декоративность, телесность с привнесением "сильного чувственного фермента". Комментарий, наглядное моделирование текста и "обнаженный" прием. Пародия и стилизация. Игра до игрового отношения к игре.
Парадокс "безличного" текста с его саморефлексией» .
Вполне логичная и связная панорама особенностей постмодернистского искусства с опорой на выводы зарубежных теоретиков постмодернизма, отечественных философов и теоретиков искусства и литературы приведена в работе Даниловой И.Л. «Модерн - постмодерн?»: «Создание упорядоченной картины мира стало нежелательным, так как мир стал восприниматься релятивно, в
17 Пестерев В.А. Постмодернизм и поэтика романа: Историко-литературные и теоретические аспекты. - Волгоград, 2001. - С. 22-23.
столкновении многих возможных индивидуально-субъективных точек зрения на него (О. Вайнштейн, А. Якимович). Это выражается в создании нового языка, оперирующего не отдельными смыслонесущими единицами, а отношениями как в теории, так и в произведениях искусства; происходит разрушение единства жанра, формы; текстовая открытость и выход в контексты становятся непременным качеством произведений; появляется безличный текст, в котором автор спрятан; текст становится ареной интертекстуальных игр; герой становится выражением идеи конца субъекта как атомарного индивида, отсутствия цельного индивидуального сознания; доминирует художественная форма коллажа и монтажа для осуществления интертекстуальной игры» 8.
Четко структурированы и сформулированы особенности постмодернистской парадигмы у Н.В.Киреевой («Постмодернизм в зарубежной литературе»19), что обусловлено предназначенностью этого учебного комплекса студентам-филологам.
Подытоживая, можно сказать, что понятийный,
терминологический и фактологический литературоведческий аппарат,
предназначенный для стереотипной и воспроизводимой методики
анализа постмодернистской прозы, отечественным
литературоведением и литературной критикой практически создан и вполне функционален, и может быть использован в данной работе.
Постановка проблемы анализа роли и функции элементов мифологии и фольклора в составе художественного произведения влечет за собой ряд теоретических вопросов, и в первую очередь
Данилова ИМ.. Модерн - постмодерн? О процессах развития драматургии 90-х годов. - Казань, 1999.-С. 10.
19 Киреева Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе: Учебный комплекс для студентов-филологов. - М., 2004. - 214 с.
таковым является трактовка собственно понятия мифа. Не будет
преувеличением сказать, что разночтения в этом вопросе весьма
значительны и сильно зависят от позиции конкретного исследователя.
Так, Ролан Барт, являющийся одним из виднейших исследователей-
структуралистов, а также основоположником постструктурализма как
составной части постструктуралистско-постмодернистского
комплекса, с самого начала своей исследовательской деятельности активно применял понятие мифа к конкретным явлениям современной ему общественной и художественной культуры. В его работе «Миф сегодня» присутствует четкая и лаконичная дефиниция этого понятия: «миф - это деполитизированное слово» , - к тому же снабженная пространными комментариями, раскрывающими основные теоретические аспекты конструкта. «Миф не отрицает вещей -напротив, его функция говорить о вещах; просто он очищает их, осмысливает их как нечто невинное, природно-вечное, делает их
*? 1
ясными - но не объясненными, а всего лишь констатированными...» Строго говоря, выделение типических и устойчивых элементов современной Барту коллективной ментальносте стало едва ли не основным предметом его «Мифологий» вплоть до интеллектуальной эволюции ученого в сторону постструктуралистических методов текстологического и культуроведческого анализа. Важно и то, что теоретические дефиниции Барта, а позднее и Дерриды (отметим, что ряд исследователей указывают на концептуальное родство осмысления понятия мифа, предпринятого почти одновременно Роланом Бартом и Жаком Дерридой) дополняются подробно разработанной методикой анализа мифа («мифологии»), характерные примеры которого даны в первой части вышеупомянутого
20 Барт Р. Миф сегодня // Мифологии. - М., 2000. - С. 270.
21 Там же. С. 270.
исследования. Дж. Д. Фрэзер одним из предметов изучения избирает
проблему существования библейской модели мифа и ее
взаимоотношения с различными системами архаической мифологии.
Учение К. Юнга объясняет феномен мифа и его исторической
устойчивости посредством концепции коллективного
бессознательного. Вообще же в монографии Д.П. Козолупенко «Миф на гранях культуры» выделяется до десяти только «основных направлений теории и мифологии, существовавших в начале XX века...» и шесть научных школ, реализующих собственную концепцию мифа, среди которых автор монографии перечисляет психоаналитическую, структуралистскую, социологическую и другие. При таком разнообразии подходов получить определенные результаты компаративного исследования представляется затруднительным. Впрочем, на сегодняшний день отечественная филологическая наука позволяет иметь достаточно определенные и непротиворечивые представления о специфике мифа как явления и о его вербальной актуализации. Поэтому нами было принято решение использовать в качестве базового определение мифа, приведенное в работе Т.В. Зуевой «Русский фольклор. Словарь-справочник»: «Миф (от греч. mythos - рассказ, слово, предание) - 1) система архаичных конкретно-чувственных представлений людей о мире (мифологическая модель мира); 2) словесные повествовательные тексты, воплотившие эти представления. Во втором значении М. является жанром несказочной прозы и основным повествовательным жанром раннетрадиционного фольклора. Совокупность М. (мифологических текстов) называют мифологией»23.
Козолупенко Д.П. Миф на гранях культуры. - М., 2005. - С. 8.
Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. - М., 2002. - С. 99.
Основным материалом данного исследования стала проза Михаила Попова, взятая на фоне произведений ряда представителей зарубежного и отечественного литературного постмодернизма. Нами было принято сознательное решение не привлекать произведения авторов, чья творческая деятельность впрямую связана с «московским концептуализмом» 70-х-80-х годов и так называемым «соц-артом». Причина тому - слишком сильная привязанность текстов подобного рода к социально-политической проблематике, свойственной отечественной культуре в упомянутое время. Достаточно внятно об этом сказано Вяч. Курицыным в его работе «Русский литературный постмодернизм»: «Что касается соц-арта, то он понимается нами /.../ как вариант концептуализма, решающий характерные для него проблемы, апеллируя к языку советской культуры. /.../ Этот интерес можно интерпретировать двояко. Во-первых: соц-арту важна не столько именно советская, сколько просто ближайшая культура. Естественно думать об общеэстетических проблемах на знакомом тебе языке: если в Америке концептуализм во многом связан с поп-артом /ориентация на язык масс-культа/, то в СССР с соцреализмом /ориентация на отечественный вариант масскульта/»2 .
Недостаток жесткой привязки подобного типа заключается в
том, что семиотический и эстетический арсенал представителя такого
направления в искусстве оказывается замкнут на ограниченной по
протяженности литературной ситуации, что препятствует
углублению и развитию общефилософских и общеэстетических обобщений. Рост хронологической дистанции между деконструируемым символико-семиотическим комплексом советской культуры, распространенность и обыденность подобного приема в современной литературе заставляет прозаиков-концептуалистов
4 Курицын В. Русский литературный постмодернизм
непрерывно усложнять систему интертекстуальных связей и идти на все более и более изощренные приемы оперирования символами и лексико-стилистическими конструктами, заимствованными из недавнего прошлого. Данная тенденция хорошо заметна по последним романам В.Сорокина, в которых может использоваться, например, совмещение стереотипного дискурса советской фантастики с элементами, представляющими собой имитацию стилистики писателей-классиков (роман «Голубое сало» и трилогия «Путь Бро» -«Лед» - «23000»). Так в «Голубом сале» Сорокин демонстрирует писательское мастерство, создавая протяженные тексты в стилистике Льва Толстого, с его характерной разветвленной фразой, или «Поэмы без героя» Анны Ахматовой и так далее. Вместе с тем усложнение и разрастание экспериментаторских приемов пропорционально усложняют восприятие текста (что вполне очевидно).
В рамках исследований в области истории современной отечественной литературы М. Берг утверждает, что московский коцептуализм «спустя четверть века после своего появления на российской литературной сцене до сих пор интерпретируется как наиболее радикальное литературное направление, преимущественно потому, что стратегии авторов московского концептуализма (а это прежде всего Д. Пригов, Вс. Некрасов, В. Сорокин, Л. Рубинштейн) последовательно выявили отказ от тенденций текстоцентризма (синонимичные варианты — литературоцентризм и словоцентризм) и традиционного литературного поведения» 5.
При этом оказывается, что представителями данного направления остается неохваченной важная тенденция - синтез формальных приемов, свойственных как «элитарной», так и «массовой» литературам. О последней тенденции как о присущей
25 Берг М. Литературократия
современному литературному постмодернизму писали И. Ильин, В. Пестерев, Н. Маньковская, М. Эпштейн и ряд других исследователей и подразумевали в первую очередь западный постмодернистский роман в лице, например, Умберто Эко с его «Именем розы», «Маятником Фуко» и «Баудолино», Джона Фаулза («Мантисса», «Коллекционер») и многих других, но по отношению к отечественной концептуальной прозе такая модель мало применима.
В современной литературной ситуации в России генерация синтетических художественных явлений, сочетающих элементы «массовой» и «элитарной» литературы, де-факто происходит «снизу» - со стороны беллетристики и развлекательной литературы, и примеров тому немало. В числе авторов, творчество которых иллюстрирует данный тезис, следует назвать таких представителей детективного жанра, как Б. Акунин и Л. Юзефович, эксплуатирующих тематику русской детективной прозы начала XX века (например, цикл романов о Путилине у Юзефовича), а также имитирующих в своих текстах эстетику указанного периода. С другой стороны, к ним примыкает ряд прозаиков, работающих в жанре фантастического романа и являющих собой самые разные направления в рамках последнего - от развлекательно-юмористической фантастики (Евгений Витковский, трилогия «Павел II») и «космической оперы» (Александр Зорич, трилогия «Завтра Война» - «Без пощады» - «Время московское») до альтернативной истории (Вячеслав Рыбаков «На будущий год в Москве», «Гравилет "Цесаревич"»), а также антиутопии и «протестной» литературы (Юрий Козлов, «Ночная охота», «Колодец пророков»).
Причина наблюдаемой тенденции видится достаточно простой: работая в сфере коммерческой литературы, носители филологического (как у переводчика-япониста Георгия Чхартишвили,
он же Борис Акунин), или же исторического (как у молодых ученых-
востоковедов, объединившихся под псевонимом «Зорич»,
переносящих в воображаемый мир своей фантастической трилогии
конфликт зороастрийцев и манихеев) образования активно
эксплуатируют свои профессиональные знания, интенсифицируя
творческий процесс и тем самым являя в творчестве вышеуказанный
синтез. В западной прозе постмодернизма наиболее ярко такую
модель отразили медиевист Умберто Эко и лингвист и литературовед
Милорад Павич.
Михаил Попов может быть отнесен к новому или очередному «поколению сорокалетних», которое не следует путать с поколением «сорокалетних» - дебютантами 70-х годов: А. Кимом, В. Орловым, Р. Киреевым, В. Крупиным, В. Маканиным. В качестве писателя-прозаика и представителя литературного постмодернизма он менее известен по сравнению с именитыми коллегами, вышедшими из рядов «московского концептуализма» - В. Сорокиным, Д. Приговым, Вик. Ерофеевым; тем не менее с точки зрения литературной эстетики и его творчество представляет собой достаточно важное явление в рамках современного литературного процесса, которое нуждается в соответствующем критическом анализе.
Если опустить разрозненные публикации на раннем этапе вхождения в литературу Михаила Попова, то можно утверждать, что дебютировал он сборником стихотворений «Знак» («Современник», 1987), который стоит определить как дебют «затактовый»; следующая его книга - роман «Пир», вышедшая в авторитетном издательстве «Советский писатель» в 1988 году, говорит о серьезности второго, «полного такта» в литературе. «Пир», безусловно, интеллектуальная проза: заглавие отсылает нас к античной литературе - знаменитым диалогам Платона; внимательный читатель заметит в тексте
ироничную перекличку с романом американского писателя Кена Кизи
«Над кукушкиным гнездом»; неизбежны и ассоциации с великим
рассказом А. Чехова «Палата № 6». Экстраполируя это наблюдение
на дальнейшее творчество Попова, нельзя не отметить
«чеховоцентричность» некоторых его произведений.
Изданный в 1991 году сборник «Баловень судьбы» открывался одноименной повестью, которая вместе с последующим романом «Невольные каменщики» и ранним романом «Пир» представляет в самом общем виде этапы взросления молодого русского интеллектуала.
Если учесть, что предшествующие этим произведениям пятнадцать-двадцать лет прошли под знаком идей М.М.Бахтина, то понятно, что такой автор как М.Попов не мог игнорировать его философские и эстетические идеи. Было бы очень продуктивно исследовать соотношение автора и героя в указанных произведениях, так как герой в них явно автобиофафичен. А это особенно обостряет «отношения напряженной вненаходимости автора всем моментам героя, пространственной, временной, ценностной и смысловой вненаходимости, позволяющей собрать всего героя, /.../ собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, как-то: полнотой внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его отношением к событию смерти и абсолютного будущего и проч. И оправдать и завершить его помимо смысла, достижений, результата и успеха его собственной направленной вперед жизни»26.
Поставленная Бахтиным литературоведческая проблема и проблемы психологии творчества могут быть актуализированы и на
6 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. -М, 1979.-С. 15.
материале новых произведений М. Попова: повестей «Как меня съела собака» (2004) и «Идея» (2005). При этом предлагаем будущим исследователям оценить постмодернистскую игру, затеянную прозаиком со своей фамилией и названием первого из указанных произведений, которая заставляет вспомнить скороговорку, уводящую в «дурную бесконечность»: «У попа была собака, / Он ее любил. / Она съела кусок мяса - / Он ее убил, /Ив землю закопал / И надпись написал, / Что...», и первую фразу из повести «Третья собака» - «Мою первую собаку съели корейцы»7. Безусловно, налицо жесткая авторская самоирония, закрепившаяся в следующей повести с ее «идейным» названием, где автор резко снижает аутентичный образ рассказчика, чью маму, кстати, зовут Идея Алексеевна . Обе повести объединяет въедливая саморефлексия героя-рассказчика, которая завела бы автора в «бесконечный тупик», если бы «за текстом» не чувствовалось присутствие «всезнающего» автора, неравного герою-
рассказчику, - носителя определенной модели мира , которого можно найти в публицистических высказываниях писателя.
27 Попов М. Третья собака. //В кн. Баловень судьбы.-М., 1991.-С. 182.
28 «Мама обладала не деньгами, а самой идеей денег, очищенной даже от главного в них -
покупательной способности». (Попов М.М. Идея //11аш современник. - 2005. - №2. - С. 18)
Позиция этого «всезнающего автора» и его добродушно-ироничная модель мира маркирует тексты самым неожиданным образом, а высказывание, обнаруживающее точку зрения этого автора, может принадлежать неизвестному персонажу, намеренно скрываемому. Таково, например, начало рассказа «Грядущий хэм»: «- Просыпаюсь ...и обнаруживаю себя лежащим в такой вот овальной, что ли комнате. Ни окон, ни дверей, и все белое. Удивиться или испугаться не успел, ибо услышал голос.
- Дорогой Семен Семенович, сразу сообщаем вам главное. Мужайтесь, но ваша планета погибла. Вы единственный, кого удалось целиком спасти. Мы - мощная и древняя цивилизация -полагаем своим долгом восстановление вашего, хотя и весьма беспутного, неповторимого мира. Мощности наши столь велики, что мы имеем возможность сделать это просто с ваших слов» (Подчеркнуто нами. - К.К.). (Попов Михаил. Грядущий хэм. // Наш современник. - 1992. - № 12 -С. 61.)
Творческие поиски М.Попова довольно рано приводят его в пространство постмодернизма: оглядывая более чем двадцатилетний писательский путь, можно сказать, что «вылазки» в это пространство начались с рассказа «Он возвращается!», где под «сверхценным гостем» - американским писателем русского происхождения -подразумевается Владимир Набоков. Мифологизация образа «сверхценного гостя» проведена на всех уровнях текста, а герой-рассказчик (повествование ведется - как это часто бывает у Попова -от первого лица), перехватывая его окольными путями в аэропорту, так характеризует себя перед лицом этого «полупризрака»: «Я просил ЕГО извинить иронию судьбы, воспользовавшуюся для осуществления своих планов бюрократическим невежеством, просил простить мою «метафизическую наглость», заключавшуюся в моем согласии сыграть роль мнимой величины» .(Подчеркнуто мной,-К.К.) Не случайно коллега Попова по перу и его сверстник Леонид Бежин отмечает: «Об атмосфере прозы Михаила Попова хотелось бы сказать особо. Причудливая, фосфорически подсвеченная неким невидимым светом - атмосфера повествования, невольно вызывающая в памяти и провинциальные повести Достоевского, и «Мелкого беса» Сологуба, и глубинного Ремизова, и уездного Замятина»31.
Среди произведений 90-х годов и первых лет нынешнего десятилетия в творчестве Михаила Попова обозначились линии, которые можно развести по следующим рубрикам:
- историческая проза (роман «Темные воды Тибра»); - абсурдизм (повесть «Огненная обезьяна», рассказы «Чуб»,
30 Попов ММ. Он возвращается! // В кн. Попов М.М. Баловень судьбы. - М., 1991. - С. 46
Цит. по подборке «В ироничности Михаила Попова нет и намека на улыбку, она слишком ощутимо горчит»//Роман-журнал XXI век. -2001.-№ 5 (25)-С. 12.
«Испытание»);
- автобиографическая ироническая проза (рассказ «Дворец»,
«Танцующая Галатея», повести «Как меня съела собака»,
«Идея»);
- интеллектуальная фантастика с элементами концептуализма (романы «Ванечка» и «Пора ехать в Сараево», рассказы «Грядущий хэм» и др.) На формирование творческого метода Михаила Попова, безусловно, наложил отпечаток тот факт, что значительная часть художественного наследия автора, продолжающего активно работать в настоящее время, была создана в период с середины и конца 80-х по наши дни. Это был период острого социокультурного кризиса и глубинных политико-экономических изменений в жизни страны и нации, и большую часть указанного времени шел процесс формирования творческого метода и мировоззрения прозаика. Кроме сложной социально-политической ситуации отмеченный период времени характерен еще и тем, что именно во вторую половину 80-х годов и в еще большей степени в 90-х годах как отечественная философская и культурологическая мысль вообще, так и филологическая наука - в частности стали испытывать значительное влияние современных зарубежных наработок в этой области. Последнее связано с массовым появлением переводных исследований, а также с необходимостью осмысления имевших место в тот период сложных процессов в области общественной жизни, культуры и искусства в их взаимосвязи, что требовало использования объемного и разнообразного научного аппарата.
В этом отношении очень показательной выглядит выдержка из сборника материалов теоретических семинаров по вопросам
современной зарубежной литературы , выпущенного в марте 1989 года: «Наряду с произведениями, художественная культура которых свидетельствует о прямом продолжении реалистических традиций, в современной западной прозе есть немало примеров их травестирования. Искусство как бы играет с самим собой, пародируя и переосмысляя свои же мотивы и формы. /.../ Травестируются традиционные сюжетные мотивы и самые принципы реалистического сюжетостроения. /.../ В стилевую игру втягиваются элементы сюжетных мотивов и структурных форм, восходящих к самым разным этапам истории художественного мышления. /.../ Указанные явления, которые критика называет подчас постмодернистскими (термин, на мой взгляд, малоудачный) (Курсив мой. - К.К.), я думаю, не ограничены прикрепленностью к тому или иному литературному, а имеют широкое значение (орфография и синтаксис оригинала сохранен - прим. К.К.)»33. То есть до какого-то момента отсутствовал даже понятийный аппарат исследовательского анализа феномена постмодернизма и его роли в литературном творчестве. Эту лакуну в русской литературоведческой мысли стали активно изживать как раз в начале 90-х годов, параллельно чему происходило и освоение нового творческого метода собственно прозаиками.
Материалом настоящего исследования станут исследования будут использованы в первую очередь два романа М.М.Попова -«Ванечка» и «Пора ехать в Сараево», - время создания и опубликования которых разделено периодом приблизительно в шесть лет. Они позволяют проследить определенную эволюцию методологии Михаила Попова как писателя, активно использующего
32 Зарубежная литература 1970-1980 гг. и эпоха постмодернизма. - Рига, 1989.-32 с.
33 Лейтес II. Травестирование традиций. // Зарубежная литература 1970-1980 гг. и эпоха
постмодернизма. - Рига, 1989. - С. 3.
элементы фольклора и мифологии в качестве художественного приема и фактора концептуальных построений.
Что касается полистилистики, выделяемой как отличительная черта постмодернистской прозы, то она в полной мере присуща роману «Пора ехать в Сараево». Части текста, написанные в свойственной Михаилу Попову своеобразой авторской стилистике, перемежаются текстом, который в своих художественных особенностях имитирует стилистику классического семейного романа, и текстом в жанре дневниковых записей. Точно так же к проблеме структуры романа «Пора ехать в Сараево» применимо высказывание Н. Рымаря о «дефабулизации» романа, по его мнению, связанной с «новым пониманием соотношения "человек - мир" в западной литературе» , когда «на фабульном уровне мир предстал как пространство хаоса, который, однако, упорядочивался в сюжетной организации романа»35. Две основные сюжетные линии романа М. Попова посредством многообразных и неочевидных взаимосвязей образуют сложную композиционную структуру.
Стилистические решения в «Ванечке» отличаются значительно большей стилевой однородностью, но и в этом произведении текстологические, стилистические и концептуальные особенности творческой манеры прозаика - цитатность, сочетание стилистических элементов «массовой» и «элитарной» прозы, изощренный концептуалистский подход - позволяют уверенно причислять данное произведение к явлению из разряда русского литературного постмодернизма.
Рымарь Н. Фабула и сюжет в романе постмодернистского периода // Зарубежная литература 1970-1980 гг. и эпоха постмодернизма. - Рига, 1989. - С. 7. 35 Там же. С. 7.
Для решения конкретных исследовательских задач в диссертации использованы описательный метод в сочетании с элементами теоретико-аналитического метода, так как произведения, введенные в научный оборот, мало известны литературоведам и выявление фольклорно-мифологических элементов и их роли в тексте потребовали именно таких подходов.
Основной тезис первой главы, заложенный в ее названии и развиваемый затем во второй и третьей главах на материале романов М Попова, потребовал применения культурно-исторического метода. Там, где оказалось необходимым соотнести анализируемые романы с произведениями современной западной и отечественной литературы, применялся сравнительный (компаративистский) метод.
Поскольку тема диссертации имеет междисциплинарный характер и затрагивает отношение двух систем - литературы и такой области культуры, как фольклор и мифология, - то следует указать и на системный подход к ее разработке.
Исторический и социокультурный кризис как фактор актуализации элементов мифологии в прозе современного литературного постмодернизма
Вопрос использования элементов мифологии в художественной литературе разрабатывается критикой и литературоведением достаточно давно; особую актуальность он в свое время получил в связи с исследованием вопроса о стойкой тенденции к мифологизации в творчестве представителей модернистского направления в литературе. На настоящий момент существует немало работ, посвященных мифологизму как художественному приему в творчестве таких знаковых фигур модернистской литературы, как Томас Манн, Джеймс Джойс, Альбер Камю и др. Количество и разнообразие работ на эту тему слишком широко, чтобы в данном исследовании стоило разрабатывать их более подробно. На более позднем этапе истории литературы XX века вышеуказанный вопрос приобретает новую остроту в связи с появлением такого своеобразного литературного явления, как «мифологический реализм», что также сопровождалось созданием значительного количества соответствующих исследований.
С научными изысканиями относительно роли фольклорно-мифологических элементов в постмодернистской литературе по ряду причин дело обстоит сложнее. Одна из причин - сопутствующий постмодернистскому периоду в истории литературы переход исследовательской мысли на рельсы постструктурализма, сосредоточившегося на методологии деконструкции, что сопровождалось снижением интереса к компаративным методикам (именно на них в значительной степени базируются исследования по вопросам соотношения литературы и мифа). Другой причиной отмеченных сложностей является возникновение совершенно новых мировоззренческих и философских подходов, присущих ментальносте постмодерна, и, соответственно, значительных отличий в решении соответствующих творческих задач.
Для внятного определения рамок заявленной проблемы следует дать панораму произведений литературного постмодернизма, в которых активно используется мифологизация и мифоритуальные элементы как составная часть художественной поэтики. Систематизация собранного таким образом материала позволит выявить определенные закономерности функционирования мифологического дискурса в образной и содержательной системе постмодернистской прозы. Поэтому в данной главе нами будет поставлена задача проследить прецеденты использования элементов мифологической и мифоритуалыюй символики как художественного приема в современной постмодернистской прозе и выдвинуть гипотезу относительно основных факторов, стимулирующих данный прием.
Роман «История мира в 10 Vi главах», созданный известным представителем английского литературного постмодернизма Джулианом Барнсо, считается одним из характерных произведений, затрагивающих проблему взаимоотношения мифологической и историософской мировоззренческих парадигм. Он являет собой показательный пример художественной реализации ряда типичных черт эстетики и поэтики постмодернистской прозы, обозначенных, например, В.А. Пестеревым в работе «Постмодернизм и поэтика романа»: «Многомерное, интеллектуальное пространство; открытый текст, нелинейное письмо, вплоть до воплощения формулы "текст как мир" /.../ Смешение жанровых черт и взаимодействие в произведении различных художественных систем. Цитация, от прямой до формально-условной, и гиперинформативность. /.../ Фрагментарность, монтаж. /.../ Пародия и стилизация...» . И действительно, миметический прозаический текст в «Истории мира в 10 ХА главах» сменяется полноценной публицистикой и даже искусствоведческой критикой (так, одна из глав посвящена подробному анализу картины Жерико), скрытые цитаты перемежаются скрупулезным воспроизведением материалов средневековых церковных процессов, а средства приведения всех основных сюжетных линий и концептуальных установок в единое целое завуалированы и неочевидны. Практически единственным связующим звеном между всеми частями романа оказываются аллюзии двух библейских сюжетов об Ионе и Ноевом ковчеге, а также родственные связи между персонажами разных новелл.
Следуя тенденции, сложившейся в современной западноевропейской гуманитарной науке, Варне истолковывает библейский текст именно как миф, что позволяет интерпретировать использование им библейских сюжетов и образов в качестве целенаправленной апелляции к мифу. Преемственность Барнса культуре исследовательского, сциентистского подхода к проблеме библейского текста и роли и значения мифа в рамках последнего становится заметной, если провести аналогию со знаменитой монографией Дж. Д. Фрэзера «Фольклор в Ветхом Завете».
Творческое осмысление проблемы социокультурного регресса в романе Михаила Попова «Ванечка»: функция мифоритуальной символики и образности
Период стремительных и во многом катастрофичных по своему характеру перемен в политико-экономической и культурной жизни страны, начало которого было ознаменовано перестройкой, на много лет вперед предопределил базовое направление общественной мысли и стратегии культуры. Для этого периода характерны резкая модификация иерархии индивидуальных и общественных ценностей, изменение социальной структуры общества и статуса разных его слоев и составных групп. Катастрофическая скорость этих изменений, совершившихся за весьма непродолжительный отрезок времени -меньший, чем период смены всего одного поколения - привел к идейной дезориентации едва ли не всего общества. Идеология советского времени, потерпев поражение и будучи подвергнута уничтожающей критике (вплоть до шельмования), уже не могла претендовать на сколько-нибудь значимое влияние на общественное сознание. Новые идеологические конструкты («демократические ценности», «свобода слова», «равные возможности») не получили в общественном сознании внятной привязки к объективно происходящим событиям, не получили должной легитимизации и подобающего статуса. Все это выразилось в явном недоверии, граничащем с презрением, к политико-идеологической сфере вообще, в потере интереса к историософским исследованиям (за исключением той сферы, в рамках которой происходило идеологическое обслуживание государственной политики), в появлении исторических исследований, ставящих под сомнение не только и не столько привычные интерпретации исторических фактов, но и казавшуюся доселе незыблемой саму историческую хронологию (характерным примером может послужить «Новая хронология» академика А. Фоменко).
С точки зрения культурологического анализа это означает кардинальный слом эпистемы - равно поэлементный и как целостности - и многоуровневую модификацию социокультурной парадигмы как таковой. Результатом данного процесса стало весьма своеобразное (если не уникальное в современной истории) явление -приведение массового сознания в состояние, которое теоретики постмодернизма считают одновременно и основной чертой постмодернистской чувствительности, и неким оптимумом, являющимся наиболее адекватным в современной социокультурной ситуации - а именно в состояние «недоверия к метарассказам» (Ж.-Ф. Лиотар) и «эпистемиологической неуверенности» в едва ли не выкристаллизованном виде. Это логично в условиях дискредитации дискурсивных комплексов на всех уровнях и проявления недоверия даже к самим привычным алгоритмам и практикам получения фактологического исторического знания.
Отдельные публицисты и литературные критики, как, например, Исраэль Шамир, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркивают, что некоторые европейские историки предлагают альтернативные объяснения событий Второй мировой войны, а группа их противников-традиционалистов сумела провести в ряде стран закон, предусматривающий тюремное заключение за «искажение истории». В России такого закона пока нет, а исторические исследования переписывались постоянно, и в конце концов Россия осталась без внятного исторического нарратива.
Радикальные изменения претерпело и отношение общества к художественной культуре, а также представление о роли и месте литературы в общественном процессе: стремительно девальвировалось значение литературы как средства пропаганды и возвращались ее исходные функции. Процесс оказался весьма болезненным равно как для представителей официозного соцреализма, так и для профессиональных диссидентов. За скобками остается вопрос о социальном статусе самих писателей, в одночасье превратившихся из привилегированной части общества едва ли не в маргиналов.
На очерченном социокультурном фоне происходило освоение значительного пласта литературного материала и филологических розысканий, который в 60-х - 70-х годах не был включен в пространство советской культуры и оказался для отечественной интеллигенции в новинку - речь идет о материале и концепциях, составивших основу постмодернистско-постструктуралистского комплекса. Все эти процессы с конца 80-х годов оказались вовлеченными в семиотическое поле художественной рефлексии собственно представителей литературного творчества.
Элементы фольклора и мифологии в романе «Пора ехать в Сараево» и их влияние на историческую модель Михаила Попова
Причины, по которым литературные произведения, основанные на творческим переосмыслении реальных исторических событий, на имитации и реконструкции художественной культуры эпох, и, наконец, на «игре» с историческими фактами и интерпретациями фактов как таковыми, получившие особенное распространение во второй половине XX века, литературоведами называются разные. Как действующие факторы здесь возможны травмирующий опыт двух мировых войн, либо снижение влияния научного позитивизма в философии, либо окончательное становление постмодернизма как целостной философской и мировоззренческой парадигмы. Но можно констатировать, что мало когда целенаправленное давление на метод литературного историзма со стороны новаторского художественного творчества было столь организованным и активным.
В ряде случаев авторы художественных произведений -представители литературного постмодернизма как направления сознательно подбирают подходящее историко-культурное содержание своих произведений, который позволяет в значительной степени заострить вышеупомянутую проблематику. Так, Джулиан Варне, чье творчество наряду с другими авторами рассматривалось в первой главе, в «Истории мира в 10 Л главах» среди прочих использует сюжет, относящийся к истории второй мировой войны - эпизод неудавшегося бегства группы евреев в Соединенные Штаты, ассоциируемый с библейским сюжетом о Ноевом ковчеге. Роман
«Лесной царь» также упоминавшегося нами Мишеля Турнье практически целиком основан на близкой тематике. Рассматриваемый в настоящей главе роман Михаила Попова «Пора ехать в Сараево» относится к более раннему эпизоду богатой на драматические коллизии европейской истории XX века - началу Первой мировой войны, ознаменовавшему для истории российской череду не менее драматических событий.
Поэтика названия указанного произведения содержит в себе игровой прием, во многом ориентированный на конкретную историко-политическую ситуацию. Для бытования литературного произведения, встраивания его критиками и литературоведами в текущий литературный процесс, важен не только факт его написания, но и публикации. Роман «Пора ехать в Сараево» впервые увидел свет в мартовском номере журнала «Роман-газета XXI век» за 1999-й год -на фоне череды гражданских войн на Балканах и начала нового масштабного конфликта. Заметно, что проблематика цикличности исторического процесса дала о себе знать и в период написания и выхода книги в печать: тема войны на Балканах в том или ином контексте сопровождает многие важнейшие эпизоды истории XX века.
В целом роман «Пора ехать в Сараево» является в контексте отечественной художественной литературы произведением, безусловно, новаторским. В первую очередь следует обратить внимание на сложную и своеобразную по структуре композицию романа, и в этом смысле ближайшим аналогом «Пора ехать в Сараево» можно считать своеобразное произведение известного югославского прозаика Милорада Павича «Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре». Мы интерпретируем его как «двойной» роман, в котором судьбы протагонистов, существующих в разных исторических эпохах, оказываются связаны благодаря системе пророчеств. Однако специфика концепции Павича в том, что стереотипность биографий главных героев его книги оторвана от структуры исторического времени, а последнее оказывается скорее прослойкой между двумя историческими эпохами, нежели канвой, определяющей ход отдельных явлений и судьбу каждого человека. В отличие от именитого коллеги из-за рубежа Михаил Попов применяет более разработанную модель, которую с определенной долей условности можно назвать фрактальной - определенные локальные явления в точности повторяют общую картину событий, являясь элементом всеобщего процесса и испытывая на себе его влияние как целостности, но в свою очередь оказывая влияние на всеобщий ход событий. Такое взаимовлияние и замкнутость процессов дают возможность говорить о тенденции к формированию циклов. По Мелетинскому, «циклическая концепция не в ритуале, а в самих мифах требует для своего обоснования появления циклических представлений о самой истории человечества»105. Историческая модель Михаила Попова действительно склонна к циклизации, но почти исключительно внутри более сложных процессов, как и будет показано в настоящем исследовании.
Безусловно, модель нелинейного, циклизованного исторического времени не является для отечественной литературы радикальной инновацией. Уместно обратиться к наблюдениям над творчеством известного прозаика Анатолия Кима, проза которого не раз анализировалась в связи с ее мифологической составляющей. Литературовед Галина Нефагина указывает и обобщает: «Нелинейная концепция жизни обуславливает нелинейное развитие сюжета в романах А. Кима.