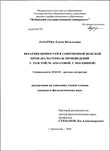Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Функции мотива зеркала 22
ГЛАВА 2. Онтологическая функция 44
2.1. «Машенька» 45
2.2. «Король, дама, валет» 70
2.3 «Приглашение на казнь» 83
2.4. «Облако, озеро, башня» 87
ГЛАВА 3. Гносеологическая функция 104
3.1. «Ужас» 108
3.2. «Соглядатай» 119
3.3. «Отчаяние» 131
3.4. «Приглашение на казнь» 142
ГЛАВА 4. Аксиологическая функция 149
Заключение 178
Список литературы 182
Введение к работе
За последние пятнадцать лет набоковедение прошло несколько этапов: возрождение после почти полувекового перерыва - в конце 80-х -начале 90-х гг. (статьи Н. Анастасьева, Л. Аннинского, А. Битова, О. Дарка,
A. Долинина, В. Ерофеева, В. Курицына, О. Михайлова, А. Мулярчика,
Д. Урнова, и т.д.), своеобразный бум, связанный с празднованием столетнего
юбилея писателя в 1998 - 2001 гг. (монографии В. Александрова, Ж. Бло,
Н. Букс, А. Люксембурга, Г. Рахимкулова, Л. Рягузовой, Г. Хасина,
Д. Шраера М. Шульмана, и т.д.) и относительный спад, наметившийся в
последние два года. Необходимо подчеркнуть слово «относительный», так
как говорить о том, что творчество В. Набокова достаточно изучено и
поэтому уже не так интересно для литературоведения пока преждевременно.
B. Набоков сегодня актуален и интересен не только для исследователей, но и
для писателей. Скорее всего, это связано с тем, что в современной литературе
оказалось востребованным то, что представлялось слишком новаторским в
начале XX века.
Сразу после выхода первых романов («Машеньки», «Защиты Лужина»), В. Набоков попал под пристальное наблюдение критики. О нем писали Г. Адамович, М. Алданов, П. Бицилли, В. Варшавский, В. Вейдле, Г.Иванов, М. Осоргин, Г.Струве, Ю.Терапиано, В. Ходасевич, М. Цетлин, Л. Червинская. «Многие им восхищались... почти все ему удивлялись», -очень точно выразил общий настрой Г. Струве. Критиков, прежде всего, поражала формальная сторона набоковского творчества.
Вопрос о соотношении формы и содержания в текстах писателя на тот момент, пожалуй, был самым острым. Он ставится практически во всех работах. Какой бы точки зрения не придерживались авторы, как бы не оценивали талант В. Набокова, они неизменно отмечали одно: повышенное внимание к формальной стороне текста, необыкновенную смелость в
использовании приемов художественной выразительности. «Превосходных «находок» у Сирина вообще немало: в них сила молодости его таланта. Иногда одно слово золотит все страницу», - отмечал М. Осоргин [264:240].
Однако когда дело касалось содержания, первые рецензенты набоковских текстов часто останавливались перед вопросом: «Есть ли у Сирина за всегда метко схваченной деталью, ловко придуманным положением, умной насмешкой то отношение ко всему этому, которым все объясняется и многое оправдывается?» [Червинская: 386: 168] За блестящей формой исследователи не находили серьезного содержания. Конечно, это было ново, порывало с классической литературной традицией содержательного превосходства и вызывало раздражение у некоторых критиков: «Как бы хорошо такие писатели не писали, все это ни к чему» [Варшавский: 89: 232]; «Темное косноязычие иных поэтов, все-таки ближе к настоящему серьезному делу литературы, чем несомненная блистательная удача Сирина» [89: 233]; «Слишком уж явная «литература для литературы» [165: 216 ].
Вопрос о соотношении формы и содержания неизбежно порождал другие, связанные с ним, вопросы. Большинство исследователей сразу занялось поисками основного содержания набоковских текстов. На первый план была выдвинута идея пустоты, мертвенности, скрывающейся за блестящей оболочкой произведений писателя. Ее поддержали Г. Адамович, П.Бицилли, В. Варшавский: «Все чрезвычайно сочно и красочно, и как-то жирно. Но за этим, разлившимся вдаль и ширь половодьем - пустота, не бездна, а плоская пустота, пустота как мель» [Варшавский: 89:231].
Еще один вопрос, который неизбежно вытекал из основного, формально-содержательного противоречия, это вопрос об истоках набоковского творчества. М. Цетлин, например, писал о том, что романы В. Набокова «настолько вне большого русла русской литературы, так чужды русских литературных влияний, что критики невольно ищут влияний
иностранных» [383: 218]. В. Набоков в предисловии к одному из своих произведений жалуется на то, что его постоянно с кем-то сравнивают, находя в его творчестве то влияния французской литературы, то английской.
Сам же М. Цетлин говорит о возможных перекличках В. Набокова с Л. Андреевым, но при этом объясняет, что все сходства, которые он выделяет («редкий дар фабулы», присущий обоим писателям, «впечатление искусственности», которое производят их тексты, а также «склонность к трагическим уродствам жизни»), достаточно условны и нисколько не опровергают индивидуальности писателя.
Нужно сказать, что в рецензиях, статьях рассматриваемого периода формируется первоначальное, базовое отношение к писателю и к тому новому, что представляет его творчество, намечаются векторы дальнейших исследований.
Следующий период повышенного исследовательского внимания к творчеству В.Набокова (с конца 80-х до сегодняшнего дня) связан уже с решением других вопросов. Проблемы иностранных влияний и соотношения формы и содержания для современных набоковедов уже не столь актуальны. Никто теперь не сомневается в наличии яркой писательской индивидуальности, к опыту набоковского творчества, которое казалось таким странным, нетрадиционным, оперируют теперь современные писатели-постмодернисты.
Думается, что в последнее время обозначился новый круг проблем. При этом наметилась тенденция к постановке более конкретных вопросов, связанных с подробным исследованием определенных текстов писателя. В современных исследованиях творчества В.Набокова отчетливо выделяются два направления: метафизическое, связанное с осмыслением философских аспектов творчества (гносеологические, онтологические проблемы, проблемы творческого сознания), и конструктивное, акцентирующее внимание на проблемах поэтики, особенностях проявления «жизни приемов»
6 в художественной системе В. Набокова (исследования композиции, деталей,
сюжета, мотивов...).
Нельзя не отметить, что обе тенденции были намечены уже в работах
начала XX века, тогда они еще не могли стать господствующими,
определяющими направление общих поисков, но важно то, что они хотя бы
уже прозвучали. Существенными в этом смысле представляются работы
B. Вейдле, В.Ходасевича. «Жизнь художника и приема в сознании
художника - вот тема Сирина» [Ходасевич: 380: 460]. «Его произведения
населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством
приемов <...> Они строят мир произведения и сами оказываются его
неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из
главных задач его - именно показать, как живут и работают приемы»
[Ходасевич: 380: 461].
Это высказывание В. Ходасевича выбивается из общего хора голосов его современников. Он не пытается обвинить В. Набокова в «литературном щегольстве», чрезмерном увлечении формой, так как считает, что в текстах писателя найдена форма, адекватная содержанию, которым является «жизнь приема». Сейчас эта позиция звучит необыкновенно современно. И существует уже достаточное количество работ, авторы которых считают, что «ядро его книг составляет ироническая игра приемов и повествовательной формы» [Александров: 32: 7].
Второе направление, метафизическое, связано с попытками философского осмысления произведений писателя, стремлением раскрыть гносеологические и онтологические проблемы его творчества, при этом часто ставя его в соотношение с философскими системами Декарта, Камю, Лейбница, Платона, Сартра, Спинозы. В этом направлении рассматривают творчество В.Набокова такие исследователи, как А.Жолковский,
C. Семенова, Г. Хасин, В. Шевченко.
Первые попытки трактовки произведений писателя в философском аспекте предпринимаются в работах В. Вейдле, который увидел в текстах В. Набокова не отражение мертвой натуры, а попытку осмысления механизмов работы творческого сознания: «Внимание Сирина не- столько обращено на окружающий его мир, сколько на собственное «я», обреченное, в силу творческого призвания своего, отражать образы, видения или призраки этого мира. Бессознательные и осознанные мучения этого «я», какое-то беспомощное всемогущество его, непрошеная власть над вещами и людьми, которые на самом деле совсем не вещи и не люди, а лишь порождение его собственного произвола, от которых тем не менее некуда бежать» [92: 243].
В. Вейдле пытается очертить круг гносеологических проблем, которые высвечиваются в произведениях В. Набокова. Последние несколько лет в этом направлении работают очень многие литературоведы: наиболее серьезные исследования в данной области принадлежат В.Александрову («Набоков и потусторонность»), Г. Хасину («Театр личной тайны»), Л. Рягузовой («Концептуализированная сфера «творчество» в художественной системе» В.В. Набокова).
Особое внимание литературоведы уделяют сейчас вопросам, связанным с раскрытием «феномена» набоковского творчества. Одни исследователи видят истоки в разрыве писателя с Россией, утраченных связях (А. Битов), другие считают, что в основе художественной системы В. Набокова - игра «самочинных» приемов (А. Люксембург), то есть набоковская проза - это, прежде всего, «феномен» языка. Кроме того, сейчас значительно расширился круг исследователей, считающих, что основной темой произведений писателя является тема потусторонности (В. Александров, А. Мулярчик).
Актуальным сегодня является и рассмотрение творчества В. Набокова в различных контекстах: в контексте литературы серебряного века
(исследователи В. Александров, Н. Букс, О. Воронина, А. Злочевская, В. Старк), в контексте мировой литературы (работы Б. Бойда, О. Сконечной, Л. Тарви), в контексте современных литературных исканий (работы П. Басинского, М. Липовецкого), что прежде всего связано с попытками осмысления места и роли набоковского творчества в историко-литературном процессе.
Все обозначенные проблемы уже на протяжении нескольких лет занимают внимание литературоведов. Необходимо отметить, что наметилась тенденция перехода от общего их осмысления к конкретному рассмотрению на материале отдельных текстов. Это является сейчас наиболее плодотворным, так как представляет собой выход из парадоксальной ситуации, сложившейся в современном набоковедении.
Парадокс заключается в том, что о своеобразии набоковских текстов, новаторских приемах их формальной организации, исследователи начали разговор сразу после выхода первых романов писателя, однако на сегодняшний день эти особенности так и остаются неизученными. В большинстве работ лишь намечаются возможные направления исследований, называются явления, однако не проводится всестороннего анализа на материале конкретных текстов. На сегодняшний день, пожалуй, очерчен круг основных проблем, требующих, с одной стороны, детального, опирающегося на конкретный материал, рассмотрения, а с другой, системного подхода, позволяющего выявить особенности, характерные не только для отдельных текстов, но для творчества писателя в целом. Это проблемы, связанные с изучением мотивной организации,. интертекстуальных и металитературных законов построения, приемов детализации и т.д.
Настоящую работу можно рассматривать как шаг именно в данном направлении. В фокус исследовательских интересов попадает проблема
См. Набоковсктий вестник. 2001., специально посвященный данной проблеме.
мотивной организации текстов писателя, сама постановка которой уже не нова.
Знакомство с литературой по творчеству В.Набокова создает иллюзию, что заявленная в диссертационной работе тема уже достаточно изучена. Действительно, определение «зеркальный» относительно набоковских текстов используется в литературоведческих работах постоянно. Однако это лишь множество упоминаний. Насколько нам известно, на сегодняшний день нет ни одной работы, специально посвященной проблемам функционирования мотива зеркала в художественной системе писателя.
Так или иначе о набоковских зеркалах упоминают в своих статьях Т. Белова, И. Бродский, В. Вейдле, А. Злочевская, С. Кетова, М. Липовецкий, В. Полищук, Л. Рягузова, В. Савельева, А. Филимонов, Г. Хасин, 3. Шаховская, В. Шевченко, М. Шульман. Показательно, что в целом ряде работ появление слов «зеркало», «Зазеркалье», «зеркальный» определяется не столько особенностями стиля В. Набокова, сколько своеобразием исследовательского языка авторов статей: нередко литературоведы используют «зеркало», «Зазеркалье», «зеркальный» как метафоры, за которыми может стоять все что угодно (проблемы симметрии, композиционных повторов, интертекстуальности, литературной традиции, металитературы и т.д.).
Наиболее характерным примером является статья А. Филимонова «Набоков в зеркалах Серебряного века». Метафорично как само название, так и язык исследования в целом, употребление слов «зеркало», «Зазеркалье» ничем не мотивировано и скорее служит примером образного мышления самого автора, нежели отображает особенности набоковского стиля: «Возможно, сохранились где-то зеркала, запечатлевшие облик и дыхание юного Владимира Набокова, его родных, опушки вырского леса...» [375: 79]; «Набоков собирал осколки разрушенной вселенной, выкладывая из них
ю зеркальный витраж счастья» [375: 81]; «Набоковский мир раздробленного
серебряного зеркала, мир словно после атомной войны, когда люди и
предметы, облученные невидимым красным светом и приобретя невиданное
ускорение, неожиданно уцелев, оказались в самых разных, порой
искривленных координатах времени и пространства. ..»[375: 80]; «Образы
старших поэтов, как «кормчие звезды» родины, множатся в берлинских
зеркалах, проступая в Зазеркалье, - и парят там, «как завтрашние облака»,
отражаясь в стихах Федора» [375: 81]. Подобных примеров можно привести
множество.
Исследователь С. Кетова, выделяя повтор предметных рядов как одну из черт стиля В. Набокова, также использует слово «зеркало» («Предметные ряды могут своеобразно рифмоваться, отражаясь друг в друге, как в зеркале» [177: 39]) в метафорическом значении. Из контекста очень хорошо видно, что данное словоупотребление в работе не принципиально и может быть легко заменено, например, словом «повтор».
Довольно часто авторы статей употребляют определения «зеркальный», характеризуя метароман В.Набокова. Как «зеркальный роман» определяют «Дар» М. Липовецкий, Л. Рягузова, что, на наш взгляд, также является метафорой: «Категория «метапроза» <...> обозначает род авто/само/рефлективного повествования, исследующего природу словесного искусства в том ракурсе, в каком оно бросает свет на творчество, воображающее себя творящим. В этом смысле «Дар» Набокова — метароманное обобщение прозы, по структуре - «зеркальный роман» [Рягузова: 286:.113].
Таким образом, представление о том, что особенности функционирования мотива зеркала в творчестве В.Набокова уже в достаточной степени изучены, во многом основывается на высокой частотности использования самих слов «зеркало», «Зазеркалье», «зеркальный» в языке исследований, что очень часто является
11 метафорическим переносом и никак не связывается с функционированием
мотива зеркала в набоковских текстах. Однако это не единственная причина.
Безусловно, существует определенное количество
литературоведческих работ, авторы которых обращают внимание на саму лексему «зеркало», часто встречающуюся в произведениях В. Набокова. Но, как правило, делают это не специально, а в связи с другими проблемами. Так,, например, Т. Белова в работе «Сквозные образы-символы в романном творчестве Набокова» рассматривает целый ряд мотивов, символов, образов, переходящих из романа в роман. Наряду с образами-символами тени, призрака, лужицы, мотивами судьбы, рока, потусторонности, двойничества, игры, шахмат, пожара, окна автор выделяет и мотив Зазеркалья, однако объем статьи (семь страниц) не позволяет не только провести какого-либо анализа функционирования мотива в конкретных текстах, но и определить набор возможных значений данного мотива в произведениях В. Набокова.
Обзорностью отличаются практически все рассмотренные нами работы, это определяется тем, что мотив: зеркала не является в них предметом исследования, а упоминается лишь по ходу, в соотношении с другими интересующими авторов проблемами. Кроме того, большая часть работ представляет собой материалы докладов, поэтому отличается небольшим объемом (пять-семь страниц), что, конечно, не дает возможности глубокого изучения проблемы, а лишь позволяет наметить какие-то векторы для дальнейших исследований.
Характерно, что в литературоведении так и не сложилось традиции обозначения «зеркального» феномена В.Набокова. Л. Рягузова относит зеркало к семантическим примитивам, под которыми понимает «конечные, простейшие атомы смысла, неопределяемые, неразложимые лексемы» [286: 59]. Другие исследователи говорят о зеркальной образности, зеркальной символике, «пародийной зеркальности», «поэтике отражений», «Зазеркалье», теме зеркала, что также свидетельствует о том, что данная проблема пока не
попадала в поле специального исследования, а рассматривалась лишь в связи с какими-то иными проблемами.
Пожалуй, на сегодняшний день в набоковедении можно выделить три работы, авторы которых уделяют внимание интересующей нас проблеме: монография Г.Хасина «Театр личной тайны», монография Л.Рягузовой «Концептуализированная сфера «творчество» в художественной системе В.В. Набокова» и статья В. Шевченко «Зрячие вещи». Конечно, и в данном случае нельзя сказать, что мотив зеркала находится в центре, однако в названных работах ему уделяется гораздо больше внимания, чем в других исследованиях творчества В. Набокова.
В. Шевченко обращает внимание на то, что «роль приемов у Набокова, особенно композиционных, хорошо описана - порой до поразительных тонкостей. И все же как целое они, пожалуй, еще не исследованы. В частности, не изучена, хотя многократно отмечена их «оптическая» природа» [399: 209].
В ряду композиционных «оптических» приемов автор рассматривает «эффекты зеркальности» / «принцип отражения» (В. Шевченко использует оба определения). Его занимают проблемы симметрии в набоковских текстах. Автор сам делит статью на три части, «эффектам зеркальности» он посвящает последнюю часть (четыре страницы), поэтому, конечно, не может представить детального анализа произведений В. Набокова, а лишь обозначает общие тенденции и намечает пути для дальнейших исследований: «Любопытно было бы рассмотреть в духе Лаланда такой тонкий предмет, как, скажем, тень Мнемозины на Зине Мерц. Сам Набоков в духе Флобера («истина - в оттенках», то есть в тенях теней) ставит своих героев в трудную зависимость от положений и теней положений («Лик»), жестов и теней жестов («Фиальта»). Но мы не станем трогать фонетических, этимологических и алхимических теней Владимира Владимировича. Выделим главное - назначение его зеркальных и теневых конструктов. И те,
и другие задают, вместе со своими источниками, симметричные формы, а последние - оси, нанизывающие на себя изображения кристаллических координат зримого» [399: 217].
В. Шевченко рассматривает «зеркало» как композиционный прием, мы же проблему симметричных построений сознательно выводим за рамки диссертационной работы, анализируя функционирование мотива зеркала в текстах писателя, однако ряд положений работы В. Шевченко существенны и для нашего исследования.
Во-первых, автор статьи обращает внимание на то, что идея многомирия реализуется в текстах В.Набокова с помощью «зеркала». «Зеркало» выступает в традиционной для него функции - границы: «Любое зеркало отсылает глаз в мир отвлеченный - организует сквозняк из иных измерений» [399: 215]. Разговор о потустороннем мире В.Набокова активно ведется уже на протяжении четырех лет (начиная с книги В.Александрова «Набоков и потусторонность»), однако до сих пор остаются нераскрытыми механизмы переходов и взаимодействий параллельно существующих миров в художественной системе писателя. В. Шевченко вскрывает один из таких механизмов, но (вероятно, из-за ограниченного объема) не показывает, как он работает на примере анализа конкретных текстов. Кроме того, исследователь не избегает некоторой тенденциозности, которая очень часто встречается в работах набоковедов на протяжении последних четырех лет: после монографии В.Александрова все больше исследователей начинают обращаться к метафизике В.Набокова, пытаются раскрыть в его произведениях присутствие потустороннего, не замечая при этом, что иной мир у В. Набокова - это не всегда мир потусторонний.
Таким образом, существенным в статье для нас является то, что исследователь обращает внимание на возможность «зеркала» выступать в набоковских текстах в роли границы между мирами. Необходимо только продемонстрировать это на примере анализа произведений писателя, а также
конкретизировать определение иной мир у В. Набокова, которое не исчерпывается только понятием потусторонности и очень часто может быть связано с чем-то вполне реальным и земным.
Вторым важным для нас положением в работе В. Шевченко является вывод о «внутренней зеркальности» материи в космосе В. Набокова: «Все отражает все. И это принцип, пусть он и выражен тут в заведомо вызывающей форме» [399: 216]. Зеркальные отношения вещей, по мысли исследователя, задают симметричные формы, подчеркивающие, что мир устроен специально, у него есть творец. В этом видит главное назначение зеркальных и теневых конструктов в набоковских текстах В. Шевченко. Однако более существенной нам представляется мысль, которую автор подробно не развивает. Это мысль о наличии наблюдающего глаза (человека), который и устанавливает зеркальные связи вещей. Роль человека в этом мире отраженных предметов, особенности воспринимающего сознания могут быть изучены более подробно. Кроме того, в связи с наблюдениями В.Шевченко интересно было бы рассмотреть художественную систему В.Набокова в соотношении с трактатом «Вещь» М. Хайдеггера, в котором философ размышляет о «зеркальной игре мира».
Существенным в работе также представляется то, что автор обращается к явлению, которое пока не получило должного внимания со стороны исследователей, хотя характерно практически для всех крупных произведений В. Набокова. Это «незабываемые картинки, эмблематичностью претендующие на вечность» [399: 216], когда падающий на воду лист соединяется со своим отражением, корабль плавно покачивается на своем отражении в реке и т.д. В. Шевченко связывает это с тайной потустороннего, думается, что этому явлению могут быть даны и другие объяснения, но для этого необходимо проанализировать его в контексте всего произведения.
И, наконец, необходимо выделить еще один момент в работе В.Шевченко. Исследователь сближает теневые и зеркальные отношения в
художественном мире В.Набокова: «Теневые и зеркальные отношения вещей отчасти взаимозаменяемы» [399: 217]. Действительно, зеркало и тень в произведениях В. Набокова семантически и функционально очень близки и часто заменяют друг друга. В диссертационном исследовании мы также будем рассматривать мотив тени и мотив зеркала как очень близкие по значению.
Следующая работа, на которой хотелось бы остановиться специально, - это монография Л. Рягузовой «Концептуализированная сфера «творчество» в художественной системе В.В. Набокова». Мотив зеркала в работе не является объектом специального изучения, однако исследователь на протяжении книги неоднократно обращается к интересующей нас проблеме.
Л. Рягузова, как и В. Шевченко, обращает внимание на то, что «зеркало» может играть существенную роль в онтологии В. Набокова. При этом Л. Рягузова понимает иной мир В.Набокова гораздо шире потусторонности: «Понятие «иной мир» шире представлений о «загробном», «невидимом» мире идеального существования. Оно включает в себя антимир, мир «наоборот», Зазеркалье, где обостряются противопоставления «своего и чужого», «внутреннего и внешнего», «подлинного и мнимого». Искаженное Зазеркалье - еще один вариант многомерного понятия «мир», его подобие, «корявая копия». Зеркало - инструмент, удваивающий реальность точно или искаженно. Семиотические потенции поворачиваемого, «кривого» зеркала <...> исключительно многообразны <...>. Образ-мотив зеркала в художественной модели двоемирия - это развернутая метафора «зеркала бытия» [286: 42].
Исследователь определяет «зеркало» скорее не как мотив, а как метафору: Зазеркалье - это иной, искаженный мир. Роман «Приглашение на казнь» В. Набокова, который анализирует автор монографии, дает к этому повод. Однако Л. Рягузова не описывает механизм взаимодействия миров, в котором «зеркало» может играть существенную роль, выступая в тексте
16 прежде всего как мотив, возникающий каждый раз, когда осуществляется
переход из одного мира в другой. Интересно проследить подобные переходы
в произведениях В. Набокова и соотнести результаты с наблюдениями
Л. Рягузовой («Метод познания сущностей бытия на границах двоемирий
составляет суть набоковской диалектики» [286: 33]), что, на наш взгляд,
позволит объяснить высокую частотность использования мотива зеркала в
художественной системе писателя.
О «зеркале» Л. Рягузова вспоминает и в связи с темой творчества: «В пределах индивидуальной мифологии писателя при интерпретации темы творчества в функции семантических сигналов употребляются слова: граница, мера, зеркало, призма, сдвиг...» [286:61]. К сожалению, исследователь никак не комментирует это далее в главе. Между тем, идея того, что «зеркало» является своеобразным механизмом творческого познания в художественной системе В. Набокова, достаточно плодотворна и требует изучения и обоснования на материале конкретных текстов писателя.
В своей работе Л. Рягузова по-разному определяет «зеркало», называя его метафорой, символом, образом, «семантическим сигналом»: в задачи исследователя не входит описание всех значений и функций «зеркала» в художественной системе В. Набокова, поэтому оно иногда просто включается автором в ряды перечислений без подробного объяснения и анализа. Показательным является то, что исследователю так или иначе приходится время от времени обращаться к «зеркальному феномену» В.Набокова, что свидетельствует о том, что лексемы «зеркало», «Зазеркалье», «зеркальность» являются своеобразным знаком набоковской прозы.
И в заключение нашего обзора обратимся к работе Г. Хасина «Театр личной тайны». Особый интерес представляет обращение автора к проблеме взгляда в набоковских текстах. Ощущение взгляда испытывают, по мысли, Г. Хасина, практически все герои В. Набокова, писатель выстраивает мир, в
котором все находится под пристальным наблюдением: «Мир у Набокова наблюдает. Описание не просто представляет реальность, но выводит всех, кто имеет к ней отношение - от персонажа до читателя - на сцену заложенного в ней взгляда <.. .>. Этот фон рассеянного повсюду присутствия есть лишь общее пространство, и в нем уже разворачиваются события отдельных сюжетов» [378:54]. Думается, что было бы очень интересно проанализировать роль мотива зеркала в представленной художественной системе. Сам исследователь указывает на связь процесса наблюдения и отражения у В. Набокова («Марта занята поисками живых зеркал»[378: 9]; «Герман Карлович не способен использовать другого в качестве достоверного зеркала» [378: 62]), однако не развивает эту мысль. Между тем, в текстах писателя можно найти достаточно оснований для подобного подхода: например, Смуров в «Соглядатае» сравнивает людей, которые его окружают, с зеркалами, каждое из которых несет свой образ героя.
Таким образом, анализ литературоведческих работ по интересующей нас проблеме показывает, что в современном набоковедении ощущается необходимость обращения к «зеркальному феномену» В. Набокова.» Сама лексема «зеркало» настолько часто используется в произведениях писателя, что исследователи не могут этого игнорировать и так или иначе упоминают о существенной роли «зеркала» в набоковских текстах. Это приводит к возникновению достаточно противоречивой ситуации: частые упоминания создают ощущение того, что данная проблема уже достаточно исследована, а, между тем, на сегодняшний день не существует не только цельной работы, но даже сколько-нибудь полного анализа отдельных набоковских текстов с точки зрения функционирования мотива зеркала.
В настоящей работе предметом анализа является мотивная организация набоковских текстов, прежде всего функционирование в них мотива зеркала; объектом исследования выступают прозаические произведения, написанные на русском языке.
18 Актуальность темы. Последние пять лет в исследовательских
работах' достаточно четко обозначились два вектора изучения творчества
В.Набокова: первый связан с попытками определить место писателя в
русской литературе и учесть при этом все возможные контексты, на
пересечении которых существовало его творчество, второй - с осмыслением
метафизики В. Набокова. Изучение функционирования мотива зеркала дает
возможность продвижения в каждом из указанных направлений, так как
позволяет рассмотреть произведения В. Набокова в новых контекстах, а
также привнести существенные дополнения в понимание художественного
мира писателя.
Материалом исследования является русская проза В.Набокова: романы, рассказы, повести, написанные в период с 1920 по 1940 г. В диссертационной работе подробно проанализированы романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Отчаяние», «Приглашение на казнь», повесть «Соглядатай», рассказы «Ужас», «Облако, озеро, башня».
Цель работы - изучить особенности функционирования мотива зеркала в романах и рассказах русского периода творчества В. Набокова.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
определить понятийный аппарат исследования, уточнив содержание понятия мотив;
выделить и проанализировать тексты, в которых наиболее ярко проявляются особенности функционирования мотива зеркала;
исследовать мотив зеркала в системе других мотивов произведения, выявив мотивы функционально и семантически близкие;
раскрыть и проанализировать интертекстуальные связи произведений В. Набокова;
сопоставить индивидуальную художественную систему В. Набокова с художественной системой символизма, где мотив зеркала также играет ведущую роль;
- выявить своеобразие художественной системы В. Набокова на основании
изучения особенностей функционирования мотива зеркала в романах и
рассказах русского периода.
Методология исследования определяется комплексным подходом к изучению художественного текста. Анализируя пространственно-временные отношения в художественном мире В. Набокова, мы опираемся на работы Р. Барта, Ю. Лотмана, исследуя особенности повествования, учитываем труды М. Бахтина, Б.Успенского. В основу наших представлений о мотиве были положены идеи Р. Якобсона, Ю. Лотмана, Б. Гаспарова, А. Жолковского, Ю. Щеглова. В работе используются методы мотивного и интертекстуального анализа. В анализе функционирования мотива зеркала особенно значимыми для нас являются идеи М. Бахтина, Ю. Левина, 3. Минц, Г. Обатнина, Л. Рягузовой, Е. Созиной, Г. Хасина, В. Шевченко.
Научная новизна работы заключается в следующем:
Настоящая работа представляет собой первое цельное исследование функционирования мотива зеркала в художественной системе В. Набокова.
В диссертации впервые предпринимается попытка систематизации функций данного мотива.
Исследуется роль мотива зеркала в романах «Машенька», «Король, дама, валет», рассказе «Облако, озеро, башня», систематизируются и значительно дополняются существующие исследования мотива в романах «Приглашение на казнь», «Отчаяние», повести «Соглядатай», рассказе «Ужас».
На основе анализа функционирования мотива зеркала в романах В. Набокова выявляются интертекстуальные связи, позволяющие рассматривать произведения писателя в новых контекстах: роман «Машенька» в контексте «Необыкновенных приключений Петера Шлемиля» А. Шамиссо, рассказ «Облако, озеро, башня» - стихотворения
«Лебедь» Ф. Тютчева, рассказ «Ужас» - эссе М. Бахтина «Человек у зеркала», роман «Отчаяние» - «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда и «Портрета» Н. Гоголя. - Впервые художественная система В. Набокова рассматривается в сопоставлении с творчеством писателей-символистов на основании анализа особенностей функционирования мотива зеркала. Положения, выносимые на защиту:
Мотив зеркала является постоянным элементом художественной системы В. Набокова: он проходит через все основные произведения писателя, начиная с «Машеньки» и заканчивая «Другими берегами».
Мотив зеркала выступает в трех функциях (онтологической, гносеологической, аксиологической), организуя различные отношения в художественном мире В.Набокова: противоположных миров, субъекта и объекта в процессе восприятия, реальной и художественной действительности, автора и героя в творческом процессе.
Мотив зеркала в произведениях писателя может быть представлен рядом вариантов: портрет, тень, призрак, фото, кино, сон, память, двойник, вода.
Мотив зеркала организует сложную, многозначную, неиерархичную систему. Поливариантность является необходимым условием ее успешного функционирования.
В. Набоков перерабатывает символистскую модель вертикальной организации художественного мира со строгой иерархией верха и низа. «Зеркало» у В. Набокова отражает не небо, как у символистов, а героя и мир вокруг него. Потусторонность для героя - то, что находится по ту сторону зеркала. Это может быть как иной мир, так и мир прошлого, мир воображения.
Практическая значимость работы связана с возможностью использования ее материалов и результатов в общих лекционных курсах по
истории русской литературы рубежа XIX - XX вв., а также литературы XX в.; в спецкурсах и спецсеминарах по истории литературы русского зарубежья.
Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут служить дополнительным основанием для дихотомической трактовки мотива, согласно которой природа мотива дуалистична и раскрывается в двух соотнесенных началах: обобщенном инварианте мотива и совокупности вариантов. Данный подход предполагает решение нескольких вопросов: взаимодействия инварианта мотива и его вариантов, определения способов реализации мотива в конкретных текстах, разграничения мотива и функции. Представленный в диссертации анализ функционирования мотива зеркала и его вариантов дает материал для решения названных теоретических проблем.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, а также в докладах на конференциях в Российском государственном гуманитарном университете, Томском государственном университете, Пермском государственном университете, Пермском государственном техническом университете, Соликамском педагогическом институте.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения и библиографического списка. Первая глава «Функции мотива
зеркала» имеет теоретический характер. В ней раскрывается содержание
понятия «мотив», рассматривается история изучения содержания и
особенностей функционирования мотива зеркала в теоретических работах,
определяется набор основных функций мотива. В последующих главах
(«Онтологическая функция», «Гносеологическая функция»,
«Аксиологическая функция»), на примере романов и рассказов русского периода творчества В.Набокова рассматриваются особенности функционирования мотива зеркала.
«Машенька»
На сегодняшний день в набоковедении сложилась достаточно устойчивая традиция изучения романа «Машенька» в контексте творчества А.С. Пушкина. Сквозь «пушкинскую призму» рассматривают роман исследователи Т. Белова, К. Бланк, Н. Букс, И. Воскресенский О. Дарк, В. Старк, К. Сугимото,6. Литературоведы обнаруживают звуковые переклички фамилий Ганин и Ганнибал, Лев Ганин и Евгений Онегин, проводят аналогии между Машенькой и онегинской Татьяной, сравнивают пребывание Танина в Крыму с путешествием Онегина, именины Клары с именинами Татьяны, соотносят образ автора в «Машеньке» и в романе «Арап Петра Великого» и т.д. Между тем, вероятно, увлечение поиском аналогий романа с текстами А. Пушкина привело к тому, что роман «Машенька» до сих пор глубоко не проанализирован.
Без внимания остались достаточно существенные проблемы, решение которых позволит выявить в романе новые смысловые аспекты. Так, например, до сих пор не исследовано взаимодействие русской и германской культур в «Машеньке», которое будет играть существенную роль в организации художественного мира и в более поздних произведениях В. Набокова («Защита Лужина», «Облако, озеро, башня»). Требует детального изучения сложная мотивная организация романа, тем более что в произведении можно выделить целый ряд ключевых для творчества В.Набокова мотивов. Кроме того, роман «Машенька» может быть рассмотрен не только в контексте творчества А.С. Пушкина, в тексте есть основания для сопоставления его с Евангелием, а также с повестью А. Шамиссо «Необыкновенные приключения Петера Шлемиля».7 Анализ функционирования мотива зеркала в романе «Машенька» позволит нам обратиться к решению данных проблем.
Появившись на первых страницах, слово «зеркало» повторяется множество раз до самого конца романа. В зеркала постоянно смотрятся герои («Смотрелся во все зеркала» [Набоков: 18:1: 58]; «Она посмотрела на себя в зеркало» [58]), в них отражаются предметы и люди («Она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним» [42]; «В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты» [69]; «Мыслей, вызванных этим пятном и отраженьем стола в зеркале...» [70]; «По солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки» [71]), зеркала составляют часть обстановки («Прихожая, где висело темное зеркало» [37]; «Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиком»; «Желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме» [75]) и т.д. Конечно, такое частое употребление слова не может быть просто случайностью. Тем более что фраза «отражение в солнечных зеркалах асфальта» значительно увеличивает число «зеркал» в романе, указывая на связь слов «тень» и «зеркало» (слово «тень» также употребляется в тексте множество раз). В работе мы уже говорили о том, что мотив тени может трактоваться как вариант мотива зеркала. В романе «Машенька» для этого есть все основания.
Мотив зеркала в романе создает ощущение иллюзорности, нереальности происходящего: в берлинском мире все лишь отражение, тень, копия, призрак какой-то иной, более реальной, жизни («Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной » [71]).
Мотив зеркала выступает в онтологической функции, организуя структуру мира. В произведении можно выделить два плана, первый - это настоящее, действительность, в которой существует герой, второй -прошлое, воспроизводимое героем по памяти. Главному герою, Ганину, доступен как реальный мир, в котором он находится физически, так и мир прошлого, с которым связаны его мысли, воспоминания. Повествование строится по ассоциативному принципу, знакомое расположение предметов, запах, ощущение переводят мысли героя в мир прошлого, и, тем самым, переносят повествование в другой план.
Воспоминание для героя настолько реально, что переживается как действительность, кажется, что он переносится в другой мир не только в воображении, но и физически, настолько точно и подробно переданы все его ощущения. Это приводит к некоторой читательской дезориентации, когда кажется, что повествуется о событиях настоящего, а на самом деле все происходит в воспоминании героя. Таким образом, герой переходит из одного мира в другой. «Зеркало» в этом случае становится границей, окном, соединяющим миры. Мотив зеркала (и его варианты) чаще всего появляется в произведении именно «на стыках» двух реальностей, в момент перехода повествования из настоящего в прошлое или мысленного обращения героя к прошлому: «В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине -день был на диво погожий - косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов, и которые потом он с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе. В зеркале отраженье захлопнулось ... Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату» [69].
Ганин занят утренней уборкой, то есть погружен в настоящее, но этот настоящий мир героя достаточно хрупок, он уже узнал о том, что приезжает Машенька, его мысли постоянно переносятся в прошлое, с ней связанное, прошлый мир врывается в действительную жизнь Ганина. Зеркало в этом эпизоде является окном в тот мир, к которому относятся фотографии, лежащие в столе Алферова. Не случайно в конце отражение «захлопывается», как окно, и Ганин отправляется с щеткой к себе в комнату, тем самым возвращаясь к настоящему.
«Приглашение на казнь»
В романе «Приглашение на казнь» мотив зеркала играет определяющую роль. Он представлен целым рядом вариантов (сон - тень -призрак - двойник - фотография) и выступает в двух функциях: онтологической и гносеологической. В данной главе мы подробно остановимся на первой из них.
Художественный мир «Приглашения на казнь» по структуре соотносим с миром романа «Король, дама, валет», представляющего собой систему взаимоотражающихся миров: реального и потустороннего. Только в данном произведении еще более смещены акценты: потусторонний мир не просто наблюдает за действительным миром, а постоянно прорывается в него, подвергая сомнению саму реальность этой действительности, пока в финале окончательно не разрушает этот действительный мир, оказавшийся мнимым. О существовании потустороннего мира заявлено уже в самых первых строках романа. Эта мысль высказывается в эпиграфе, в качестве которого автор использует слова вымышленного философа Делаланда: «Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смертными». Делаланд «Рассуждения о тенях» (франц.)» [18: IV: 5]. Это эпиграф из несуществующего произведения. У нас есть лишь его название, которое в данном случае и является содержанием, ничего больше мы об этом произведении не узнаем. Поэтому и смысл эпиграфа можно трактовать лишь в соотношении с названием «Рассуждение о тенях».
Мир - это лишь тень какого-то иного существования, жизнь людей в мире лишь отражение другой жизни, более реальной, отбрасывающей свою тень в этот мир. Итак, с первых строк воссоздается структура мира, и ведущую роль в организации данной структуры играет мотив зеркала, представленный вариантным мотивом тени.
Далее в тексте романа развертывается содержание эпиграфа. Сюжет «Приглашения на казнь» — это попытка изображенного мира утвердиться на правах реальности, борьба за действительность своего существования, склеивание, собирание этой действительности, сквозь которую настойчиво прорывается другой мир, «реальнейший», «действительнейший».
Мотив зеркала в тексте, представленный в различных вариантах, подчеркивает иллюзорность изображенного мира, который является лишь призраком, отражением, тенью потусторонности: «Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинциннату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил, сам же Цинциннат уже сошел со стула на стол» [16]; «Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории хотелось бы проснуться, но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь...» [19]; «Тут стены камеры начали выгибаться и сдавливаться, как отражения в поколебленной воде: директор зыблился, койка превратилась в лодку» [31]; «Я жаловаться не собираюсь, - сказал Цинциннат, - но хочу вас спросить: существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещанное свое исполните?» [38]; «Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира» [39]; «Он есть мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия» [53]; «Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала» [59].
Герой живет в мире-призраке, привидении, тени, «корявой копии», отражении, сне. Он постоянно ощущает это, постоянно чувствует подмену, декорацию, ибо в таком мире не может быть ничего настоящего, все подменяется игрой, представлением. Мотив игры очень тесно переплетается с мотивом зеркала. Чтобы утвердить реальность своего мира, герои декорируют его, надевают маски, лицедействуют. Они входят в камеру Цинцинната, как на сцену. При этом иногда смотрятся в зеркало, как актеры перед выходом, поправляя свой грим, проверяя парик, так как в их внешности нет ничего настоящего: «Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец подойдя к койке, подал Цинциннату одеться» [40]; «...Наконец, сама Марфинька, в своем выходном черном платье, с бархоткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке...» [56]. Герои «Приглашения на казнь» необыкновенно деятельны, но действия их кажутся Цинциннату бессмысленными, так как они на протяжении всего романа стремятся создать копию того, что уже дано им в оригинале, копию настоящего, живого мира. При этом пытаются «адаптировать» его, упростить, лишить тайны, перекроить под себя: «... Наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир» [28]; «Нет, это было лишь подобие окна; скорее - витрина, а за ней - да, конечно, как не узнать! - вид на Тамарины Сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал не столько террариум, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр ... . А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают лицедеи, стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то не свежо, ветхо, покрыто пылью...» [43].
Герои отгораживают себя декорациями, закрывают масками свои лица, силясь не допустить вторжения в созданную ими искусственную реальность иного мира, мира, который доступен лишь Цинциннату. Однако этот иной мир настолько огромен, что его невозможно «загородить», «заставить», он постоянно прорывается и в конце полностью сметает искусственный, призрачный мир, мир-копию, мир-отражение, созданный героями-масками: «Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало» [130].
Итак, если в «Короле, даме, валете» потусторонний мир постоянно присутствует на втором плане повествования, наблюдая за героями через зеркала, но при этом не вмешиваясь в их жизнь, то в «Приглашении на казнь» он врывается в искусственный мир героев и сметает его, уничтожая тем самым созданное ими кривое отражение, карикатуру. Мотив зеркала в тексте усиливает конфликт двух миров, подчеркивая призрачность действительности героев, являющейся лишь тенью, неверной копией более реального потустороннего мира.
«Соглядатай»
Повесть «Соглядатай» во многом перекликается с рассказом «Ужас». В центре оказывается проблема восприятия героем мира, себя и окружающих. При этом мотив зеркала также играет решающую роль, выступая своеобразной моделью восприятия, и выполняя гносеологическую функцию. В повести сохраняется вся парадигма вариантов мотива, отразившаяся уже в «Машеньке», «Короле, даме, валете», «Ужасе».
В «Соглядатае», как и в «Ужасе», герой полностью сосредоточен на проблеме восприятия, что также порождает ряд странных ситуаций: «Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забыться, и завидуя всем тем простым людям, - чиновникам, революционерам, лавочникам, - которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок, оттого что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он, балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: «здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон и лед, ложился бы плашмя на пол, и все — понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, и - умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой» [II: 300].
Герой «Соглядатая», Смуров очень остро воспринимает мир, кажется, что в этом и состоит главное назначение героя — воспринимать окружающее. Это особый тип героя — «зрячего», наблюдателя. Он сосредоточен на созерцании, оно составляет основу его жизни. Это и объясняет те странные ощущения героев, которые описываются в «Ужасе» и «Соглядатае».
Не случайно В. Набоков использует в данных текстах мотив зеркала. Зеркало отражает все, что перед ним находится, герои-наблюдатели также все замечают, все отражают, для них в мире нет несущественных вещей, на всем: они останавливают свой взгляд. Характерно, что вариантом мотива зеркала является в произведениях - зрение, глаз. В «Ужасе» герой превращается в голое зрение, в «Соглядатае» Смуров называет себя «всегда зрячим». Позже мы увидим, что мотив зрения в «Соглядатае» является вариантным, восходящим к инвариантному мотиву зеркала.
Тематическую близость рассматриваемых текстов подтверждает и; общий для них мотив страха. Герои осознают свою способность к очень острому восприятию мира, которая занимает их и пугает одновременно, так как выводит за рамки обычных человеческих ощущений, условных представлений о мире, который оказывается гораздо шире, больше человека и может существовать вне его сознания.
Таким образом, можно говорить об определенном единстве произведений, которое поддерживается общими мотивами, типом героя, а также близостью проблематики. Хотя, что касается проблематики, то здесь можно выделить и некоторые различия. И в «Ужасе», и в «Соглядатае» на первый план выдвигается проблема восприятия, однако, если в «Ужасе» - это восприятие героем мира и окружающих, то в «Соглядатае» на первый план выдвигается проблема восприятия героя окружающими. Другие люди интересуют Смурова как воспринимающие его субъекты, зеркала, в которых он отражается. Герой коллекционирует эти отражения, все его мысли заняты тем, чтобы разгадать, какое впечатление он производит на людей, которые его окружают. То есть он наблюдает за собой через зеркала чужих сознаний. В этом смысле «Ужас» и «Соглядатай», раскрывая различные аспекты восприятия, являются своеобразным дополнением друг друга.
В повести «Соглядатай», как было уже отмечено, мотив зеркала играет ключевую роль, он представлен целым рядом вариантов: зрение - экран -наблюдатель - призрак - память - тень. Поэтому нашей задачей будет проследить функционирование в тексте каждого из вариантов и показать, что все они восходят к одному инвариантному мотиву зеркала.
В «Соглядатае» появляется новый, не выявленный нами ранее вариант мотива зеркала - мотив наблюдения. Он вводится с первых строк повествования и проходит через все произведение. Смуров, появляясь в рассказе, сразу попадает под наблюдение: «Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унизительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу» [II: 299]. За ним постоянно наблюдают его воспитанники, поэтому он ведет себя неестественно, как человек перед зеркалом , Смуров не только осознает, что за ним наблюдают, но и постоянно пытается представить, каким его образ является в восприятии мальчишек, отсюда и скованность, неестественность движений. Постоянно смотрясь в зеркала других сознаний, герой пытается контролировать свои действия, как человек перед зеркалом меняет свое выражение лица, жесты.
Мотив наблюдения поддерживается в тексте частым использованием таких глаголов, как «видеть», «следить», «глядеть», «наблюдать», «присутствовать»: «Я не переставал наблюдать за собой» [301]; «... Я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят» [302]; «...Справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня» [303]; «...Оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной» [304]; «На самом же деле они по-видимому не все время присутствовали при моей казни» [305]; «Вайншток был убежден, что какие-то люди, которых он с таинственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге называл «агенты», постоянно за ним следят» [309].
«Приглашение на казнь»
Мы уже рассматривали данный роман, когда говорили об онтологической функции мотива зеркала. Однако этим нельзя ограничиться. В «Приглашении на казнь», как ив «Отчаянии», мотив зеркала особенно значим, пронизывает все повествование и организует не только структуру художественного мира, но и отражает процессы восприятия и познания героями мира и друг друга.
В Главе 2 мы уже говорили о том, что реальный мир в романе является искаженной копией, отражением мира потустороннего, герои этого мира представлены как тени, отражения, призраки. Мотив зеркала подчеркивал призрачность существования героев в их мире, где все лишь копия другой реальности. Однако мотив зеркала и его варианты в тексте романа (тень, призрак) отражают не только положение героев относительно другой реальности, но их отношения друг с другом внутри собственного мира..
Ранее мы уже приводили примеры из текста, в которых герои представлены как тени, призраки. Призрачность героев определяется не только тем, что их мир — это лишь временный мир, но также и тем, что все они одинаковые, легко переходят друг в друга, меняются местами. Между героями в этом мире нет принципиальных различий, они не могут выражать разных позиций, высказывать своих убеждений, по сути, они являются копиями, отражениями друг друга. В подобной ситуации исключена и всякая полемика, поэтому адвокат и прокурор должны быть представлены «одним лицом»: «Адвокат и прокурор, оба крашеные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому» [18: IV: 11].
Герои без определенных позиций легко заменяют друг друга по ходу повествования, так как качественно ничем не отличаются. Так, например, меняются местами в различных сценах тюремщик Родион, адвокат Роман Виссарионович и директор тюрьмы Родриг Иванович. Остановимся на одной из них, где описывается прогулка на башню: «Все трое вышли: впереди -Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду; за ним - адвокат, во фраке, с нечистою тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисеи на затылке, там, где кончался черный парик; за ним,- наконец, Цинциннат, теряющий туфли, запахивающий полы халата» [22]. Итак, из камеры выходят три героя: адвокат, Родион и Цинциннат. Далее изображается их шествие по коридорам тюрьмы, при этом состав участников тюремной прогулки не меняется: «Родион отпер низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок: Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и замкнул шествие» [23].. В; этом составе герои приходят на башню, где каждый занимается своим делом: «Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов ... . В нескольких шагах от него, на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. ... Родион нашел где-то метлу и, молча, мел плиты террасы» [24]. На башне перед нами все те же герои (адвокат, Родион и Цинциннат). Однако в самом конце прогулки происходит ряд неожиданных превращений: «- Будет с вас, - добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. - Айда по домам. — Да, пора, - откликнулся адвокат, посмотрев на часы.
И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди директор Родриг Иванович, за ним - адвокат Роман Виссарионович, за ним - узник Цинциннат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук у директора был сзади запачкан в известку» [24]. Первый раз читая роман, очень трудно заметить подмену, тем более что повествователь пытается ее замаскировать, сообщая о том, что в обратный путь двинулось «то же маленькое шествие». Между тем меняется состав участников, Родион куда-то исчезает, зато появляется директор. При этом нельзя сказать, что Родион превращается в директора, так как одновременно происходит еще одна подмена: в описании адвоката во время прогулки на башне подчеркивается, что его спина была выпачкана в известку, однако, когда герои возвращаются с башни, в известке оказывается сюртук директора. Таким образом, происходит целый ряд сложных трансформаций. Директор, адвокат и Родион легко меняются местами, переходят друг в друга (заметим, что только Цинциннат остается собой). И, думается, не так важен порядок этих трансформаций (кто в кого и как переходит), как сама их возможность. Герои одинаковы, обезличенны, между ними практически нет разницы, они представляют одно и тоже в разных отражениях.
Цинциннат, «выключенный» из круга отражений, практически сразу замечает это: «Вот я хочу вас спросить: на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, - я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что... - Погодите же! Я хочу знать, во-первых: от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых: как добиться толку от этого учреждения, или лица, или собрания лиц...» [20]. В мире, в котором живет Цинциннат, нет ничего определенного, постоянного, в нем все «так называемое», а не истинное. Это «собрание лиц», представляющих, в сущности, одно и то же, поэтому легко друг друга заменяющих. Не имеет значения ни качество, ни количество, один герой может заменять сразу нескольких или наоборот: «На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один» [16].
В мире отражений не может быть нормальных человеческих отношений, исключены какие-то личные предпочтения и привязанности, так как нет разницы между героями этого мира. С этой точки зрения вполне понятно поведение Марфиньки, которая постоянно изменяет Цинциннату и легко рассказывает ему об этих изменах. Для нее нет разницы, Цинциннат для нее такой же мужчина, как и все. В мире одинаковых, отраженных людей какая-либо оценка не имеет смысла, поэтому невозможно и предпочтение.