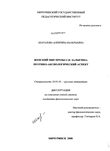Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Филологические и психологические аспекты проблематики мира каторги
1. Литературоведческий «психологизм» и психологический анализ ... 13
2. О точках соприкосновения литературоведения и психологической науки 37
3. Парадоксы Сахалина: «кандальная тюрьма» и «вольная тюрьма»...55
4. «Свободный человек острова Сахалина» 59
5. Интеллигент на каторге: духовный кризис 63
6. Мир каторги: личностное и архетипическое 70
Глава 2. Поэтика произведений о каторге
1. Литературные аллюзии 85
2. Русские очерковые традиции и произведения о каторге 98
3. Очерковое и фельетонное начала в структуре трилогии Дорошевича «Каторга» 112
4. Литературные портреты каторжников в произведениях Чехова и Дорошевича 120
5. Книги Чехова и Дорошевича как источник других произведений о сахалинской каторге («Каторга» B.C. Пикуля) 125
Заключение 147
Список литературы 152
- Литературоведческий «психологизм» и психологический анализ
- О точках соприкосновения литературоведения и психологической науки
- Литературные аллюзии
- Русские очерковые традиции и произведения о каторге
Введение к работе
Особым «миром» назвал русскую каторгу XIX века Ф.М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома»1. Повествователь в этом произведении, прочитавший автобиографические записки, приписанные тут вымышленному Достоевским прошедшему каторгу Алексею Петровичу Горянчикову, обнаружил в них «совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе». По словам самого героя (то есть Горянчикова), в остроге «был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные».
Забегая вперед, отметим, что слово «мир» в том смысле, который применен здесь Достоевским, как и выражение «Мертвый дом» суть емкие художественные символы. Насыщено символами и само повествование в «Записках из Мертвого дома». Несомненно, такая символическая насыщенность довольно неожиданна в тексте, предельно приближенном к законам строгого документа.
Сам Ф.М. Достоевский отбывал каторгу 1851 — 1855 гг. в крепостном остроге («тюремном замке») западносибирского города Омска, расположенного на берегу реки Иртыш. Подобные каторжные места имелись и в других уголках Западной и Восточной Сибири. В рамках темы диссертации Достоевский с его произведением интересует нас прежде всего как родоначальник самой «каторжной» традиции в художественно-
1 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого Дома // Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. В 32 тт. Т. 4. Л.: Наука. 1972. С. 8.
документальной прозе.
В 1869 году был официально объявлен местом каторги и ссылки остров Сахалин. Впоследствии всего за время существования сахалинской каторги сюда было сослано около 40 тысяч человек. Своеобразный быт населения острова, на котором во второй половине XIX — начале XX века размещалась эта каторга для уголовных преступников (политических за весь период там было около 60 человек) обнаружили наблюдения двух русских литераторов, в конце XIX века посетивших Сахалин, — А.П. Чехова и В.М. Дорошевича.
«Записки из Мертвого дома» — одно из наименее изученных произведений Ф.М. Достоевского. В работах различных исследователей, как правило, в развернутой форме констатируются большая важность и социальная острота «Записок» . В отдельных статьях обсуждается сам образ «Мертвого дома»3. Эпитет «мертвый» в названии книги можно заменить на «несвободный дом» и на «ад», что вполне соответствует содержанию произведения, полагает японский исследователь творчества Ф.М. Достоевского К. Итокава4. Вопрос о внутреннем художественном единстве произведения весьма интересно намечал в одной из статей критик Ю. Селезнев5.
План книги возник у Достоевского в Твери. Он писал брату 9 октября 1859 г.: «Эти "Записки из мертвого дома" приняли теперь в голове моей план полный и определенный. Это будет книжка листов в шесть или семь
2 Ср.: Кирпотип В.Я. «Записки из Мертвого дома» // Кирпотин В.Я. Творчество
Ф.М.Достоевского.-М.: 1959.
3 Карлова Т.С. О структурном значении образа «Мертвого дома» //Достоевский:
Материалы и исследования. - Л.: 1974. Т. 1.
4 Итокава К. Записки о «Живом доме»: Парадокасалыюсть композиции «Записок из
Мертвого дома» Ф.М.Достоевского // Литература и Сибирь: Межвуз.сб.научн.тр. —
Иркутск, 1997.
5 Селезнев Ю.И. Идея свободы и вопросы художественного единства в «Записках из
Мертвого дома» // Писатель и жизнь: Сб. истор.-лит.:теоретич. и критич. Статей. - М.:1975.
печатных. Личность моя исчезнет. Это — записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапительнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые из занесенных мною на месте выражений), и изображение личностей — никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное — мое имя..."». Вся книга была опубликована в течение 1861-1862 гг. в журнале братьев Достоевских «Время».
Но «Мертвый» мир каторги на страницах произведения, по сути, оживает и очеловечивается'. «Люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей»,— говорит Достоевский брату (в письме от 30 января — 22 февраля 1854 г.).
Личность Достоевского вряд ли вполне «исчезла» из произведения: уже начиная со второй главы он как реальный автор все более забывает про «убившего жену» вымышленного Горянчикова. Повествователь быстро делается совершенно непохожим на этого «маленького и тщедушного», «мнительного до сумасшествия» героя. «Фикция рассказчика, уголовного преступника Александра Петровича Горянчикова, не может обмануть: всюду слышится голос самого Достоевского, очевидца событий. Вторая фикция — отсутствие «личного элемента» — столь же условна, как и первая... Автор выставляет себя в роли мореплавателя, открывшего новый мир и объективно описывающего его географию, население, нравы и обычаи», — отмечал К.И.
/Г
Мочульский .
Оказалось, что Ф.М. Достоевский как автор данного произведения в историко-литературной перспективе заложил особую художественно-документальную традицию. С одной стороны, «каторжной» проблематике
6 Мочульский КВ. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: 1995. С. 308.
впоследствии отдали дань такие авторы, как, например, другой великий русский прозаик А.П. Чехов («Остров Сахалин») и крупный писатель конца XIX — начала XX вв. В.М. Дорошевич («Каторга»). С другой стороны, позднейшие авторы не могли творить в рамках данной проблематики вне учета творческого опыта Достоевского . Так, например, вышеупомянутое символическое насыщение текста в высшей степени характерно для «Острова Сахалина» — при всей строгой, если не строжайшей документальности данного чеховского произведения (по своей подчеркнутой «очерковости» стоящего в творчестве этого великого прозаика особняком). А.П. Чехов неоднократно по разным поводам вспоминает в «Острове Сахалине» «Записки из Мертвого дома».
Художественно-документальные жанры как таковые на протяжении XIX века интенсивно развивались в русской литературе (мощный толчок их развитию дала натуральная школа 40-х гг.). Писатели быстро осознали их сильные стороны, связанные с особыми возможностями создания эффекта жизненного правдоподобия, их социальную остроту и т.п. Этим жанрам (записки, хроники, путешествия, очерк, фельетон и т.д.) отдавали должное крупнейшие русские писатели (А.И. Герцен, СТ. Аксаков, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой и др.). Достоевский в «каторжной» теме выступил первопроходцем, но при этом поступил подобно Толстому (в трилогии «Детство. Отрочество. Юность») и Аксакову (в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука») — сделал реальных людей
7 Известно, что книга Ф.М. Достоевского повлияла даже на воспоминания отбывавшего каторгу в омском остроге вместе с ним поляка Ш. Токаржевского. Так, Достоевский в «Записках из Мертвого дома» рассказывает о каторжниках Баклушине, Ломове и Бумштейне, и Токаржевскнн в своих воспоминаниях, изданных в 1907 и 1912 гг.:называет эти же фамилии — между тем как в реальности фамилии данных людей были, как сообщается в академическом ПСС Достоевского, «Арефьев, Лопатин, Бумштель» {Достоевский Ф.М. Указ. изд. С. 281).
прототипами своих героев, изменив их имена и фамилии, частично изменив сами события.
В конце XIX в. к художественной документалистике, обращенной к теме «особого мира» каторги, обратился А.П. Чехов, написав книги «Из Сибири» и «Остров Сахалин» по итогам своей поездки через Сибирь на Дальний Восток (1890).
В.М. Дорошевич осуществил поездку на Сахалин в 1897 году на средства «Одесского Листка», в котором постепенно печатались очерки, составившие книгу «Каторга». Книга эта была трижды издана в 1903 — 1905 гг., но затем на весь XX век забыта (в отличие от книг Достоевского и Чехова), то есть по сей день еще практически не изучена. Такая ситуация заставляет дополнительно остановиться во Введении на данном произведении и фигуре его автора.
В первой советской Литературной энциклопедии 1929—1939 годов в статье Д. Заславского о В.М. Дорошевиче это связывается с тем, что, по мнению издания, «наблюдения Д. были поверхностны». Далее там говорится:
«В 1899 Дорошевич вместе с Амфитеатровым и Сазоновым предпринял в Петербурге издание большой политической газеты — «Россия». При внешней шумливости газета соединяла беспринципный либерализм с национализмом и шовинизмом. Резкие фельетоны Дорошевича против отдельных министров были не столько радикальны по существу, сколько вызывающе дерзки. Но уже в это время сказалась слабая сторона Д. как фельетониста: его многословие. Отдельные сильные и меткие строки терялись среди массы пустых фраз. Иногда его фельетоны по силе обличения подымались до памфлета. <...> Д. перешел на работу в московскую газету Сытина «Русское слово», редактором которой оставался до закрытия этой газеты в 1918. При Д. «Русское слово» получило огромное распространение,
а Д. стал любимым фельетонистом московского купечества и мещанства. <...> Радикальная фраза постепенно выветрилась. Меткие, сильные фразы реже встречаются среди безбрежного моря афористической пошловатой болтовни. Его выручал большой житейский опыт, знание купеческой среды, сохранившаяся наблюдательность»8.
Довольно негативным было личное отношение к творчеству В.М. Дорошевича другого известного (в 1920-е годы уже советского) автора — К.И. Чуковского. В статье «О Власе Дорошевиче» он назвал его излюбленные изобразительные приемы «системой лубочных контрастов», упрекал его в «неискренности» и писал, в частности:
«Возьмите Дорошевичев «Сахалин» (имеется в виду «Каторга». — A.M.). Ведь он весь написан точно по машинке - «без слез, без жизни, без любви»»9.
Упрек значительный, но, как убеждают конкретное знакомство с упомянутой книгой и ее анализ, все же преувеличенный и не лишенный субъективности, как довольно часто вообще бывало с молодым К.И. Чуковским10. Данное произведение В.М. Дорошевича, несомненно, оказало свое влияние на русскую литературу первой трети XX века. Отзвуки знакомства с каторгой и каторжанами появляются в ней не без влияния Дорошевича, а они ощутимы, например, в творчестве А.А. Блока, в образах М.А. Булгакова и др.
Публиковались интересные историко-краеведческие материалы,
. Современники именовали Дорошевича «королем фельетона».
9 tica/Doroshevich.htm.
10 Ср.: например, полемику с Чуковским в книге: Матвеева А. Лидия Чарская. Стиль
сказочной прозы. М.-Ярославль, 2005. С. 12-14.
связанные с пребыванием Чехова на Сахалине . Филологи-чеховеды также не обошли вниманием в ряду других чеховских произведений и «Остров Сахалин». Так, это произведение и отраженные в нем реалии рассматриваются в работах М.Л. Семановой12. «Остров Сахалин» затрагивается также, например, в работах Г.П Бердникова, Г.А. Вялого, Б.И Есина, Э.А. Полоцкой и др. В то же время заметно, что «Записки из Мертвого дома» Достоевского и «Остров Сахалин» Чехова на протяжении советских десятилетий XX в. получали преимущественно социологизированное истолкование, приближавшее эти произведения к обычным историческим документам и соответственно отдалявшее их от прочих произведений обоих писателей, от целостного контекста их творчества и проблем их личного художественного стиля. По сути, литературоведами целенаправленно и углубленно освещены лишь социально-бытовые аспекты «Острова Сахалина» А.П. Чехова. Произведение с необходимой полнотой и конкретностью не рассматривалось в рамках целостной литературно-художественной традиции, идущей от «Записок из Мертвого дома» и не получало системного сопоставления (в рамках данной традиции) с «Каторгой» В.М. Дорошевича и др. посвященными сахалинской
11 См.: Сибирь и Сахалин в биографии и творчестве А. П. Чехова: Сб. науч. ст. / Ин-т
мировой лит. Рос. акад. наук, Упр. культуры и туризма Администрации Сахалин, обл.;
[Редкол.: Р. А. Блинова и др.] // Южно-Сахалинск: 1993.
12 См.:напр.: Семанова М. Л. Чехов — художник. М.: 1976.
Впервые развернутые наблюдения над данным произведением сделаны М.Л. Семановой в книге: Семанова МЛ. Чехов в школе. — М.:1954. Из прочих работ данного литературоведа, посвященных «Острову Сахалину», можно указать на вступительную статью к книге: Чехов А. Остров Сахалин /Вступ, ст.. С. 5-23 и примеч. М. Л. Семановой. М.: 1984.
Особенно значимы также примечания М.Л. Семановой в изд.: Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем в 30 тт. Т. 14/15. Из Сибири. Остров Сахалин. 1889—1895. —М.: Наука, 1978. — 928 с. Ею же подготовлены здесь варианты текста «Острова Сахалина».
13 См.:напр.: Бердников Г.П. А. П. Чехов. Идейные и творческие искания. М.: 1984;
Бялый Г.А. Чехов и русский реализм: Очерки. Л.: 1981; Есгш Б.И. Чехов — журналист. М.:
1977; Полоцкая Э.А. А. П.Чехов: Движение художественной мысли. М.: 1979.
каторге художественными произведениями (напр., с «Каторгой» исторического романиста B.C. Пикуля).
Творческое наследие В.М. Дорошевича обширно, но привлекало преимущественно внимание исследователей жанра фельетона14 и рассматривалось, как правило, в общем ряду вопросов истории журналистики. Трилогия «Каторга» же, наряду с произведением Чехова составляющая непосредственный предмет нашего исследования15, интересовала ученых-филологов, историков, этнографов и т.д., как правило, прежде всего своей «краеведческой» подоплекой. Объектом исследования являются художественно-изобразительные средства произведений русской документально-художественной прозы, в совокупности своей формирующие своеобразие мира каторги.
В центре анализа, однако, в соответствии с уточняющим подзаголовком работы, проблематика и поэтика, средства литературно-художественной выразительности и их словесное воплощение в названных произведениях.
Аспекты, связанные с художественной проблематикой и поэтикой произведений о каторге, исследование которых мы ставим своей целью в диссертации, на данный момент вряд ли получили свое разрешение и сохраняют свою научную актуальности.
Вопросы поэтики претерпели интенсивное развитие уже в современном А.П. Чехову и В.М. Дорошевичу литературоведении (труды А.Н.
14 В 1905 году начало выходить собрание фельетонов В.М. Дорошевича в 12 томах. Из
других произведений В.М. Дорошевича необходимо указать на книги «Папильотки» (1893),
«Одесса, одесситы и одесситки» (1895), «Тарас Бульба. Повесть из казачьей жизни
запорожцев» (1900), «В Земле обетованной (Палестина)» (1900), «Му-Сян. Китайский
роман" (1901), «Легенды и сказки Востока» (1902), «Восток и война» (1905), «Сказки и
легенды» (1923) и др
15 Для анализа использовалось издание: Дорошевич В.М. Каторга. В 3 т. М.: 2001 (т. 1
— «Укрощенный хам», т. 2 — «Добрый человек», т. 3 — «Сахалинское Монте-Карло»).
Ссылки на цитаты из данного издания приводятся в круглых скобках в тексте; первая цифра
означает номер тома, вторая, даваемая через запятую, номер страницы.
*
Веселовского, А.А. Потебни, А. Белого и др.), а затем в 1920-е годы (труды русской «формальной школы», П.Н. Сакулина, молодого А.Ф. Лосева и др.). Тем самым для наблюдений над поэтикой художественно-документальных произведений о каторге имеется прочная и основательная теоретико-методологическая база. В то же время жанровое своеобразие этих произведений заставляет предполагать, что обычные литературоведческие подходы, рассчитанные на художественную прозу как таковую (с придуманным писателем сюжетом, вымышленными героями и т.п.), могут в данном случае оказаться не вполне и не везде достаточными. В диссертации специально ставится и разрешается вопрос, какими конкретно новыми подходами можно дополнить филологический анализ, когда приходится иметь дело с документальным в основе материалом.
Ввиду своей слабой изученности произведение Дорошевича рассматривается в диссертации наиболее подробно. С другой стороны, именно в трилогии Дорошевича с удобной для филологии точностью представлены как принципы изображения названного «каторжного мира» в рамках интересующей нас художественно-документальной традиции, так и продемонстрированы новые для того времени характерные жанровые черты литературно-художественной документалистики, определившие некоторые пути развития данного жанрового пласта русской литературы в XX веке. Весьма своеобразно решаются в рамках вышеназванной традиции и, в частности, у Дорошевича проблемы психологизма при построении авторами образов героев.
Подчеркнем, что анализ «Записок из Мертвого дома» и «Острова Сахалин» представляет собой самостоятельный аспект в нашем исследовании, но в ряде случаев эти произведения анализируются непосредственно в порядке сравнения с трилогией «Каторга». Для
сопоставления с произведением В.М. Дорошевича в работе по мере необходимости привлекается (помимо названных книг Достоевского и Чехова) отличающийся богатством использованного архивного и исторического материала роман B.C. Пикуля «Каторга», посвященный жизни Сахалина в годы, непосредственно следующие за поездками на остров Чехова и Дорошевича.
Словом, нас интересует трилогия журналиста и писателя Власа Дорошевича «Каторга» в контексте той эпохи, когда эта книга писалась, и с теми художественно-исследовательскими приоритетами, которые важны были для современников (например, выявление общих и формируемых непосредственно содержанием книги смыслов, вкладываемых в слово «каторга», семантика которого реализуется не только в самых общих описаниях, но и в создаваемых Дорошевичем портретах арестантов, сюжетах, жанровых бытовых сценах и т.п.). Типологическое и историческое сравнение книги Дорошевича о Сахалине с другими произведениями о мире сахалинской каторги позволяет в компактной форме выявить и то, что составляет «лица необщее выраженье» В.М. Дорошевича как писателя и автора данной конкретной книги.
Новизна работы вытекает из вышеизложенного и обусловлена тем, что под избранным углом зрения произведения Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова и творчество писателя и журналиста Власа Михайловича Дорошевича не рассматривались.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты ее могут быть использованы в курсе преподавания истории русской литературы, а также при изучении ряда лсурналистских дисциплин, касающихся жанра очерка, фельетона, проблем журналистской этики и др.
Объем работы. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения,
Библиографии. Общий объем работы 160 страниц.
Литературоведческий «психологизм» и психологический анализ
А.П. Чехов написал по итогам своей поездки на остров такую книгу, как «Остров Сахалин», посвященную описанию быта сахалинской каторги и имеющую некоторые черты научного исследования. Это произведение могло показаться неожиданным для ценителей исполненного иронии чеховского художественного стиля. Однако нельзя не признать, что и сама поездка и данное произведение великого писателя были очень и очень «в духе времени». Чеховское произведение «Остров Сахалин» имеет бросающиеся в глаза черты научного исследования.
В современной Чехову прозе выступила плеяда русских натуралистов (П.Д. Боборыкин, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Гиляровский и др.). Натуралисты подчеркивали, что, оставаясь в пределах литературы, стремятся к документальной и даже научной точности повествования. Они делали в своих произведениях «срезы» живой подлинной реальности, фиксируя и различные факты жизни современной России, и описывая реальных людей.
А в литературоведении конца XIX века даже появилась концепция академика Д.Н. Овсянико-Куликовского, главы психологического направления в литературоведении, отождествлявшая художника слова с «экспериментатором», а литературы и искусства — с рационалистическим познанием.
При обобщении отображаемых в произведениях жизненных фактов русскими натуралистами 1870 — 90-х годов активно и с большой охотой использовались данные современной им науки — в частности, данные социологии, статистики, политэкономии. Натуралисты даже прибегали ко введению таблиц статистических или социологических показателей прямо и непосредственно в текст своих произведений. Они иногда использовали и приемы своеобразного «монтажа» — например, в произведении по ходу изложения обсуждалось подлинное меню известного столичного ресторана с блюдами и ценами.
Короче, в практике натурализма происходило усиленное развитие документалъно-худоэюественных и научно-худооїсественньїх жанровых форм, что соответствовало специфическому складу личного таланта авторов-натуралистов.
Творческие результаты всего этого оказались довольно неоднозначными. Однако, несомненно, искания натуралистов вызывали немалый интерес у их современников-реалистов и влияли на творчество последних. Присутствие в произведениях натуралистов широкого круга реальных фактов, богатство представленной тут жизненной эмпирики — их особенность, которая до сих пор вызывает к ним большой интерес. В произведениях натуралистов сохранена «сырая» бытовая реальность описываемого времени, ныне интересная уже как реальность историческая.
В этой связи напомним, что произведения натуралистов обычно качественно отличны от обычных романов и повестей со свойственными чисто художественным произведениям свободными поворотами фантазии и с объединением путем субъективного авторского усилия жизненных фактов в придуманный писателем сюжет. Реальная жизнь, напротив, как правило, бессюжетна.
Понятно, что А.П. Чехов как писатель был куда более крупной личностыо, чем любой из натуралистов. Однако их опыт был ему отнюдь не безразличен, а, например, с Гиляровским (автором знаменитых по сей день очерков о жизни московского уголовного «дна»), которого Чехов высоко ценил, его связывала близкая дружба.
С самого начала «Острова Сахалина» Чехов насыщает повествование разнообразными точными документальными подробностями. Причем заметно, что художественно сильные, но эмоционально окрашенные черновые варианты систематически изымаются им из окончательного текста. Примером послужить судьба следующего фрагмента, относящегося к эпизоду сближения чеховского парахода с берагами Сахалина:
«Эти берега — [из которых один прекрасен и величестве н , и у меня такое чувство, как будто я уже вышел из пределов земли... ... представлялись мне в воображении сказочными. [Татарский берег красив, [смотрит ясно и] выглядит нелюдимо и торжественно и [мне кажется] внушает, что я [плыву в каком-то ином море] [живу уже в каком-то ином мире] плыву в каком-то ином, [спокойном] новом и свободном мире, быть может, на другой планете. В будущем здесь, на этом берегу, будут жить [счастливые люди и — кто знает?] [лучше и счастливее, чем мы] в самом деле [спок ойно наслаждаясь] наслаждаться свободой и покоем. Кто знает?
[Мы уже осквернили эти берега и эти воды насилием; тут [не раз проходили] провозили арестантов, звенели кандалы, [издавала смрад] шел смрад от солонины, из трюмов, и, когда долго смотришь на него с палубы, внушает [такое] [особенное] такое чувство, как будто я [уже навсегда живу где-то на другой планете] вступаю в какой-то новый, спокойный и свободный мир.] Но эти берега уже не безгрешны и не девственны; мы уже осквернили их насилием» (388)16.
По цитированному фрагменту видно, что автор немало сил потратил, добиваясь его максимальной художественной выразительности и точности. Но затем Чехов просто удалил его из белового текста произведения. Такой же художественно полноценной прозой является еще целый ряд фрагментов «Острова Сахалина», не включенных писателем в окончательный текст.
А вот как описывается в произведении сам момент прибытия к острову: «Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них — горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. Вправо темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа — «Три брата». И всё в дыму, как в аду».
О точках соприкосновения литературоведения и психологической науки
Здесь нельзя не вернуться к тому вкратце упомянутому в предыдущем параграфе факту, что А.П. Чехов и В.М. Дорошевич были современниками не только психолога 3. Фрейда, но и представителей «психологического направления» в русском академическом литературоведении (академик Д.Н. Овсянико-Куликовский, А. Горнфельд, Б. Лезин и др.). Нет ли возможности рассчитывать при анализе внутреннего мира людей, населявших посещенную обоими авторами сахалинскую каторгу, на научный инструментарий данного специфического направления в филологии?
Л.С. Выготский в своей «Психологии искусства» неоднократно (и в целом справедливо) критиковал психологическое направление (и лично Овсянико-Куликовского). В первую очередь критике подвергалась непоследовательность и поверхностность их психологизма вообще. Далее, Выготский обратил внимание на некоторую однобокость понимания «психологическим направлением» в литературоведении самого искусства: «Таким образом, совершенно ясно, что мы имеем дело здесь с чисто интеллектуальной теорией. Искусство требует только работы ума, работы мысли, все остальное есть случайное и побочное явление в психологии искусства. «Искусство есть известная работа мысли» (80, с. 63), -формулирует Овсянико-Куликовский. То же обстоятельство, что искусство сопровождается известным и очень важным волнением, как в процессе творчества, так и в процессе восприятия, объясняется этими авторами как явление случайное и не заложенное в самом процессе. Оно возникает как награда за труд, потому что образ, необходимый для понимания известной идеи, сказуемое к этой идее «дано мне заранее художником, оно было даровое» (8, с. 36). И вот это даровое ощущение относительной легкости, паразитического удовольствия от бесплатного использования чужого труда и есть источник художественного наслаждения. Грубо говоря, Шекспир потрудился за нас, отыскивая к идее ревности соответствующий ей образ Отелло. Все наслаждение, которое мы испытываем, читая Отелло, без остатка сводится к приятному пользованию чужим трудом и к даровому употреблению чужого творческого труда»23.
Затем Л.С. Выготский обращается ко взглядам другого представителя «психологического направления» А. Горнфельда, который «указывает на то, что при таком понимании психологии искусства стирается грань между процессом научного и художественного познания, что в этом отношении "великие научные истины сходны с художественными образами"»24. Особенно резок Выготский в отношении поэта В. Брюсова, разделявшего основные положения этой концепции и пытавшегося дополнять их собственными суждениями:
«Так, Валерий Брюсов, принимая эту точку зрения, утверждал, что всякое художественное произведение приводит особенным методом к тем же самым познавательным результатам, к которым приводит и ход научного доказательства. Например, то, что переживаем мы, читая пушкинское стихотворение «Пророк», молено доказать и методами науки. «Пушкин доказывает ту же мысль методами поэзии, то есть, синтезируя представления. Так как вывод ложен, то должны быть ошибки и в доказательствах. И действительно: мы не можем принять образ серафима, не можем примириться с заменой сердца углем и т. д. При всех высоких художественных достоинствах стихотворения Пушкина... оно может быть нами воспринимаемо только при условии, если мы станем на точку зрения поэта. „Пророк" Пушкина уже только исторический факт, подобно, например, учению о неделимости атома» (22, с. 19-20). Здесь интеллектуальная теория доведена до абсурда, и потому ее психологические несуразности особенно очевидны. Выходит так, что если художественное произведение идет вразрез с научной истиной, оно сохраняет для нас такое же значение, как и учение о неделимости атома, то есть оставленная и неверная научная теория. Но в таком случае 0,99 в мировом искусстве оказалось бы выброшенным за борт и принадлежащим только истории» .
Можно взять на себя смелость утверждать и иное: то, что в работах литературоведов «психологического направления» в литературоведении порой размывалась еще одна грань — между реальной жизнью и представленными в ней людьми, с одной стороны, и героями художественной литературы, с другой. Стремясь говорить о реальной жизни и ее деятелях, эти литературоведы незаметным для себя образом не раз «съезжали» на литературу.
Подтверждением сказанному может служить, во всяком случае, последний широкомасштабный труд Д.Н. Овсянико-Куликовского «История русской интеллигенции». Реальные деятели интеллигенции XIX в. присутствуют здесь в одном ряду с литературными героями «Горя от ума», «Евгения Онегина», «Героя Нашего Времени» и т.д., причем явное преобладающее внимание уделяется именно литературным героям26. Среди причин этого, на наш взгляд, немалое значение имеет то, что литературные герои («анатомические препараты из воска») были как объекты анализа не просто «привычнее» литературоведу Овсянико-Куликовскому. Дело в том, что в их внутренний мир (в отличие от внутреннего мира Грибоедова.
Литературные аллюзии
При чтении книги В.М. Дорошевича постепенно становится все более ясно, что он регулярно прибегает при изображении своих встреч с различными узниками Сахалина к приемам литературно-художественного изображения. Сказанное можно отнести и к Золоторучке, и к Пищиковым, и к Бестужеву. Иногда можно ощутить, что тот или иной реальный человек по-писательски «подается» им так, что можно угадать конкретный литературный образ, на который он проецируется.
В этом смысле очень характерен очерк «Интеллигент». Прежде чем давать ему какие-либо оценки, полезно привести некоторые его фрагменты, сразу позволяющие ощутить литературную традицию, которая явно использована здесь автором. Вот сцена знакомства автора с героем: «— Позвольте-с! Позвольте-с! Господин, позвольте-с, — догнал меня в Дербинском пьяный человек, оборванный, грязный до невероятия, с синяком под глазом, разбитой и опухшей губой. Шагов на пять от него разило перегаром. Он заградил мне дорогу. — Господин писатель, позвольте-с (прямая речь тут инсценирована Дорошевичем, и показательно, что он приписывает собеседнику наименование себя «писателем», а не «литератором» или «журналистом». — A.M.). Потому как вы теперь материалов ищете и биографии ссыльнокаторжных пишете, — так ведь мою биографию, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственные обязательства, дозвольте вас спросить, признаете? Очень приятно! Но раз вы признаете нравственные обязательства, вы обязаны меня удостоить беседой и все прочее. Ведь это человеческий документ, так сказать, перед вами. Землемер. Мы ведь тоже что-нибудь понимаем. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, может быть, когда вы клопом были, в народ ходил-с. И вдруг ссыльнокаторжный! Позвольте, каким манером? И всякий меня выпороть может. Справедливо-с? — Да вы за что же сюда-то попали? — Вот в этом-то и дело. Это вы и должны прочувствовать! «Не убий», — говорят. А что я должен делать, если я свою жену, любимую, любимую, — он заколотил себя кулаком в грудь, и из глаз его полились пьяные слезы, — любимую, понимаете ли, жену с любовником на месте самого преступления застал. По французскому закону, — «туэ-ля!» — и кончено дело. Позвольте-с, это на театре представляют, великий сердцевед Шекспир и Отелло, венецианский мавр, и вся публика рукоплещет, — а меня в каторгу. В каторгу? Где же справедливость, я вас спрашиваю?» (3, 148)
В.М. Дорошевичу здесь, как и во многих других местах книги, невозможно отказать в мастерстве изображения прямой речи персонажей. Например, здесь воспроизведены даже оговорки, индивидуальные обороты и иные нарушения речевой стройности, которые нередко бывают при устном общении, но трудноуловимы («так ведь мою биографию, плакать надо, ежели слушать», «вы обязаны меня удостоить беседой и все прочее»), а также французские выражения, даваемые в такой передаче по-русски, какая позволяет догадаться о плохом произношении «интеллигента» («Парлэ ву франсэ? Вуй?»).
Здесь напрашиваются ассоциации с некоторыми героями Ф.М. Достоевского и, прежде всего, с чиновником Мармеладовым из «Преступления и наказания» (далее ощутимы и некоторые параллели с героем «Записок из подполья»). Впрочем, это скорее шарж на Мармеладова. Ср. далее: «В каторгу? Где же справедливость, я вас спрашиваю? И вдруг меня сейчас на кобылу: зачем фальшивые ассигнации делаешь? — Позвольте, да вас за что же сюда сослали: за убийство жены или за фальшивые ассигнации? — В этом-то все и дело. Жена — сначала, а ассигнации потом. Ассигнация, это уж с отчаяния. Позвольте-с! Как же мне ассигнации не делать? А позвольте вас спросить, с чего я водку буду пить, без ассигнаций ежели? Должен я водку пить при такой биографии или нет? Я должен водку беспременно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Хочу веревку за гвоздь, а рука срывается. — Да зачем же вам веревку за гвоздь? — Удавиться. Я должен удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себе «подлец» — и должен сейчас водку пить. Потому я в белой горячке должен быть» (3, 148-149)
Интеллигент даже бравирует тем, что «лишен всех прав состояния»: «А вы образования меня лишить можете? Духа моего интеллигентного лишить можете? Разве он меня порет? Всех порет, кто во мне заключается. С Боклем и со Спенсером, и с Шекспиром на кобылу ложусь, и с Боклем и со Спенсером, и с Шекспиром меня смотритель порет! С Боклем!» (3, 150).
Здесь типичный для каторжников-интеллигентов духовный кризис, о котором говорилось в первой главе, проявляется вовне в откровенном и притом театральном шутовстве его носителя.
Вскоре создается впечатление, что Дорошевич хотел довести параллель с Достоевским до самых недогадливых: дальше «интеллигент» прямо заявляет
«Вы понимаете белую горячку? ... Как интеллигентный человек! Потому сейчас самоанализ и все прочее. У меня самоанализ, а меня на кобылу. Может мне смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизация, и что такое Англия? Я «Историю цивилизации Англии» читал, а меня на кобылу. Я Достоевским хотел быть1. Достоевским! Я в каторге свою миссию видел. Да-с! Я записки хотел писать (курсив мой. A.M.). И все разорвано.
А почему разорвано? От смирения духом» (3, 149)
Здесь прямо намекается на «Записки из Мертвого дома», но одновременно шаржируется уже не какой-либо герой Достоевского — шаржируются и даже, пожалуй, пародируются стереотипы критических суждений о его творчестве («в каторге свою миссию видел», «записки хотел писать»).
Достоевский (как и другие великие писатели) еще неоднократно вспоминается в разговорах автора с жителями Сахалина. Например, в главе «Беседы с бродягой Сокольским», арестантом, играющим в самодеятельном тюремном театре, рассказывается:
«Я продиктовал Сокольскому «Записки сумасшедшего», которые знал наизусть. Записывая их, Сокольский от души хохотал над бессмертными выражениями Поприщина.
Русские очерковые традиции и произведения о каторге
Очерк имеет большое число разновидностей. Однако жанр очерка неизбежно предполагает в качестве всеобщей черты и всеобщего признака документальность повествовательной основы произведения. Документальность, отображение подлинных жизненных фактов необходимо присутствует как в очерке журналиста-газетчика, так и в очерке профессионального писателя, ни по объему, ни по своей литературно- художественной адресованности прямо не предназначенном для публикации в газете. Газетный очерк имеет немало наглядных отличий от «писательского» очерка45. Как пишет один из его иследователей, «Многоликость, неоднородность жанра предполагает и сложную, многотипную композиционно-стилистическую структуру, очертания которой выражены не так резко, как у других газетных жанров (заметки, интервью, статьи, обзоры), с более жестким режимом языка, композиции, ритма. Вот почему ошибочно стремление подходить к богатой многовидовой практике очерка однолинейно, схематически»46. Дорошевич заслуженно считался мастером газетного очерка — в частности, газетного фельетона. Он был авторитетным журналистом, отличавшимся высоким профессионализмом в отборе и подаче фактов. Однако в «Каторге», как составившейся на основе газетных репортажей автора целостной книге, читатель имеет дело с более сложным явлением. Перед нами единое произведение, подобно мозаике, составленное из автономных компактных элементов, относительно самостоятельных и, как правило, допускающих публикацию в отдельности от остального в качестве газетных очерков, иногда фельетонов (например, раздел об издателе Бестужеве) поскольку эти элементы были остры и злободневны по содержанию, и притом сочетали в себе черты характерные для газеты материалы — исследовательские элементы, элементы «жизнеописаний героев», «портретные», «проблемные», «путевые» и т.п.
Это произведение, книга в ее целом, представляет собой новое качество сравнительно со своими компонентами, взятыми в отдельности, и уже явно выламывается за рамки журналистики как таковой — будучи полноценным литературным произведением. Ставя вопрос о его жанре, помимо «Записок из Мертвого дома» закономерно приходится вспомнить практику двух русских писательских школ XIX века — «натуральную школу» 1840-х годов (в которой начинал свою литературную деятельность Ф.М. Достоевский) и творчество так называемых «шестидесятников».
Очерки писались в России со времен Н.М. Карамзина, да и ранее. Однако это были «очерки нравов». Нравоописание не предполагало непременной социальной критики, обличительного тона и пафоса. А жанр «физиологического очерка» («физиологии») подразумевал у деятелей школы анализ «организма» российского общества, которому они стремились придать точный, объективный, даже научный характер. Средствами литературы предполагалось давать даже некую аналогию естественнонаучного анализа, поскольку социальный «организм» якобы обладает основными чертами биологического организма. Поэтому отрицались художественный вымысел и творческая фантазия как «обман читателя» — авторы «натуральной школы» старались передавать лишь подлинные жизненные факты. С другой стороны, анализ общественного «организма» у сторонников Белинского почти неизменно перетекал в критику российского общества — государственного устройства страны и самодержавной царской власти. Они стремились слыть «острыми писателями», оперативно отображать злобу дня. Такие одновременные тяготения, с одной стороны, к науке, а с другой, к журналистике, к фельетону характерны для «физиологических очерков» русской «натуральной школы».
Сосредоточиваясь на внешнем по отношению к человеку — на социальных условиях его жизни, на его вхождении в различные профессиональные и т.п. сообщества, авторы натуральной школы гораздо менее и реже углублялись во внутренний мир своих героев.
Так, в опубликованном в первом выпуске «Физиологии Петербурга» очерке Д.В. Григоровича «Петербургские шарманщики» детально обрисовывался быт представителей этой профессии — причем автор углублялся в различия жизненного уклада живших в русской столице шарманщиков русских, немецких и итальянских, выявлял и социальное расслоение в казалось бы однородной профессиональной среде (шарманщики «мещане» и шарманщики «аристократы»).
Большое значение придавалось в данном очерке Григоровича и различным предметам, наглядно представимым деталям окружающего человека быта. Когда шарманщик играет на улице, «левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к одной из сторон органа», от чего «вырываются из инструмента, оглашая улицу», «звуки то заунывные, то веселые». Но взгляд шарманщика «внимательно устремлен на окна домов», «он прислушивается к малейшему крику, зову» и как только замечает внимание окружающих, «начинает играть лучшую пьесу своего репертуара». Шарманщик все время контролирует качество звучания своей музыки:
«Каждый раз, как которая-нибудь из труб, позабыв уважение к человеческим ушам, заверещит неестественно и нескладно,— посмотрите, как старательно завертит он рукою, думая тем загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в слухе вашем неприятного ощущения». Иногда, как пишет Григорович, «Форточка отворяется, пятак или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за труды».
Ф.М. Достоевский предлагал автору очерка, по его воспоминаниям, для большего впечатления конкретности и живости происходящего даже написать, что пятак падает, «звеня и подпрыгивая». Очеркисты из «натуральной школы» стремились к передаче подобных деталей и достигали в этом немалых успехов. Тот же Григорович в другом месте своего очерка замечает у шарманщика «худощавое загоревшее лицо», «разодранный картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как смоль, черные волосы», «куртку без цвета и пуговиц», «холстинные брюки, изувеченные сапоги и, наконец, огромный орган, согнувший фигуру эту в три погибели».
Здесь уже проступает тяга авторов «натуральной школы» к социальной критике. Шарманщик одевается так не по прихоти (наподобие прихоти хиппи носить рваные джинсы в конце XX века), а по бедности:
«Какая бы на улице ни стояла погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите в том же костюме, с тою же шарманкою на спине, — и все для того, чтобы получить медный грош, а иногда и «надлежащее распеканье» от дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из департамента и после сытного обеда расположившимся лихо всхрапнуть. Часто шарманка его кормит целое семейство, и тогда можете себе представить, сколько ужасных чувств волнуют горемыку при каждом тщетном покушении растрогать большею частью несострадательную к нему публику. Из всех ремесл, из всех возможных способов, употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое неопределенное есть ремесло шарманщика».