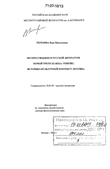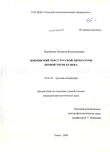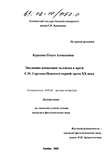Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Кризис антропологических идей в русском сознании рубежа XIX - XX веков 23
ГЛАВА ВТОРАЯ. Две концепции человека в реалистической прозе начала XX века. И. Бунин, М. Горький 51
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Самоорганизующаяся масса и «новый человек» в литературе 1920-х годов
1. Герой-масса: Путь в будущее 145
2. Герой-легенда: Самоосознание народа 188
3. Дегероизация массы: «Человек массы» и «человек особой породы» 214
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Человек в пространстве жизни: А. Платонов, М. Шолохов 238
Заключение 298
Примечания и ссылки 308
Библиография 324
- Кризис антропологических идей в русском сознании рубежа XIX - XX веков
- Две концепции человека в реалистической прозе начала XX века. И. Бунин, М. Горький
- Герой-масса: Путь в будущее
- Человек в пространстве жизни: А. Платонов, М. Шолохов
Введение к работе
Переходные, рубежные эпохи характеризуются стремительным расширением эстетического пространства, которое сопровождается неизбежным ослаблением традиционных культурных связей, рождением множественных, нередко взаимоисключающих точек зрения, формированием нового понятийного ряда. И этот процесс, каким бы уникальным он ни казался тем, кто в него вовлечен своими непосредственными судьбами, типологичен, свойствен всему живому. Его определяет смена культурных парадигм, особенно явственная в период обострения противоречий, когда меняются фундаментальные принципы, определявшие в течение длительного времени ментальные системы, господствующее миропредставление большого числа людей. Культурные модели универсальны по своей природе, а потому механизм их действия может являть себя на разных уровнях и в различных процессах, повторяя типологически значимые этапы. Это непременное распадение старого мира, его ценностей, попытка получения из его обломков возможного нового качества, практическое моделирование нового мира. Оттого в переходные эпохи остро ощущается движение времени, в котором чрезвычайно актуализируется образ будущего. В зависимости от футурологических моделей в общественном сознании формируются способы их реализации - эволюционный и революционный, два антиномичных принципа разрешения жизненных противоречий. Закон эволюции и революционный принцип - эпистемологические понятия, принадлежащие в первую очередь познавательной сфере человеческой деятельности, уже оттуда перенесенные в практику политической жизни. И лишь примат социального и идеологический диктат сузили значение слова «революция» для массового советского сознания сначала до социального (политический переворот в жизни общества), а потом и до конкрет ной даты - 25 октября (7 ноября) 1917 года. Таким образом, сфера революционного была вытеснена в область идеологическую, политизированную, а потому лишенную познавательного содержания. Процесс движения в эту сторону начался уже на рубеже XIX и XX веков, когда понятие революционности обретало отчетливый оценочный смысл. О революции говорили не только представители политических партий, профессиональные революционеры, но и художники, философы, ученые самых разных отраслей знаний, исходя из мысли об исчерпанности прежней системы ценностей, изжитости культурных моделей.
Однако процесс переоценки ценностей был не только массовым, но и глубоко закономерным, выстраданым. Ощутив выработанность прежних идей, начавшийся век пытался им противостоять идеями «антропологического ренессанса» (П. Гуревич), одна из фундаментальных задач которого и осмыслялась как принципиальное противостояние сложившимся стереотипам. Так, Н. Гумилев констатировал, что русские символисты «взялись за тяжелую, но высокую задачу - вывести родную поэзию из вавилонского плена идейности и предвзятости, в которой она томилась почти полвека. Наряду с творчеством они должны были насаждать культуру ... В этом отношении Брюсова можно сравнить с Петром Великим» (Антология акмеизма, 255). Поэтому на рубеже веков возникает эстетический образ «нового мира», который уже в наши дни В.Н. Топоров определил как мифологему русской литературы начала XX века, сохранив за ним эпистемологический смысл (Топоров, 1983, 240). Интересно отметить, что обосновывая жизненность этой мифологемы в литературе начала века, исследователь опирается на тексты символистов (А. Блок, А. Белый, Ф. Сологуб), акмеистов (А. Ахматова, М. Зенкевич, Г. Иванов), акцентируя внимание на эстетических ее аспектах, но ми- нует художников-жизнестроителей, скажем, демократического толка. А между тем труды ориентированных на пролетариат «монистов» свидетельствова-ли о переводе эстетической категории из области архетипических смутных ожиданий в сферу социальной практики и, следовательно, о превращении мифологемы в миф.
Миф «новый мир» в силу логически легко осознаваемой антиномично-сти, в нем заложенной, включает «старый мир» как свое отрицание. Противостояние, которое обнаруживает уже лексический уровень антиномии новый/старый, определяет и два возможных принципа его разрешения, известных в философском знании - революционного и эволюционного, каждый из которых может быть структурирован в соотнесении с тем типом культуры, на которую он опирается.
Культурные модели универсальны по своей природе, а потому механизм их действия проявляет себя на разных уровнях и в различных процессах, повторяя типологически значимые этапы. В эпохи перемен актуализируются тенденции распада старого, стремление к новизне, практическое моделирование нового, креативные моменты. Оттого в переходные моменты особенно остро ощущается восприятие времени и пространства, их традиционная взаимозависимость. В революционные эпохи пересматриваются базовые отношения мира и человека, частного и общего, духовного и телесного, т.е. всего того, что определяло материальное человеческое существование (в том числе и в культуре) в периоды равновесного существования. В этих условиях неизмеримо возрастает значение слова, языка, который, как заметил Вяч. Иванов в 1918 г., «есть соборная среда, совокупно всеми непрестанно творимая и вместе предваряющая и обусловливающая всякое творческое действие в самой колыбели замысла» {Иванов, 1990, 145).
Вяч. Иванов обратил внимание на созидательное начало языка, слова, как и положено во время смуты, сохраняющего свои креативные возможности вопреки житейской очевидности. Его замечание позволяет нам обратиться к иной стороне литературы пореволюционного времени, чем традиционно отмечаемая в нашем литературоведении.
«Новый мир» в поэтических представлениях меняет свою атрибутику [«Новые тучи кровавых знамен - /Там, в отдаленье - проносят» {Белый, 1989, 81); «Пусть на земле образа!/Новых построит их голод» {Хлебников, 112)], географию [«Исполинский очерк новых стран» {Блок, II, 255)], космогонию [«И звезда за звездою/понеслась, / Открывая /Вихрям звездным /Новые бездны {Блок, II, 12)], готовя «неслыханные перемены, /Невиданные мятежи» {Блок, II, 278). Этот изменившийся и меняющийся мир не столько новый, сколько еще не бывший. Его предстоит обживать человеку, формируя новое мировосприятие. Призрак «нового мира», возникающий там и тут у поэтов-символистов и их последователей, несет на себе печать духовных поисков: «.. .Откроешь двери в новый храм,/ Укажешь путь из мрака к свету!.. {Блок, I, 82). Однако ожидание «нового храма» не отменяет апокалипсических ожиданий, скорее усиливает мотив испытания: «Встречая новый строй веков,/ Бросает им загадкой хладной/Живых, безумных мертвецов...» {Блок, I, 79).
Обратим внимание, что в поэзии серебряного века речь идет прежде всего о «новом мире», а не о «новом человеке». Человек в апокалипсических ожиданиях эпохи рубежа остается величиной постоянной, хотя и подвергается испытаниям и деформациям.
Базовой составляющей мифа «новый мир» является мифологема «новый человек». Мифологему мы определяем как социально значимую форму, имеющую типологизированное содержание. Она есть одна из множества формальных и культурных структур, входящих в сферу обслуживания определенного мифа. Миф же К. Леви-Стросс определяет как рассказанную историю, цель которой - дать логическую модель для разрешения определенных противоречий {Леви-Стросс К. Структурная антропология. - М., 1985). Отсюда - множественность обслуживающих его структур. Одна из них - мифологема как некое уже неразложимое единство. Мифологема доступна массовому сознанию, которое наделяет её типологизированным (для массы и бесспорным) смыслом. Однако мифологему легко превратить в идеологему, что значительно сокращает поле ее воздействия на человека, подменяющего в свою очередь идеологему нормативом. Это тупиковый вариант развития (мифологема - идеологема), однако именно он оказался неизбежным в социальном бытовании XX века, поскольку мы имели дело с внешним по отношению к человеку целеполаганием. Сужение смыслов мифологемы ведет к сокращению разрешающей возможности мифа, к деформации его связей с историей (вспомним исходное определение Леви-Стросса). Однако целиком эти связи прерванными быть не могут, ибо история и миф взаимопорождае-мы.
«История лежит в структуре мифа, но вместе с тем она порождается мифом: разворачивание формальных структур на основе структуры мифа и есть история. Хотя миф и убивает историю, сворачивая ее во вневременную структуру и воспроизводя исходный архетип сакрального времени, он сам является источником образования порождаемых им семиотических структур, производимых по отношению к нему, а их разворачивание есть суть истории» {Игамбердиев, 119).
Взаимосвязь вечности и истории особенно остро ощущали художники революционной поры. А. Блок в 1919 году в современности четко различал «два времени, два пространства; одно - историческое, календарное, другое -нечислимое, музыкальное» (Блок, IV, 335).
Миф «новый мир» многосоставен, сложно структурирован и как всякий миф предполагает многочисленные прочтения. Поэтическая по сути формула А. Блока оказывается для этого чрезвычайно плодотворной. Во-первых, она делает смыслообразующим понятие времени: «Нам не нужно никакого творческого равновесия сил для того, чтобы жить в днях, месяцах, годах (т.е. во времени историческом. — Т.Н.); эта ненужность затраты творчества быстро низводит большинство цивилизованных людей на степень обывателей мира. Но нам необходимо равновесие для того, чтобы быть близкими к музыкальной сущности мира - к природе, к стихии» (Блок, IV, 335). И во-вторых, что чрезвычайно важно для понимания смысла тех деформаций и разночтений, с какими придется столкнуться в литературе первой трети XX века, мысль А. Блока делает особенно наглядными условия перехода мифологемы «новый человек» в идеологему и норматив. Напомним, что пребывание во времени историческом не требует от человека никаких усилий, следовательно, все трансформации имеют четко означенный адрес, социально ориентированы и уже по одному этому легко сводимы к единому образцу. Следовательно, «социальная редукция» нового мира не требует перемен в человеческой природе, адресована человеку «типовому», лишенному индивидуальности.
Время «нечислимое», время вечности и мифа, требует возвращения к природе изначальной, человеческой, апеллирует к ее внутренней динамике: «... мировую музыку можно услышать только всем телом и всем духом вместе» (Блок, IV, 335). Прогресс в цивилизационном смысле, какое-либо планирование во времени линейном для Блока невозможны, ибо время «нечислимое» неподвластно историческим преходящим законам, не поддается логиче скому проектированию: «Цивилизация умирает, зарождается новое движение, растущее из той же музыкальной стихии, и это движение отличается уже новыми чертами, оно не похоже на предыдущее» {Блок, IV, 344).
Вероятно, именно потому, что «музыкальное» время не предполагает внешней новизны, мифологема «новый человек» не структурируется теми, кто видел эту задачу актуальной для «многих веков исторического развития» (В. Соловьев). И напротив, она легко прописывается в революционных теориях, требующих преобразования «старого» качества, т.е. скачка, который марксистская философия определяет как «сложное переплетение двух процессов - исчезновение (уничтожение) старого качества и возникновение нового, а так же существенно нового единства качественных и количественных характеристик изменяющегося объекта» (ФЭС, 488). Таким образом, сам процесс возникновения «нового» человека, с этой точки зрения, есть нечто революционное, рождающееся стремительно и динамично, оттого и в литературе первой трети XX века, сосредоточенной вокруг мифологемы «новый человек», революционные термины борьбы и преодоления преобладают над всеми остальными.
Как известно, ведущими принципами литературы русского реализма XIX века были объективность изображения, социальный детерминизм, учи-тельность - обязательная нацеленность выводов на реализацию основных нравственных понятий. «Художественным детерминизмом XIX века владеет пафос объяснения, и причинная связь - основной принцип соотношения элементов в созидаемых им структурах... познание этой связи есть эстетическое познание», - отмечает Л.Я. Гинзбург (Гинзбург, 105).
Если XIX век был озабочен поиском в конечном счете начал объединяющих, то XX век сосредоточивает свое внимание на принципе противоре чия, меняя масштаб изображения. Традиционная для литературы XIX века коллизия описывалась составляющими «человек» и «среда», в литературе первой трети XX века работает связь человек и мир, «новый мир» требует иных масштабов. Мир разрастается до Вселенной, захватывая различные области человеческой деятельности, обнаруживая в них новые связи. Обобщенный масштаб изображения вводит новые интегрирующие единицы в изображении человека: не среду и ее устоявшиеся нормы, но весь мир, в котором могут действовать иные закономерности, не сводимые к конкретике быта. Подчеркнуто разновеликий масштаб изображения открывает не только новые времена и пространства, но и нового человека.
Традиционно советское литературоведение ставило в центр внимания героя, воплощавшего лучшие, с точки зрения общественных потребностей, качества личности. Не случайно «Словарь литературоведческих терминов» (Редакторы-составители Л.И. Тимофеев и СВ. Тураев, М: Просвещение, 1974. Тираж 300 000 экз.), давая определение «положительного героя», акцентирует внимание на воспитательной его функции, «духовный строй и общественное поведение к ото рого являются в той или иной мере примером осуществления в конкретной жизненной обстановке того или иного круга эстетических идеалов» {Словарь, 273).
Позднесоветское время, испытывая явственный дефицит идей, отреагировало на политизированность соцреалистических канонов, употребив словосочетание «эстетические идеалы» на месте столь привычного «политические». Введен в статью и термин «идеальный герой», противостоящий «положительному» по принципу его малой жизненности: «...давая идеального героя в готовом ... его виде, минуя трудный путь его борьбы с самим собой и окружающими за то, чтобы достичь осуществления идеала, (художник. Т.Н.) по сути дела ослабляет его воспитательное значение, лишает его исторической определенности, реальной связи с жизнью» {Словарь, 274). Теоретическая невнятность этого утверждения очевидна, но его ценность в ином: оно свидетельствует о том тупике, в котором оказалось советское литературоведение, долгие годы работавшее с футурологическими схемами, избегавшее погружения в конкретный материал, игнорировавшее художественный текст.
Этот кризис идей и позиций помогает объяснить то, что произошло в первые перестроечные годы, не оперируя лишь политическими мотивами. Безусловно, критика и публицистика конца XX века среагировала на тип «советского писателя», функционера позднесоветской эпохи, прошедшего школу административного управления литературой. Однако кризис был более глубоким и системным. Его основы были заложены даже не в советские годы. Мифология советского времени не может быть объяснена «ближними» причинами. В 1980-1990-е годы произошло стремительное заполнение идейного, философского вакуума, искусственно поддерживавшегося десятилетиями. Общественная и научная мысль пережили стремительное расширение аналитического поля. Научная общественность должна была освоить многие идеи предшественников, в новом контексте переосмыслив даже известное. «Антропологический поворот», пережитый всей мировой философией, выразился «в стремлении обратиться к проблеме человека во всей ее многолико-сти... При этом зачастую представители различных направлений мысли — философы, писатели, ученые - сходятся на признании человека уникальным творением Вселенной, принимая это мнение как аксиому» (Гуревич, 1995, 3).
Однако современное состояние общества, уровень научного знания не позволяют безоговорочно согласится с таким мнением. С одной стороны, этому противится человек рубежа XX-XXI веков, обремененный сведениями об испытаниях, выпавших на долю завершившегося столетия. С другой, и современная наука дает противоречивые результаты: «Перспективы генетической инженерии, совершенствование средств, ведущих к искусственному производству потомства, изобретение препаратов, изменяющих личность, трансплантация органов, в особенности искусственных, - все это, разумеется, разрушает традиционное представление о биологической природе человека. И вместе с тем, как никогда ранее, показывает чрезвычайную сложность человека, его уникальность как явления природы, хрупкость и т.д.» (Гуревич, 1993, в).
В этой формулировке природы человека, противоречивой не только в ее связях с миром, кроется, на наш взгляд, истинная причина гуманитарного кризиса, который пережил XX век в целом. Общественное сознание колебалось от «обольщения» человеком и его возможностями, его «марсианской жаждой творить» (Н. Тихонов) до уверенности в несовершенствах самой природы человеческой. И на рубеже XX и XXI веков опять понадобился разговор о человеке, увиденном в разных литературных контекстах, (см.: М.С. Кургинян. Человек в литературе XX века. - М., 1989; Л.А. Колобаева. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. - М., 1990; Н.В. Драгомирецкая. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. - М., 1991; Е.А. Подшивалова. Человек, явленный в слове. - Ижевск, 2002 и др.). При несомненной разнице подходов, своеобразии решений обращение к человеку в литературе отмечено поиском индивидуального. Л.А. Колобаева постулирует эту мысль в качестве исходной: «XX века, век массовых движений, показавший всю мощь и значимость человеческих "множеств", вместе с тем не ожиданно резко усилил возможную влиятельность одного, отдельного человека» (Колобаева, 3).
Соотношение части и целого, осмысленное подобным образом, актуализирует личностный аспект проблемы выбора, позволяя выйти за привычные для отечественной литературы рамки противостояния человека государственной системе. Это первый, достаточно важный срез проблемы, позволяющий посмотреть на связи человека и общества как на проницаемые. Зависимость человека от общества осмысляется в этом контексте как одна из форм несвободы. «Сегодня гораздо громче, чем вчера, требуют конформизма, — свидетельствовал в середине XX столетия английский политолог, публицист И. Берлин, не принимавший любые формы гнета на человека, - преданность режиму испытывают куда придирчивее; скептики, либералы, люди, склонные к частной жизни и следованию собственным нормам поведения, если они из осторожности не примкнут к какому-нибудь организованному движению, становятся предметом страха, осмеяния, преследования со всех сторон. .. . В сегодняшнем мире человеку легче простят глупость и злобу, чем отсутствие политического, экономического или интеллектуального статуса» (Берлин, 130).
По сути дела И. Берлин описывает ситуацию превращения человека частного в политического. Феномен господства массового Ортега-и-Гассет, его современник, определил как «восстание масс» - «полный захват массами общественной власти», имея в виду, как И. Берлин, не государственную власть, но прежде того «интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный диктат», определяющий «правила и условности» современного цивилизованного человека (Ортега-и-Гассет, 43). В таком контексте есть соблазн трактовать массовое как одну из форм личностного проявления, когда отдельный человек принимает закон толпы за разрешение проблемы. Не забудем, что в советские годы и теоретиками социалистического реализма выдвигалась мысль о человеке политическом как главном субъекте XX столетия, но оценивалась иначе. Индивидуальное, с их точки зрения, должно было отступить перед общим, трактуемом как веление Истории. Именно эта ситуация была широко использована и истолкована советским литературоведением, так «как соотнесение человека с миром и другими людьми, включение его в орбиту общей ситуации и общих интересов предполагает постановку вопроса о коллективе личностей» {Гей, 213).
Как видим, «массовая» формула легко заменена на «коллективную», иной словесный ряд представляет позицию советского писателя в корне отличающейся от западноевропейской. «Авторская позиция в художественном мире, воссоздаваемом писателем, оказывается проекцией его жизненных позиций в большом мире, проекцией, закрепленной в художественной форме, в стиле произведения» (Гей, 241. Курсив наш. - Т.Н.).
Перед нами случай, сходный с определением «положительного героя»: теоретическая некорректность мысли камуфлируется стилистическим речитативом, суть которого в утверждении господства реальности, лишь «воссоздаваемой писателем». Онтологически и мировоззренчески значимое понятие «художественный мир» редуцируется до «жизненной позиции». В данном случае речь идет о привычном соблюдении «законов игры», принятом в советской литературоведении в те годы, когда его системный кризис, о чем уже шла речь выше, стал совершенно очевидным, тем более, что цитированная нами статья Н.К. Гея «Мир, человек и позиция писателя» - убедительная, профессиональная работа во всем, что не касается итоговых идеологических обобщений и выводов. Мы обратились к ней для того, чтобы показать не
только выработанность принципов советского литературоведения, но и то обстоятельство, что даже в условиях идеологического диктата происходили существенные и сущностные подвижки, побуждавшие к решению проблем, встающих перед наукой и искусством. Сегодня это блок проблем, разрабатывающих дискурсивные отношения автор - герой (произведение) - читатель. Совершенно не случайно исследования на эту тему появились в первые перестроечные годы.
Современная наука по разному подходит к их рассмотрению. Это проблема автора и ее современная оценка, рассмотренная в полемике/диалоге с М.М. Бахтиным (см.: Н.Т. Рымарь, В.П. Скобелев. Теория автора и проблема художественной деятельности. — Воронеж, 1994), «авторское поведение» (см.: А.А. Фаустов. Авторское поведение Пушкина. - Воронеж, 2000), «авторское сомнение» как форма реакции художника на массовые решения времени (См.: Н.В. Корниенко. Основной текст Платонова 30-х годов и авторское сомнение в тексте (От «Котлована» к «Счастливой Москве») // Современная текстология: теория и практика. - М., 1997) и др.
При очевидном несовпадении подходов эти исследования позволяют обнаружить важное направление современной научной мысли, суть которой в утверждении тотальной природы эстетического. Автор осмысляется «не только как сознание, но и деятельность, а произведение — как событие этой деятельности, в которой участвует не только личная воля автора ... Важнейшей составляющей этой творческой воли являются ценностные ориентации и представления, принадлежащие системе культуры и художественного языка» {Рымарь, Скобелев, 145-146).
Третий важный слой литературоведческих исследований, преодолевающий системный кризис науки, связан с изучением художественных языков переходной эпохи. Начало таких разработок опять-таки в 1970-х годах, в зарождавшемся интересе к культуре переходных эпох, к типологии их развития. Это работы Д.С. Лихачева не только о древнерусской литературе, но и прямые выходы к новым временам (см.: Лихачев Д.С. Пути к новой русской литературе // В.Д. Лихачева, Д.С. Лихачев. Художественное наследие древней Руси и современность. - Л., 1971), исследования Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, всей тартуской школы, много сделавшей для возвращения в научные разработки искусства серебряного века как эстетического феномена. И что очень важно, при этом складывался теоретический аппарат, расширялись исследовательские возможности литературоведения за счет привлечения смежных областей. Так, Ю.М. Лотман, говоря о литературной и общественной ситуации конца XVIII века, отметит: «Унижение русской церкви петровской государственностью косвенно способствовало росту культурной ценности поэтического искусства. При этом на поэзию переносились традиционные религиозные представления. .. . в России переложения псалмов хотя и восходит своими корнями к XVII веку (С. Полоцкий), именно в XVIII веке становится жанром, вытесняющим гражданскую оду и формирующим в своих недрах гражданскую поэзию» {Лотман, 1994, 367-368).
Как видим, побудительный мотив («унижение русской церкви») и эстетический результат («гражданская» ода) далеко отстоят друг от друга лишь при разделении различных сторон человеческой деятельности непроходимой стеной. В переходные эпохи реальная жизнь и области культуры легко обнаруживают сходные механизмы. Например, С.Г. Бочаров, предваряя публикацию книги К. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н. Толстого. Критический этюд», заметит, что К. Леонтьев, рано почувствовавший «крушение основ», «разбегание материи», стремился найти этому противо действие в общих законах бытия. По наблюдениям С.Г. Бочарова, он «универсально относился как к биологическим, историческим, политическим и культурным организмам, так и к художественной форме в искусстве» {Бочаров, 1988, 196-197).
Нас интересует раннесоветская литература, находящаяся на разломе времен, идеологий, культурных парадигм. В свете обозначенных нами литературоведческих тенденций мы рассматриваем русскую литературу первой трети XX века как переходный процесс, в котором начинали работать одни тенденции и механизмы развития, отодвигая, трансформируя другие. Литература впадала в эстетическое беспамятство, она меняла свой внешний облик, выдвигая на поверхность то, что представлялось важным и значительным, храня в своих донных основаниях разные решения. Поэтому рубеж веков обозначается не только сменой исторических дат. Его характерологические черты определяют те процессы, которые не только лежат на поверхности, но и происходят в сознании человека, общества, культуры. Определения современников представляют безусловную ценность, но не могут характеризовать всей картины в целом. Помимо естественной причины («Лицом к лицу лица не увидать») на них оказывают влияние симпатии, антипатии, привходящие факторы. Вот почему современники в состоянии описать процесс, но не могут написать историю литературы. Они строятся на разных основаниях, и у них разные приоритеты.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ определена необходимостью формирования современных представлений о литературном процессе XX века, начиная с его истоков, потребностью нового, более адекватного освоения эстетических, общественных, социально-психологических, культурологических идей и принципов, какие легли в основу отечественной литературы советского периода.
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основу работы составили произведения, включенные в живой литературный процесс, отразившие смену этических и эстетических представлений на переходе от XIX к XX веку. Они выполнили роль аккумуляторов наиболее популярных идей и мотивов, зафиксировали различные варианты общественной реакции на то или иное жизненное явление, поэтому, несмотря на хорошо осознаваемые различия, мы считаем возможным рассмотрение в одном ряду произведений И. Бунина и М. Горького, Б. Пильняка и В. Маяковского, А. Платонова и М. Шолохова. Художественный текст есть закономерное порождение времени, совмещающее разные его тенденции. В связи с этим для нас оказываются важными дискурсивные отношения как внутри художественного произведения, так и между эпохой, писателем и читателем.
НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в трактовке литературы революционного времени как естественного эволюционного процесса, в котором традиционная смена «старого» «новым» лишь в контексте общественных ожиданий обретала оценочный смысл. Для одних это была литература уходящего времени, конца эпохи, для других — начало «нового мира», с наступлением которого разрешались прежде непримиримые противоречия.
Говоря о «новом мире» как формуле будущего, мы отмечаем ее неизбежную интуитивность, несмотря на научные формы, придаваемые ей теоретиками. Как в любой утопии, в «новом мире» «интуиция, темная телесно-душевная нащупь» (М. Бахтин), идущая от природы мифа, от ожидания «земного рая», причудливо переплеталась с реальной историей, с ее социалистическими лозунгами. В силу исходной двойственности миф о «новом мире» возник на пересечении «самого крайнего материализма и вместе с тем самых крайних идеальных порывов духа», «многозначительную» борьбу которых фиксировал в конце XIX столетия Д. Мережковский. Антиномичность общественных ожиданий определила и трактовку гипотетического «нового человека», который не мог быть трактован литературой ни как традиционный герой, индивидуальный характер, ни как социальный тип. Для художествен ного сознания начала XX века он стал формой, готовой вместить сколь угодно идеализированное содержание.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ определена сформулированными выше подходами. В русской литературе первой трети XX века мы рассматриваем смену представлений о мире и человеке, поиск новых художественных решений. Формула «новый человек» используется нами для обозначения футуро-логических устремлений литературы. Смыслопорождающая модель «нового мира» объединила то, что всегда существовало поляризованным - «книжное» сознание интеллигенции и «стихийную» массовую жизнь. Временем, когда иллюзия реализации самых смелых общественных и эстетических проектов была наиболее полной, стали первые послереволюционные годы. Они же были временем прощания с наиболее масштабными общественными заблуждениями. Поэтому взгляд из 1920-х годов на время предреволюционных ожиданий и на годы послереволюционных разочарований позволяет увидеть смену представлений о «новом мире» и «новом человеке» в динамике.
Именно в эти годы мифологизированные трактовки народа утратили силу, заставив обратиться к массовым формулам. «Закон масс», исповедуемый литературой пореволюционных лет, нес в себе основу противоречивых оценок и добровольных фальсификаций. С одной стороны, он утверждал мысль о самоорганизующемся единстве, с другой - неосознанные цели движения нередко вели к деструкции, разрушающей и массу, и «нового человека». «Новый человек» должен был перестраивать мир по законам революционной логики, подчиняя личное общему. Массовое же сознание видело в «новом мире» реализацию своих утопических ожиданий «рая на земле», где для всех есть «молоко, мясо и мед» (А. Малышкин). Архетип «земного рая», «эдемского сада» не подлежал соотнесению с реальностью, не предполагал никаких личностных усилий, да и «нового человека» тоже. Поэтому мифологема «новый человек» открывала перспективы лишь для «книжного» сознания, никак в этом отношении не корреспондировавшего с массовым. Футурологи-ческие устремления, объединявшие русское общество перед революцией, в своей глубине были едва ли не взаимоисключающими: «книжное» решение предполагало отказ от личного, массовое сознание тяготело к их расподоблению. Примирение столь разнородных интенций было невозможным, а потому в литературу первой трети XX века властно вошли идеология и политика, на десятилетия определив ее развитие.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ определены теми задачами, которые мы перед собой ставили. Художественный текст мы рассматриваем в свете философской концепции диалога М.М. Бахтина, высказанной еще в 1920-е годы и лежащей в основе современного понимания литературного процесса как саморазвивающегося единства. Это определило системный подход к тексту, сочетающий типологические, историко-литературные, культурологические методы анализа. В истолковании отдельного художественного явления нами использованы современные интерпретационные стратегии, сложившиеся при рассмотрении дискурсивных взаимоотношений произведения, автора и читателя.
Общефилологическая основа исследования традиционна. Это труды по общей поэтике (М.М. Бахтин, Ю.Н. Тынянов, В.М. Жирмунский, Б.М. Эйхенбаум, Б.О. Корман и др.)? исследования по жанрово-стилевому многообразию русской литературы XX века (Г.А. Белая, Л.А. Долгополов, Н.В. Корниенко, Н.А. Грознова, В.А. Келдыш, Н.М. Лейдерман, В.П. Скобелев, Н.В. Драгомирецкая, Л.А. Колобаева, Е.А. Подшивалова и мн. др.). Концептуально значимыми для нас стали работы Ю.М. Лотмана, Б.А Успенского, Д.С. Лихачева, A.M. Панченко и др., рассматривающие ситуации смены культурных эпох. Мы учитывали и идущий в современной науке процесс корректировки гуманитарного знания данными естественных наук (см. работы Г.И. Рузавина, Д.М. Панина, А.У. Игамбердиева и др.).
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Содержание диссертации изложено в монографии, ряде статей, опубликованных в научной печати, общим объемом свыше 35 п.л., неоднократно представлялось на международных, общероссийских межвузовских конференциях в Москве, С.-Петербурге, Париже, Вологде,
Куйбышеве, Воронеже, Орле и др. Ее фрагменты опубликованы в учебном пособии «Русская литература XX века», рекомендованном Министерством образования Российской Федерации для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Филология» (Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999) и успешно используемом в целом ряде вузов страны, отмеченном научной общественностью, зарубежными славистами (см.: W. Ка-sack. Die Welt der Slaven. XLVII, 2002, 385-398).
НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Русскую литературу первой трети XX века мы рассматриваем как целостный этап, суть которого состояла в преодолении кризиса идей народо-центризма, оставшегося в наследство от века XIX. Отказ от идеализации народа и априорных деклараций его нравственно-созидательных возможностей потребовал от литературы нового художественного языка.
2. Однако место мифологизированного народа в литературе начала 1920-х годов заняла не менее мифологизированная «масса» как обозначение жизнеспособного человеческого единства. За модернистскими формами повествования скрывались привычные ментальные механизмы господства общего над личным.
3. Литературный процесс первой трети XX века определяла борьба двух прямо противоположных представлений о человеке. Концепция человека социального строилась на мысли об управляемой, рациональной человеческой природе. Ей оппонировало мнение о противоречивости, непредсказуемости и антиномичности личности. Это было не только противостояние идеологий, но и художественных миров.
4. Представление о «новом человеке» и задача его изображения в литературе начала XX века возникли как возможное развитие тех позиций, в соответствии с которыми человек считался венцом творения. «Новый» человек обретал оценочный смысл и в качестве идеала противостоял не только человеку стихийному, но и самой жизни, ее естественному обновлению.
5. В послереволюционные годы в старой формуле актуализировалось волевое, нормативное начало. «Новый человек» обрел отчетливую функцию лидера, противостоящего массе по праву вождя. Мифологема начала XX века трансформировалась в идеологему, не утратив своей утопической природы. Креативные законы художественного мира пришли в противоречие с нормативной эстетикой, определив крах одного их утопических проектов человечества.
6. Во второй половине 1920-х годов в русской литературе начинается официально не санкционированное возвращение к идеям литературы «антропологического ренессанса», утверждавшим мысль о жизни как о самоорганизующем единстве. Начало этого процесса мы видим и в осмыслении естественно-трагической природы революции, и в постижении динамической противоречивости человека. Регулирующий опыт народной жизни (М. Шолохов), «сокровенный человек» (А. Платонов) стали той опорой, на которой предстояло выживать русской литературе советского времени.
Кризис антропологических идей в русском сознании рубежа XIX - XX веков
Двадцатый век прошел под знаком кризиса гуманистических ценностей. Об этом писали много и так охотно, что деструктивные тенденции легко воспринимаются как внутренне свойственные завершившемуся столетию и словно бы охотно им на себя принятые. А между тем формирование такого взгляда на век двадцатый началось задолго до смены календарных дат. Мысль о необходимости перемен рождалась из глубокого недовольства русской общественности XIX веком, сегодня кажущегося таким завершенным и гармоничным.
«Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано, -утверждал в частном письме В. Соловьев в 1873 году, свидетельствуя о том, что затрагиваемая им общечеловеческая тема носит и личностный характер. - Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства?» (Цит. по: Лосев, 52).
Ответ искали по-разному и в разных направлениях, связывая мысль о необходимости перемен и с идеей растворения личного в общем, и с необходимостью переделки самой природы человеческой. Даже краткий перечень существовавших доктрин потребует специального исследования. Оставив в стороне очень многие явления и различные общественные проекции, мы сосредоточимся на двух, какие, с нашей точки зрения, позволяет обнаружить «обратное зрение», взгляд из 1920-х годов, когда многие предсказания XIX века стали реальностью и русская литература и общественная жизнь вступили в эпоху пореволюционного развития.
Литература советского времени опиралась на те идеи и настроения, какие сложились до 1917 года, но многое ею оказалось невостребованным. Так, не понадобились предупреждения авторов «Вех», многие идеи русского либерализма, религиозные поиски серебряного века. Однако ею была подхвачена и по-своему осмыслена идея цивилизованного распада, угасания старой культуры и связанная с ней потребность в «новом мире». Знаковым явлением такого плана стала книга О. Шпенглера «Закат Европы» (1918), на которую русские философы отозвались сборником статей «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (1922), за год до опубликования русского перевода. И дело здесь не в новизне или особой убедительности идей Шпенглера, но прежде всего в том, что эти уже освоенные русским обществом идеи оказались по-новому востребованными пореволюционной ситуацией, а позже не одно десятилетие занимали европейскую мысль. Манифестация апокалипсических идей была продолжена Н. Бердяевым («Новое средневековье», 1924), X. Ортегой-и-Гассетом («Восстание масс», 1930), К. Ясперсом («Духовная ситуация времени», 1931), А. Вебером («Прощание с прежней историей», 1946), Р. Гвар-дини («Конец нового времени», 1954).
Итожащими апокалипсические наблюдения своих современников были свидетельства не только философов, но и художников, словно утверждавшие характерную для XX века слиянность и взаимную обусловленность слова научно-публицистического и художественного. «При всем различии философии и поэзии есть в них глубинные черты, сближающие эти формы интеллектуальной деятельности» {Овчинников, 21). Вот свидетельство одного из крупнейших русских публицистов конца XIX - начала XX века Михаила Осиповича Меньшикова (1859-1918). В статье 1900 г. «Кончина века» он прощается с завершающимся столетием: «Это был великий век, и в ряду веков будет сверкать великолепием несказанным ... Никогда не было такого обилия великих ученых, философов, поэтов, никогда литература не разрасталась столь роскошно, не выдвигала столь мощных и оригинальных талантов. Что касается России, девятнадцатый век был первым и единственным веком ее просвещения, золотым веком нашей литературы. Но и в Европе это чудесное столетие было если ли не единственным, то самым ярким в смысле умственной жизни. Начавшись Байроном, Пушкиным, Гете, Гюго - оно засияло великими талантами прозы, из которых один или два дошли до конца века: Лев Толстой — как Гибралтар Европу - достойно оканчивает собою это богатырское поколение» {Меньшиков, 48-49).
В таком истолковании тема «заката Европы» оборачивается другой стороной: новый век несет с собой не только расплату за грехи отцов (А. Блок: «Сыны отражены в отцах...»), но словно бы истощает творческие, витальные возможности человека и природы. Оттого-то век с «удивительной» (М. Меньшиков) историей оставил потомкам проблемы, решение которых не только не увеличило «сумму человеческого счастья» (А. Богданов) на земле, но и обрекло на поиски ответов, какие в XIX веке ощущались стоящими не «при дверях».
Две концепции человека в реалистической прозе начала XX века. И. Бунин, М. Горький
Ощущение катастрофичности бытия, которым завершался XIX век, было настолько очевидным, что словно бы и не требовало доказательств. Вместе с тем подобное мирочувствование, свойственное всякому переходному времени, парадоксальным образом раскрепощало личность. Так, Н.А. Бердяев, ставший современником и участником катастрофической эпохи, переживший, по его свидетельству 1940 года, три войны и две революции, ощущал себя внутренне от них независимым: «Ко многому я имел отношение, но, в сущности, ничему не принадлежал до глубины, ничему не отдавался вполне, за исключением своего творчества» {Бердяев, 9). Свою невключенность во время историческое философ считает важнейшей личностной особенностью: «...я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни и в нынешний ее день» {Бердяев, 14).
Подобные самооценки лишь на первый взгляд могут показаться противоречащими той судьбе, какая сложилась у Бердяева, всегда активно обозначавшего свою гражданскую и политическую позиции. И вместе с тем в самооценке философа присутствует общий для каждого человека эпохи рубежа момент своеобразного раздвоения на явленную современникам роль и внутренний мир личности, несущий в себе иные смыслы и глубины. В катастрофические эпохи утрачиваются привычные, освоенные связи мира и человека, рушится мир, его, казалось бы, незыблемые принципы.
«Эпохи, когда такое (личностное и природное, телесное и духовное и др. - Т.Н.) равновесие не нарушается, я назвал бы культурными эпохами, - читаем в статье А. Блока "Крушение гуманизма", - в противоположность другим, когда целостное восприятие мира становится непосильным для носителей старой культуры вследствие прилива новых звуков, вследствие переполнения слуха доселе незнакомыми созвучиями» {Блок, IV, 335). Именно в таком осознании своего места между эпохами увидел А. Блок значение и смысл жизни и философии В. Соловьева, который, по наблюдению А. Белого, был «мучим несоответствием между своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми» (Цит. по: Блок, IV, 398). Именно поэтому для А. Блока В. Соловьев как человек эпохи рубежа, стоявший «на ветру из открытого в будущее окна» и есть часть еще не наступившего, но «идущего на нас нового мира» (Блок, IV, 399).
Совершенно очевидной для современников эпохи рубежа оказывается утрата связей с мировым целым, выдвигающая на первый план личность, ее внутренний мир, ее тягу к целостности и самостоянию. Мир измеряется временем историческим, а человек не может не ощущать себя в эпоху перемен принадлежащим миру «нечислимому», «музыкальному».
«В истории человеческого духа я различаю эпохи обустроенности (Behaustheit) и бездомности (Hauslosigkeit). В обустроенную эпоху человек живет во Вселенной как дома, в эпоху бездомности - как в диком поле, где и колышка для палатки не найти. В первую эпоху антропологическая мысль -лишь часть космологии, в другую — приобретает особую глубину, а вместе с ней и самостоятельность» (Бубер, 40-41).
Эта мысль М. Бубера представляется нам достаточно точной метафорой, позволяющей описать одну из онтологически важных ситуаций эпохи всечеловеческой бездомности, сопровождающей катастрофические перемены в мире. Но вместе с тем ее нельзя отнести к числу легко постигаемых. Современники не всегда могут отрешиться от «злобы дня», от стремления внести свою лепту в «обустройство» исторического времени.
Герой-масса: Путь в будущее
В 1921 году известный литературовед, ученик А.Н. Веселовского, П.С. Коган не без некоторого разочарования писал в журнале «Красная новь»: «Когда говорят о литературе эпохи революции, то невольно ждешь чего-то нового, совершенно непохожего на все литературное прошлое, как непохожи советские декреты на старое законодательство, или новые способы снабжения на вековые методы добывания необходимых предметов. В области идеологической атавистическое начало более могущественно, чем в сфере материальных отношений. Литературные и философские традиции дольше и упорнее властвуют над нами, чем традиции политические и экономические» {Коган, 1921, 233).
Литературовед старой школы в значительной степени был не удовлетворен эстетической реакцией на революционные события времени. Ему казалось, что художник не поспевает за событиями в плане изобразительном, но ситуация была более сложной. Художник не поспевал за революцией в своих оценках. Народ, вышедший из первой мировой войны в русскую революцию, был совсем не такой, каким его ожидала увидеть предреволюционная литература.
Однако состояние общественной экзальтации, с которым Россия ждала революцию, обеспечило произведениям, в которых были реализованы народные ожидания и мистические прозрения, восторженный прием. Успех приходил не всегда к вершинным в художественном отношении текстам. Ситуация первых послереволюционных лет точно описана А.К. Воронским, судьбой которого стало воспитание первого поколения советских писателей. В 1923 году подчеркнуто экспрессивно он писал о поэтах группы «Кузница»: «Во дни, когда умолкла старая "большая" литература и большинство художников с гневом и ужасом, с мелкой, нудной злобой, с закостеневшими глазами от непонимания, кастовой узости, со страхом за свой комфорт, благополучие отшатнулись от гигантского, невиданного мятежа угнетенных, чтобы затем совсем замолкнуть, онеметь, писатели подвалов, чердаков, заводов, шахт, деревенских изб впервые заговорили полными голосами» (Воронский, 204-205).
В позиции А. Воронского нельзя не заметить восторга перед социальной стороной формирующейся литературной жизни: «кто был ничем», тот получил преимущественное право на истину. Художественная новизна всего созданного вышедшими из «подвалов, чердаков, заводов, шахт» для него словно бы и не подлежала сомнению, так же как и молчание «старой» литературы. Обращает на себя внимание и пафос борьбы, преодоления, явно ощущаемый в тоне А. Воронского, оценочный уже сам по себе. Не менее восторженной была и литературная молодежь, следящая за рождением новой идеологии и поэтики.
Много лет спустя Б. Лавренев, художник остросюжетный и интересный, вспоминал: «Я помню, с каким волнением и радостью мы, молодые, не имеющие еще опыта писатели, встречали в те дни первые цветы нашей литературы. Помню, как в Политуправлении Туркфлота в 1921 году был до дыр зачитан всеми работниками первый советский роман В. Зазубрина "Два мира"» (ЛГ, 7957, 12 окт.).
Замечателен не только стиль («первые цветы нашей литературы»), но и классификация произведения по высшей табели о рангах - «первый советский роман». Это не только эстетическая оценка, но и фиксация нового идеологического качества.
Интересно отметить легко воспринимаемую нормативность, которая сопровождала роман. Л. Сейфуллина, например, вспоминает: «Я сказала себе: буду подражать Зазубрину» (Сейфуллина, II, 306. Курсив наш. - Т.Н.).
Б. Лавренев, Л. Сейфуллина дают общую оценку произведения, не входя в детали. Возможно, что на них повлиял и тот факт, что роман В. Зазубрина был одобрен В.И. Лениным. «В 21-м году я видел эту книгу на столе В.И. Ленина - вспоминает М. Горький. - Очень страшная, жуткая книга; конечно, не роман, но хорошая, нужная книга. - Мне тоже кажется, - продолжает М. Горький, высказывая свою точку зрения, - что социальная полезность книги этой значительна и совершенно неоспорима» (Цит. по: Трушкин, 177).
Факт ленинской оценки романа В. Зазубрина может быть истолкован по-разному: и как рождение новой нормативности, и как свидетельство ленинской широты. Причем второе явно перевешивает: роман принадлежит перу бывшего эсера, начинавшего гражданскую войну на стороне белых; он действительно страшен картиной гражданской войны, обилием смертей и крови. Но, как и в случае с романом «Мать», В.И. Ленин социальную значимость книги поставил на первый план. Еще не сформулирована теория социального заказа, но она уже существует в сознании общества.
Роман В. Зазубрина нес в себе и новое эстетическое качество. Так, Б. Пильняк, рекомендуя читателю роман как произведение слабое в художественном отношении, тем не менее отмечает, что «... революция заставила в повести оперировать массами, - масса-стихия вошла в "я" органически» {Пильняк, 1922, 295).
Человек в пространстве жизни: А. Платонов, М. Шолохов
Изложенный в предыдущих разделах материал позволил сформулировать два подхода к магистральной проблеме нашего исследования. Первый заключается в тесной связанности проблемы «нового» человека с революцией и ее восприятием как началом нового мира. Второй рассматривает события революционных лет в ряду жизненных испытаний, какие выпало пережить их современнику.
Тупиковость принципов классовой эстетики не могла не ощущаться живой литературой и в советские годы прорывавшейся к решениям, мало соотносимым с официально одобренными образцами. Именно поэтому в конце 1920-х годов рядом с «массовым» героем в русской литературе появился бытийст-вующий человек послереволюционного времени. Он принадлежал своей эпохе, нес на себе печать тех потерь и разрушений, которые не могли в нем не произойти в катастрофическом времени рубежей и революций. Приняв мир в его потерях и разрушениях, герой русской литературы советского периода, отыскивая опору для дальнейшего пути в «бездомном» мире, вышел за пределы классового в бытийное (А. Платонов), в общенародный опыт (М. Шолохов), сохранив интерес и уважение и к человеческой «сокровенности», и к миру, который ему надлежало возвращать в состояние «обустроенности».
А.П. Платонов принадлежит к числу тех, кого по праву можно назвать рожденными эпохой. Революция совпала с его личностным становлением, ее ритмы вошли в его художественные тексты, перемены, которые она несла с собой, молодой писатель пытался увидеть через человеческую судьбу. Однако этот достаточно тривиальный набор характеристик писателя революционных лет кажется трудно соотносимым с целым рядом платоновских текстов, его часто нестандартных утверждений. Во многом совпадая со своим временем, нередко говоря его языком, принимая его жестокую императивность, А. Платонов тем не менее и в мощном силовом поле революционного единомыслия сумел остаться самим собой, не затеряться «в литературных лавочках Питера и Москвы» (В. Келлер) - столь сильна была его индивидуальность, столь мощным был созидательный напор его мысли и чувства.
Одну из причин того, что А. Платонов сложился как самостоятельный художник и мыслитель, его внимательный читатель и рецензент В. Келлер сформулировал очень точно: «Как поэт пролетарский и революционный, он, по-моему, не так уж и выделяется. О заводе, о революции Гастев, Александровский и другие писали, писали, конечно, не хуже, часто и лучше, чем он. Повторяю: главное достоинство Платонова - его близость к земле, к зеленому миру и глубокая органичность его стихов» {Платонов, 1994, 161).
Действительно, на фоне революционной обезличенной поэзии А. Платонов выделялся вниманием к тому, что представлялось навсегда побежденным - к миру человеческих чувств, к его органике, соединяющей в себе и космический масштаб всеобщего созидания, и одинокого путника, способного плакать «от звезды».
В центр своего художественного мира А. Платонов ставит человека. Несмотря на распространенность, привычность такого утверждения (мысль об антропоцентричности искусства, естественно, не нова), в платоновской схеме есть свои особенности.
Единство, внутренняя целостность платоновского мира настолько очевидны, что, кажется, не требуют доказательств. Однако для других исследователей столь же очевидно качество противоположное. О роли оппозиций в художественном мире Платонова сегодня говорят лингвисты, литературоведы, философы. В его текстах они легко различают, подтверждая свою позицию, оппозиционные пары духовное/телесное, свое/чужое, которые стали особенно различимы и едва ли не обязательны благодаря мифопоэтическим подходам к тексту. Их наличие рассматривается исследователями и как доказательство платоновской противоречивости, но и как возможность ее разрешения в полном соответствии с законами диалектики. Так, В. Эйдинова называет такой механизм разрешения противоречий «принципом взаимопревращения полярностей». Однако о подобном способе снятия противоречий по другому поводу Ю. Лотман заметил: «Уничтожение одного полюса привело бы к уничтожению другого» {Лотман, 1992, 18). Поэтому применительно к платоновским текстам следует говорить не об уничтожении прежнего качества и не созидании нового, а о его обозначении, назывании. Платоновское слово не созидает и не разрушает, оно обнажает уже существующий, но ранее недоступный смысл вещи или явления. Эта платоновская особенность напоминает хаидеггеровское рассуждение о сущем и Ничто: «Ничто есть полное отрицание всей совокупности сущего» {Хайдеггер, 19). Кажется, перед нами традиционная оппозиция, разрешаемая «ничтожением» ее составляющих. Но М. Хайдеггер раскрывает их взаимную связь: «Ничто открывается, собственно, вместе с сущим и в сущем, как в своей полноте ускользающем». По сути дела между оппозициями, по М. Хайдеггеру, нет разделяющей границы: «Ничто не составляет, собственно, даже антонима к сущему, а исходно принадлежит к самой его основе». В данном случае для нас важна известная неокончательность и неуничтожимость противостояния: Ничто, открываясь вместе с сущим, ему же и принадлежит («к самой его основе»). Все сущее познается во взаимодействии со своим фоном, с «другими», что лишь на первый взгляд ему противостоит, ибо наше знание не конечно, не окончательно: «В бытии сущего совершает свое движение Ничто» (Хайдеггер, 22, 23). И процесс этот бесконечен, ибо каждая из составляющих этой оппозиции имеет право на существование и постоянное воспроизведение.