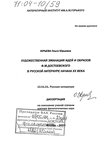Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Пушкин
Параграф первый. «Подражание древним» 16
Параграф второй. «Цыганы» 28
Параграф третий. «Сказка о медведихе» 37
Параграф четвертый. «Песнь о вещем Олеге» 46
Параграф пятый. «Евгений Онегин» 55
Глава вторая. Лермонтов
Параграф первый. «Измаио-Бей», «Хаджи Абрек» 91
Параграф второй. «Мцыри» 104
Праграф третий. «Герой нашего времени» 136
Глава третья. Достоевский
Параграф первый. «Хозяйка» 139
Параграф второй . «Идиот» 147
Параграф тертий. «Проблема рыцарства» 173
Глава четвертая. Бунин
Параграф первый. «Космологизация любви» 197
Параграф второй. «Суходол» 222
Параграф третий. «Жизнь Арсеньева» 229
Заключение 243
Примечания 247
Список литературы 285
«Цыганы»
В пушкинской элегии, как мы видим, таким образом достигается особая художественная правда, а сам лунный пейзаж ассоциативно связан с предпочтением-выбором: "И дева юная во мгле тебя искала // И именем своим подругам называла". Как отмечает САФомичев, уже в первой поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" отчетливо различимы структурные "блоки", которые в последствии станут основой лиро-эпических поэм ("Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы"). Среди этих "блоков" исследователь выделил экзотическую обстановку действия, по его определению, поэмный пейзаж, лунную ночь85. Правда, связывает такой пейзаж С.А.Фомичев почему-то с традициями "оссианизма" и считает приметой романтического стиля. Казалось, все логично и стройно, но неужели Пушкин, подобно Р.Державину, так долго находился "под обаянием" подделок Макферсона?! В лицейский, ученический период, да, несомненно, но в дальнейшем, когда, как отмечают все исследователи, происходил необыкновенно быстрый рост, мужание таланта поэта, когда был создан его цикл "Подражание древним", конечно же, речь должна идти об иной парадигме, восходящей к античным и славянским мифам о творении мира. Так, в "Цыганах" образ Луны непосредственно связан с Земфирой. Неслучайно старый цыган сравнивает ее с луной, прихотливо и самостоятельно избирающей себе возлюбленных: Взгляни: под отдаленным сводом Итак, речь идет, конечно же, не о "структурных блоках", поэмном пейзаже, а о формульном языке, о тех устойчивых ассоциациях, которые порождены архаическим сознанием. В свое время А.А.Потебня великолепно показал, как одна и та же формула (он называл ее формулой "космического ограждения") семантически обусловливает такие "пучки" ассоциаций в заговоре и лирической песне86. Так, на Украине, когда мать выводит жениха из избы с тем, чтобы он со свадебным поездом ехал к невесте, бояре поют: "Мати Юрася родила, // Місяцем обгородила, // Сонечком підперегла, // До милоі виряджала"87. Такую же образную картину мира мы видим и в русских заговорах: "Встану я между небом и землею, отынюся частыми звездами, подпояшуся белым светом, замкнуся я младым месяцем"88. А.А.Потебня пишет, что и в украинских, и в сербских песнях, в русских заговорах мы встречаемся с представлениями о красоте, уходящими в глубокую древность: девушка получает ее от солнца, месяца и звезд: "Ана сунцом главу повезала, // Месецем се опасала, // А звездами накитила"89. Примечательно, что в русской свадебной лирической песне девушки обращаются к жениху: Этот же формульный язык характерен и для колядок: колядовщики находят три терема, в которых обитают месяц, солнце и часты звездочки (хозяин, хозяйка и их дети). Устойчивость этих формул свидетельствует прежде всего о значимости для топики самых разных жанров. Совершенно очевидно, что, создавая образ Земфиры, Пушкин ориентировался на эти устойчивые народные представления, непосредственно восходящие к мифам. К таким же устойчивым представлениям относится и образ горы, холма, кургана, так как связан он с поворотными моментами в судьбе героя или героини. Так, в лирических песнях говорится
«Мцыри»
Смысловая парадигма этой поэмы, как мы постараемся показать, во многом обусловлена древнейшими родовыми ценностями, архетипами, ставшими внутренней сутью ее основных образов. В ее образной системе, безусловно, нашло отражение стремление к нравственным идеалам предков (к "эйдосу"), занимающих в истории культур особую, вневременную позицию279.
Эта обращенность в прошлое, казалось бы, противоречит основному пафосу творчества М.Ю.Лермонтова, но эта "готовность узнать себя в предке"280 (отсюда и поиски своей родословной в Испании, Шотландии) определялась прежде всего телеологичностью, ставшей доминантой его художественных открытий и прозрений.
Несомненно, здесь сыграли свою роль и книжные впечатления, и "память детства", но сама их актуализация, востребованность говорят об интенсивнейшем росте, целеустремленности, желании найти ответы на вопросы "неба". Именно эта телеологичность, космизм и придавали произведениям Лермонтова высокую смысловую насыщенность, ту "намеренную загадочность и условность", о которых писал в свое время Б.М.Эйхенбаум281.
Своеобразной загадкой в этой системе является уже само название поэмы282. Судя по вариантам, озаглавив поэму "Мцыри", Лермонтов в примечании поясняет, что на грузинском это означает "неслужащий монах, нечто вроде послушника"283. Однако семантика этого слова куда сложнее, так как "Мцыри" по-грузински означает не только "послушник", но и "пришелец", "чужеземец", "одинокий человек, не имеющий родины, близких"284.
Таким образом, уже само название поэмы дает нам определенные ориентиры для понимания ее внутреннего конфликта285. "Беглец и монах, — писал по этому поводу Ю.И.Айхенвальд, — встречаются между собой в глубокой антитезе и глубоком родстве"286. Семантически это обусловлено и эпиграфом к поэме.
В "Ветхом Завете: 1-ой книге Царств. Гл.14" говорится: "Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю"287. Выше мы уже говорили о "меде поэзии", то есть сакральных знаниях, получаемых в результате инициации. Как известно, старший сын Саула, Ионафан, был воином, отличающимся необычной силой и ловкостью (Цар. I, 231), а в стрельбе из лука он превосходил всех своих соперников: "Без крови раненых лук Ионафана не возвращался назад" (Цар. I. 221)288.
По мнению С.Ломинадзе, "главное сюжетное движение поэмы связано с желанием Мцыри вернуться на круги своя, в мир братьев и отцов"289. Однако для Мцыри важно не просто обрести связь с родом, но и то, в каком качестве он вернется. Им не просто совершается "круговой путь", а восхождение, анабасис, и эта устремленность к "высшему в себе" определяется, с нашей точки зрения, поэтикой "жеста" (песни подвига и дерзания).
Путь в таком случае понимается как героическое деяние, отрицающее состояние покоя, преодоление пространственных препятствий — "элементов сакральной топографии" (В.Н.Топоров):
В этой связи уместно привести достаточно спорное утверждение А.Д.Жижиной о том, что "повествование в своей основе не перерастает границ конкретности"290. Возможно, и не стоило бы обращать внимание на такого рода пассажи, но, к сожалению, они достаточно прочно утвердились в особом типе литературоведческих работ.
Совершенно очевидно, что здесь, так же как и в geste действуют законы ритуально-магического характера: прошлое актуализируется, "вектор обратного времени" (Д.С.Лихачев) становится определяющим, время как бы "свертывается", оно становится "соприродно акту творения мира и направлено на устранение хаотической стихии"291. При этом, конечно, следует учитывать, что настоящее оценивается через призму прошлого — времени первотворения (первых вещей, событий). Экспозиция в поэме (с ее "постепенно складывающейся символикой" — А.Д.Жижина) является своеобразной моделью перехода героя в антимир: мир смерти-рождения, мир навыворот, ассоциативно связанный с монастырем
. «Идиот»
Уже О.Ф.Миллер писал о связи этого произведения со сказочной традицией, а главного героя — со сказочным Иваном-дураком419. В наши дни в ряде выступлений молодой исследовательницы И.Р.Ахундовой на старо-русских чтениях эти наблюдения получили достаточно серьезные обоснования, подтвержденные анализом текстов420. В частности, она обратила внимание на архетип "большого дома", "мужского дома", известного в досказочной и сказочной традиции всех народов мира, его трансформацию в романе. Заслуживают внимания приведенные ею параллели между эпилептическими припадками князя Мышкина и "священным безумием" испытуемых в обряде инициации и волшебной сказке. О связи представлений о "золотом веке" героя романа с социально-утопическими легендами пишет В.А.Михнюкевич421. Все чаще исследователи обращаются к так называемому "народному христианству", его основным мотивам и отражению в творчестве Достоевского422. Очень интересно в этом плане наблюдение Г.Г.Ермиловой: "Христианство Достоевского ... трагично. Его трагичность — в хотя бы частичном несовпадении верованй "почвенника" Достоевского с народными религиозными верованиями"423. Позволительно спросить: а могли ли эти верования "совпадать"?! Закономерно как раз "несовпадение": интеллектуальное напряжение и создается благодаря разности мировоззрений. Глубокие противоречия в самом образе князя Мышкина (с одной стороны, кротость, незлобивость, а с дугой — твердость в отстаивании своих убеждений, принципов) обусловлены тем, что в нем совмещаются два начала (условно говоря, "мужское" и "женское"), и проверка его идей, испытание на прочность "героического" начала (в подлинном смысле этого слова) происходит на протяжении всего романа. Пользуясь известным народным выражением, можно задать вопрос: "А по плечам ли е п а н ч а?" Поэтому мягко говоря недоумение вызывают следующие наблюдения исследователя: "Мышкин, Настасья Филипповна — демонстративно (речь идет об авторской установке) неизящны ... Красота у Достоевского нерепрезентативна"424. Конечно, можно понять "увлеченность" исследователя своей концепцией, но сам текст романа явно свидетельствует о другом. Напомню, сестры Епанчины следующим образом характеризуют красоту Настасьи Филипповны: — Этакая сила? — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры ... Такая красота — сила, — горячо сказала Аделаида, с этакою красотой можно мир перевернуть!" (8,69). Совершенно очевидно, что здесь смешаны две вещи: "куртуазность" (изящество манер, изысканность, "кажимость") и красота подлинная425. Хорошо известно, сколь неприязненно относился Достоевский к изысканности манер, лоску и изяществу, скрывающим духовную пустоту и ничтожество ("Игрок"). Как известно, "фасадная империя" Николая I культивировала изящество форм, и не случайно такой заклятый враг России, но по-своему проницательный и умный наблюдатель, как маркиз де Кюстин, писал: "Порой мне кажется, что нахожусь в Версале сто лет назад"426. Дворянство, как воинское сословие, постепенно утрачивало в массе своей представление о "должном", о "служении", "рыцарстве", но оставалась "форма". Хорошо известно, как были "очарованы" декабристы показным "рыцарством" Николая I, так как сами они были, безусловно, "людьми чести", "людьми по праву гордыми". Достоевский парадоксальным образом соотносит красоту Настасьи Филипповны ("страдала ужасно много") со-страдальную с красотой сестер Епанчиных, красотой "воинской": "Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, с сильными, почти как у мужчин руками, и, конечно, вследствии своей силы и здоровья, любящие иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать" (8,32). Таких мощных красавиц в русской литературе, пожалуй, и нет, поэтому их портретная характеристика и производит такое неожиданное впечатление (чего-чего, а "куртуазности" здесь нет и помину). Но в то же время Достоевский явно рассчитывал на определенные читательские ассоциации, связанными не только с литературными традициями. Речь вдет о "поляницах удалых", побеждающих богатырей, искусных наездницах, лучницах, равным которым нет в Киеве, к тому же берущих дань с незадачливого князя Владимира ("Дунай", "Ставр Годинович"). Нет нужды говорить о прекрасном знании Достоевским классических сборников П.В.Киреевского, П.Н.Рыбникова, А.Ф.Гильфердинга, это уже давно установленный факт427. Важно другое: он очень тонко обыгрывает имена своих героинь (Александра — защитница людей, Аделаида — цветущая, Аглая — дочь красоты, прелести). По сути — это хариты, "воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни", но в то же время и "Защитницы людей", воительницы428. О сознательной установке на "значащие имена" говорит и такое оксюморонное сочетание как Гаврила ("божья оборона") Ардалионович ("грязнуля", "замарашка"). Лощеный Ганя Иволгин, претендуя на высокое положени в обществе и готовый, по словам Рогожина, за "три целковых" бежать на Васильевский остров, передергивающий в картах, предстает во всем "блеске". Конечно, такое контрасное сочетание порождало комический эффект, но семантика имени носила и прогнозирующий характер, определяя судьбу подлинного героя. Само сочетание Лев Мышкин говорит о солнечной, но в то же время и хтонической природе образа. Имя давалось "на вырост", для того, чтобы оправдать свою "солнечность", завоевать "солнечную деву", он должен пройти испытания, "дорасти" до своей космической сути. В традициях советского литературоведения онтологическая суть образа Мышкина отвергалась "с порога". Так Г.К.Щенников отмечает: "Князь Мышкин это не вочеловечившийся Христос, не посланец провиденциальных сил, не выразитель идеи искупительного страдания и царствия божия в загробной жизни ... Мышкин — земной человек со своим особым характером, существенно отличающийся от характера евагельского Христа"429. Как нам представляется, в этом "заочном" споре куда точнее Г.Г.Ермилова, утверждающая вслед за К.В.Мочульским, что образ князя обусловлен иной парадигмой, его нельзя рассматривать только на эмпирическом уровне, психологический, социологический, "бытовой" подход здесь явно не срабатывают.
«Суходол»
Как известно, сам Бунин не признавал "деления художественной литературы на стихи и прозу". Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видел в сближении их музыкальности, "потаенности", в том, что "суздальские богомазы" (палехские художники) называли "плавями" (то есть наложением красок, их "свечением" друг через друга). "...Поэтический язык, — говорил И.А. Бунин в интервью "Московской газете" в 1912 г., — должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха"(9, 539). Бунинская проза, по известному выражению А.П. Чехова, подобна "концентрированному бульону", она "густа" смыслами, оттенками. А.Т. Твардовский, сближая её с поэтикой тургеневской прозы, писал: "Бесспорная и непреходящая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до выского совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или набольшой повести той свободной и необычайно емкой копозиции, которая избегает сторогой оконтуренности с сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюдений художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет "замкнутой концовки", ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы"572. Как мы помним, Твардовский связывал такую форму "русского рассказа" с опосредованным влиянием лирической песни, а зарождение её относил к "Запискам охотника". Читатель влючается при этом в творческий процесс, достраивает сюжет, до-мысливает его, но при этом следует помнить и о родовой памяти жанра. Бунинские "плави" позволяют увидеть, как обыденная действительность "подсвечивается" особым типом избирательной памяти. Сам же писатель неоднократно оговаривал: "Ни что не определяет нас так, как род наших воспоминаний". Но кроме эстетического значения эти воспоминания определяли и чувство вины, вины целого сословия перед "землей". Так, в повести "Суходол" он горько сетует: "Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли"(3, 185). Восстановление этой утраченной связи, восстановление утраченных преданий для Бунина означало и вос-крешение личности, обретение ею целостности и полноты. "Имена наши помнят хроники, — пишет он, — предки наши были и стольниками, и воеводами, и "мужами именитыми", ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать то, что было полвека тому назад." Поразительным образом это сожаление об утрате рыцарского достоинства, чести рода перекликается с четырьмя вставными эпизодами-"клеймами" о Меркурии Смоленском. Как ни странно, на первый взгляд, но образ его находится в лакейской. К нему в трудные минуты, годины невзгод обращались дворовые и главная героиня повести, Наталья. Сосланная за ничтожную провинность (украла зеркальце в серебряной оправе на память о гвардейском офицере, будущем хозяине Суходола, Петре Петровиче, в которого она тайно влюблена), ошельмованная, остриженная наголо овечьими ножницами (что всегда в русских деревнях считалось величайшим бесчестьем), тем не менее именно она сохранила внутреннее достоинство и честь. И хотя рассказчик говорит о том, что Хрущевым не худо бы посчитаться родством, "кровью" с дворней, так все перемешалось, так соединились они за века: родовая память, как мы видим, сохраняется у дворовых, а не у бар. Парадокс состоит в том, что родословная Хрущевых написана на обратной стороне иконы (казалось бы, и образ надо хранить как самую дорогую и ценную вещь). Что же произошло с их родовой памятью, почему сам род оказался выморочным?! Очевидно, что без расшифровки "клейм" внутренние сцепления в повести их глубинную семантику увидеть невозможно. Как показывают исследования, сама легенда о Меркурии Смоленском многослойна573. В основе её лежит почитание покровительницы Смоленска — "Одигитрии" (Путеводительницы). "После смерти черниговского князя Всеволода Ярославича, — пишет Т.В. Краснова, — икона по наследству перешла к его сыну Владимиру Мономаху, матерью которого была греческая царевна Анна. Владимир Мономах перенес Одигитрию из Чернигова в Смоленск и поставил её в соборном храме Успения Богоматери, заложенном в 1101 г. С этого времени икона стала называться Смоленской"574. Внешне все выглядит довольно просто: взял и "перенес". Но возможно ли такое "перенесение" в Средневековье с его "этикетностью", значимостью "жестов", их высокой семантикой. Все, конечно, обстоит куда сложнее. Выше мы уже говорили об "анабасисе" Андрея Боголюбского, создании им новой столицы в Залесской Руси, переносе иконы из Вышгорода. Его дед, Владимир Мономах, сделал то же самое чуть больше полвека, но по своей сути, внутренней и идеологической значимости, это явления одного ряда. Связано это с тем, что в конце XI — начале XII вв. половцы перекрыли путь из "Варяг в Греки", многие южнорусские города (Переславль Русский, Любеч, Витичев) пришли в упадок. Возвышение Смоленска, по мнению крупнейшего нашего историка М.Н. Тихомирова, было связано с открытием нового торгового пути "из Варяг в Арабы", то есть по Западной Двине, а затем (благодаря "волокам" через Вазузу) — по Волге575. В 1101 г. Владимир Мономах действительно заложил каменную соборную церковь Богородицы — "епископью". "Почти одновременно, — как отмечает М.Н. Тихомиров, — тот же князь обратил внимание на Залесскую землю, где окружил валом городок на Клязьме (Владимир). Новый расцвет Смоленска был связан с оживлением торгового пути от берегов Балтийского моря вглубь Восточной Европы"576. Если учесть, что раньше "епископия" была в Переславле Южном, вотчинном владении Владимира Мономаха, то многое становится понятным. Роль Смоленска возрастает, так как новый торговый путь обеспечивал экономическое процветание не только старых Залесских городов (Ростова, Суздаля), но и Ганзейского союза, последующее строительство в "Ополье" новых городов сыном Владимира Мономаха, Юрием Долгоруким (Дмитрова, Переславля Залесского, Юрьева Польского, "ятия" красных сел боярина Кучки, будущей Москвы). В былинном эпосе это нашло отражение в зачинах Сборника Кирши Данилова ("Высота ль, высота поднебесная"), где упоминаются и "Черны грязи Смоленские, и темны леса Брынские"), и в сюжете "Алеша Попович и Тугарин-Змеевич", где "паробком" (оруженосцем) богатыря является Якимко Торотанин. "Торопец стоит, — как отмечает М.Н. Тихомиров, — в непосредственной близости к истокам Волги. ... В середине XII века Торопец был крупнейшим центром Смоленской земли"577. Выше мы уже говорили о символической переправе Андрея Боголюбского через Вазузу. Таким образом, "анабасис" первых русских князей, их дружин был непосредственно связан с одолением водных преград и покровительством Одигитрии.