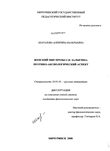Содержание к диссертации
Введение
Глава I Валентин Распутин: свое место в общем ряду 22
Глава II Василий Белов в поисках утраченного лада 73
Глава III Виктор Астафьев: мечты о братстве в жестоком мире 126
Глава IV Несгибаемые «Строптивцы» Бориса Можаева 178
Заключение 249
Библиография 253
- Валентин Распутин: свое место в общем ряду
- Василий Белов в поисках утраченного лада
- Виктор Астафьев: мечты о братстве в жестоком мире
- Несгибаемые «Строптивцы» Бориса Можаева
Введение к работе
На вопрос о том, что собою представляла так называемая деревенская проза в качестве оригинального литературного течения и в чем заключалась эстетическая и идеологическая ее специфика, ответить не так просто, как может показаться на первый взгляд. Само по себе обращение к деревенскому материалу отнюдь не является главным атрибутивным признаком интересующего нас литературного течения. В 1960–1970-е годы в СССР было немало писателей, постоянно изображавших в своих романах и повестях жизнь колхозной деревни, но никому не приходило в голову причислять их к «деревенщикам». В то же время у В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева достаточно много произведений, где действие происходит в городе, а основные персонажи не имеют ни малейшего отношения к селу, а между тем у читателя не возникает никаких сомнений в принадлежности этих текстов именно к «деревенской прозе». Таким образом, решая вопрос о рамках «деревенской прозы» как литературного течения, следует обращать внимание не столько на изображаемые явления, сколько на ракурс их восприятия писателями и утверждаемую ими систему ценностных ориентаций.
В критике 1960–1970-х годов очень популярным, и даже расхожим, был тезис о том, что в текстах «деревенщиков» доминирующую роль играет оппозиция «деревня-город»; считалось, что эти авторы прежде всего стремятся противопоставить моральность и коллективизм крестьянства бездуховности и разобщенности городских жителей. Между тем представляется более точной и основательной позиция В. Ковского, который еще в начале 1980-х назвал главным атрибутивным признаком «деревенской прозы» «обращенность художника к прошлому, давнему или сравнительно недавнему, но взятому в качестве этического и эстетического критерия настоящего». И действительно, не столько между деревней и городом проходит в текстах «деревенщиков» основной водороздел, сколько между прошлым и современностью. «Основные герои «деревенской прозы» - крестьяне, малограмотные, но умудренные опытом, олицетворяющие традиции и устои прежней жизни. Их глазами увидена современность, их устами она сурово осуждается. «Деревенская проза» не только с неопочвеннических позиций подвергла критике многие явления советской действительности, но и осудила негативные тенденции, присущие современной цивилизации в целом», – справедливо указывает А. Большев.
Авторы «деревенской прозы» с самого начала выступили и как художники, и как идеологи. Изображение явлений прошлого и настоящего в их текстах не просто включало в себя моральную оценку, но фактически строилось на ее основе. Прежде всего «деревенская проза» вершила суровый суд над современностью за ее несоответствие вечным ценностям и нормам, «природным» законам, которые свято чтила прежняя деревня, за забвение накопленного поколениями крестьян духовного опыта. Однако идеологическая проповедь «деревенщиков» вряд ли была бы услышана и воспринята обществом, если бы не высочайшее эстетическое качество произведений, со страниц которых она прозвучала.
«Деревенская проза» в качестве оригинального направления безусловно доминировала в русской литературе на протяжении полутора десятилетий – примерно с середины шестидесятых до конца семидесятых годов ХХ века. Ситуация достаточно резко изменилась в конце 1980-х, когда, по ходу развития перестроечных процессов, крайне обострился спор либералов-западников с представителями патриотическо-почвеннического направления. Идеологи либерально-демократического движения сменили прежнее благожелательное отношение к «деревенщикам», которых до поры до времени рассматривали в качестве союзников по борьбе против коммунистического режима, на предельно острую критику в их адрес. Они упрекали авторов «деревенской прозы» в идеализации патриархальной старины, неприятии демократических ценностей, а также в национализме и даже ксенофобии. Многие критики и политические деятели увидели в идеологии «деревенской прозы» серьезную угрозу для успешного движения обновленной России вперед, по пути прогресса. Это наложило отпечаток также и на восприятие художественных текстов, написанных «деревенщиками» ранее, в 1960–1970-е годы. Представители либерально-демократического лагеря (а они безусловно доминировали в литературной критике) начали выступать с уничижительными оценками беловских и распутинских произведений, обнаруживая даже в ранних текстах писателей всякого рода идеологические и эстетические дефекты. Впрочем, не бездействовала и противоположная сторона: критики, принадлежащие к почвенническому направлению, ответили на несправедливую хулу в адрес своих кумиров собственными апологетическими статьями, посвященными их творчеству и общественной деятельности. Однако и хулители «деревенщиков», и их апологеты, разумеется, были бесконечно далеки от сколько-нибудь объективного анализа.
Сегодня можно констатировать, что в плане изучения и осмысления «деревенской прозы» далеко не все обстоит благополучно. На первый взгляд, недостатка в исследованиях нет. Творчеству В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева и других «деревенщиков» посвящено множество критических и литературоведческих работ, среди них немало и монографий. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что значительная часть этих книг и статей появилась в советские годы (или же в начале горбачевской «перестройки»), соответственно, они отмечены влиянием политической конъюнктуры. Их авторы вынуждены были так или иначе адаптироваться к требованиям весьма жесткой идеологической цензуры. Что же касается критических статей, появившихся в девяностые годы, то они, в большинстве своем, несут на себе печать бушевавших тогда политических баталий и далеки от объективной исследовательской аналитичности. Серьезных работ, посвященных «деревенской прозе», очень немного.
Между тем, сегодня сложилась ситуация, весьма благоприятная для спокойного и взвешенного анализа интересующего нас литературного материала. Яростные споры «почвенников» и «западников» несколько поутихли и переместились на периферию социокультурного пространства. Творческая и общественная деятельность «деревенщиков» стали частью истории русской литературы и русской мысли, что позволяет рассматривать их без гнева и без пристрастия. Этим и обусловлена актуальность настоящего исследования.
Цель диссертационного сочинения состоит в анализе как идеологической, так и эстетической специфики «деревенской прозы». Главная задача заключается в том, чтобы проследить, как историософские, политико-экономические и моральные доктрины каждого из рассматриваемых «деревенщиков» всякий раз сложным образом коррелируют с основными параметрами поэтического мира. Подобного рода исследование предпринимается впервые, чем и определяется его научная новизна.
Вопрос о соотношении идеологических доктрин, которые писатель озвучивает и пропагандирует в своих текстах, с логикой создаваемых им же художественных образов и с его поэтическим миром в целом, следует признать недостаточно исследованным. Хрестоматийно известная формула «не словами, а сценами» (Ф. Достоевский) достаточно ярко раскрывает суть проблемы, с которой сталкивается всякий автор-идеолог при создании беллетристического текста. Такой писатель пытается, не ограничиваясь прямым формулированием собственных доктрин, добиться их воплощения непосредственно в художественной ткани, в образной системе произведения. Подобного рода установка вполне может быть адекватно реализована в духе так называемой поэтики тезиса: «сцены» используются исключительно в иллюстративных целях, они вполне соответствуют положенной в основу текста авторской концепции и способствуют более доходчивому восприятию ее читателем. Однако если писатель достаточно талантлив, то ситуация, как правило, осложняется тем, что изобразительный ряд выходит из-под его контроля, перерастая отведенную ему иллюстративную, подчиненную по отношению к идее роль; в частности, персонажи начинают вести суверенное существование в соответствии с логикой своих характеров, зачастую вступая в противоречие с тезисами, которые сформулированы в прямых авторских комментариях.
Итак, в дискурсе интересующего нас типа следует выделить, во-первых, слой идеологической риторики, наиболее четко эксплицирующей субъективную точку зрения автора, а во-вторых, дескриптивно-миметический компонент, то есть ряд эпизодов и сцен, долженствующих выполнить иллюстративную функцию по отношению к авторской концепции, но нередко вступающих в противоречие с ней. На деле, однако, случаи, когда можно четко провести подобного рода разграничение, отделив объяснительно-моралистический дискурс от собственно драматургического развития действия, встречаются не слишком часто. Как известно, в прозаических текстах «сцены» почти никогда не бывают полностью свободными от нарративного покровительства. О сути идеологических и историософских доктрин писателя мы можем уверенно судить по текстам, относящимся к области прямого высказывания, где не действует изобразительная функция искусства, то есть по публицистической эссеистике, переписке, дневникам и т.д. Но в художественных текстах прямое авторское слово, связанное с морально-философской рефлексией или проповедью, присутствует далеко не всегда. Чаще же автор ограничивается краткими и неоднозначными аналитическими комментариями, образующими как бы идеологический фон произведения, или же всякого рода идеологемы озвучиваются персонажами, близкими автору по духу и взглядам, однако авторитетность таких героев относительна и может быть поставлена под сомнение. Кроме того, писатель-идеолог нередко и сам до конца не уверен в истинности собственных доктрин, его сомнения и колебания могут привести к появлению в тексте «противосмысла», «противоустановки».
Кажущаяся простой задача по отделению в анализируемом тексте художественных образов от авторских идеологем на деле чрезвычайно сложна. Здесь весьма часто приходится сталкиваться с откровенным редукционизмом, когда интерпретатор, пытаясь оспорить содержащуюся в произведении идеологическую доктрину, фактически абстрагируется от эмпирической реальности художественного текста и грубо схематизирует авторскую мысль, подменяя ее неким суррогатом.
Специфика авторов интересующей нас «деревенской прозы» заключается в том, что они прежде всего художники и в значительно меньшей степени мыслители и идеологи. В выстраивании всякого рода концептуальных схем они не могли добиться больших успехов. На первом этапе своего существования «деревенская проза» практически не использовала прямую моральную проповедь в качестве инструмента воздействия на читателя, решительно предпочитая «сцены» «словам». Художественные картины действительности, создаваемые «деревенщиками», как правило ускользали от однозначных завершающих определений и оценок. В этом плане характерна долгая полемика критиков по поводу образа главного героя беловской повести «Привычное дело», в ходе которой одни доказывали, что Дрынов воплощает национальные добродетели, а другие видели в нем персонификацию всяческих слабостей и пороков. Сам же Белов не сделал ни малейшей попытки внести определенность в спорную ситуацию и разъяснить смысл и суть характера своего персонажа. Вплоть до середины 70-х годов авторы «деревенской прозы» не слишком часто выступали и в качестве публицистов, а если же все-таки выступали, то избегали слишком широких обобщений, ограничиваясь в основном обращением к частным и конкретным проблемам, главным образом социально-экономического плана. И хотя в дальнейшем в «деревенской прозе» происходит усиление роли публицистического начала, возрастает общественно-идеологическая активность ее лидеров, все больше тяготеющих к учительству и проповеди (эта тенденция достигла кульминации в период «перестройки» конца 80-х и в постперестроечные годы), талантливые и яркие художники все равно не перестали быть по преимуществу художниками.
Анализ идеологической составляющей творчества «деревенщиков» требует в первую очередь учета неповторимой индивидуальности каждого из них. Перед нами представители одного литературного течения, и все они так или иначе противопоставили крестьянское прошлое современной действительности. Однако каждый из мастеров «деревенской прозы» ставил во главу угла какие-то специфические, близкие и дорогие именно ему, ценности прежней деревенской жизни и, соответственно, предъявлял современности свой особенный счет. Между тем, именно тот факт, что критика пороков нынешней цивилизации у каждого из «деревенщиков» носит всецело индивидуальный характер да к тому же облечена в неповторимо своеобразную художественную форму, зачастую игнорируется исследователями. Даже в весьма серьезных и основательных работах можно встретить обобщенные характеристики «деревенской прозы», из которых следует, что принадлежащие к этому течению писатели пропагандировали некую единую, общую не только в своих основах, но даже и в деталях, и к тому же весьма примитивную модель общественного устройства.
Представляется, что главным препятствием на пути к осмыслению феномена «деревенской прозы», в особенности идеологической ее ипостаси, на сегодняшний день является именно тенденция, связанная с отрывом исследовательской мысли от конкретных текстов, прежде всего художественных, созданных писателями, каждый из которых неповторимо индивидуален не только в эстетическом, но и в мировоззренческом плане; этот отрыв влечет за собой подмену объективного анализа конструированием абстрактно-умозрительных схем. Именно поэтому мы в данном диссертационном сочинении стремились, по мере возможности, сосредоточиться на анализе творческих биографий и ключевых произведений основных представителей «деревенской прозы», избегая всякого рода неоправданных обобщений.
Материалом диссертационного исследования послужило творчество четырех представителей «деревенской прозы» – В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева и Б. Можаева.
Структура диссертации: помимо введения и заключения, работа включает в себя четыре главы, которые посвящены творчеству вышеназванных представителей «деревенской прозы».
Методологической основой диссертации является сочетание методов мотивного и структурного анализа, историко-типологический подход к рассматриваемым проблемам совмещается со сравнительной характеристикой литературных и публицистических текстов.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что ее материал, отдельные положения и заключительный выводы могут быть использованы для дальнейшего изучения «деревенской прозы» и русской литературы второй половины ХХ века в целом. Результаты исследования могут быть внесены в вузовскую практику и использованы при подготовке общих и специальных лекционных курсов по проблемам современной русской прозы.
Апробация работы. Важнейшие положения настоящего исследования изложены в ряде публикаций и в докладах на международных и межвузовских научно-практических конференциях.
Валентин Распутин: свое место в общем ряду
Критика с поистине редким единодушием воспринимала и воспринимает до сей поры Валентина Распутина в качестве «нравственника»25, то есть писателя, занятого по преимуществу, моральным просвещением общества, «возрождением традиционной нравственности» . По мнению большинства интерпретаторов, основные персонажи распутинских произведений являют собой некие олицетворенные морально-этические образцы, на которые автор и предлагает ориентироваться читателю.
И действительно, в распутинских текстах без особого труда обнаруживаются привычные атрибуты нравоописательной литературы. Зачастую довольно очевидной оказывается осознанная морально-идеологическая авторская установка, в соответствии с которой воспеваются добродетели и, наоборот, изобличаются пороки.
И сам Распутин, рассуждая в многочисленных статьях и интервью о специфике художественного творчества, неизменно подчеркивал и подчеркивает, что главная цель литературы - «нравственное очищение человека и оздоровление его духовного сознания» . Соответственно, заслугу «деревенской прозы» он видит прежде всего в том, что она «указала на духовные и нравственные ценности, которые, если мы собираемся и впредь оставаться народом, а не населением, не повредят нам и на асфальте» (3,419). Если же Распутин предъявляет коллегам-писателям претензии, то и они связаны прежде всего с задачей по оказанию воспитательного воздействия на общество, с которой современная литература, по мнению автора «Прощания с Матерой», не смогла справиться должным образом: «Мы слишком преувеличивали свое нравственное и духовное влияние на читателя» (3,428).
Причины, по которым литература в России должна оказывать на общество столь активное духовно-нравственное воздействие, давая читателю предельно четкие и недвусмысленные этические ориентиры, Распутин видит, помимо всего прочего, в специфике отечественного менталитета: по мнению автора «Прощания с Матерой», в моральном плане наши люди тяготеют к крайностям и не приспособлены к западным культурно-идеологическим моделям, основанным на плюрализме и толерантности. Так, в статье «Что дальше, братья-славяне?» Распутин подчеркнул, что любое размывание границ между истиной и ложью, добром и злом для русского человека (и шире - для славянина) чревато катастрофическими, разрушительными последствиями: «Славянство по природе своей не должно было согласиться с новым миссионерством Запада по оправданию зла. Для него это погибель. Для любого народа или семьи народов это погибель, но для славянина тем более. В его нравственном миропонимании добро и зло имели определенные, раз и навсегда закрепленные места, и способность западного человека и в пороке выглядеть немножко добродетельным, и в добродетели немножко порочным для него непостижимое искусство. Талантом двусмысленного поведения он не обладает, он тяготеет к полюсам. Дозволенное зло стремится в славянине перейти в крайность, наша мораль недоступна так называемому консенсусу противоположностей и прямо, без промежуточных построений, с решительностью разводит их по сторонам. И если она нарушается, зацепиться не за что, падение бывает убийственным» (3,400).
Зачастую критики и ограничивают свой анализ распутинского дискурса узкими рамками морализаторской его ипостаси. Между тем при более тщательном рассмотрении основных художественных текстов писателя становится ясно, что с воспитательным морализмом в них дело обстоит далеко не просто.
В этом плане уже в первых книгах Распутина бросается в глаза парадоксальное совмещение противоположных, разнонаправленных начал. Тенденция к нравоописательной ясности и определенности, характерная для одних текстов, странным образом уживается в других с тягой к иррациональному и таинственному, а соответственно с уходом (порой почти демонстративным) от психологических и бытовых мотивировок, не говоря уже о каком бы то ни было морализаторстве.
Характеризуя начальный период творческой биографии Распутина, практически все исследователи отметили ученический, едва ли не эпигонский характер очерков, собранных в первой его книге, названной «Костровые новых городов». Не раз подчеркивалось, что ранняя распутинская публицистика исполнена духом таежной романтики (во многом позаимствованным у авторов «исповедальной прозы» - прежде всего А. Гладилина и А. Кузнецова) и пафосом глобального преобразования Сибири, который в дальнейшем автор «Прощания с Матерой» будет энергично развенчивать.
Однако в данном случае нас интересует не столько то, какие именно идеи развернул Распутин в своих первых очерках и рассказах, сколько присущая большинству этих текстов прямолинейная тенденциозность. Рефреном «Костровых...» становятся бодрые лозунги молодых строителей новых дорог и плотин: «Мы покорим тебя, Ангара!»; «Покорись, Енисей!».28 Автор не скрывает своего восторженного отношения к молодым романтикам - строителям новых дорог и плотин, подобным героям очерка «Володя и Слава»: «Оба они из того разряда людей, которые открывают и новые руды, и новые земли. Вот почему не усидели они у южных морей, не захотели жить в уютных, с детства знакомых квартирах, а променяли их на палатки, не смогли долго ездить по наезженным, изученным дорогам, а ушли в бездорожье...» . Эти и многие другие персонажи действительно преподносятся читателю - прежде всего молодому, разумеется - в качестве образца для подражания. К косной природе, сопротивляющейся преобразованиям, автор, наоборот, сочувствия не испытывает: «Подойдешь к кедру, а он, громадина, раскачивается: мол попробуй тронь! Приходилось объяснять ему, что здесь будет дорога, что он стоит поперек железной дороги». Нравоописательная ясность свойственна не только очеркам, примерно в такой же манере выдержаны и многие рассказы начинающего писателя -например, «Я забыл спросить у Лешки», которым открывается сборник «Человек с этого света» (1967). Трогательную историю об устремленных к коммунистическим идеалам юношах, один из которых гибнет в тайге, отличает явный переизбыток воспитательного морализма.
Вместе с тем, рядом с подобного рода текстами в книге «Человек с этого света» обнаруживаются произведения совсем иного плана. Таков, например, рассказ «Василий и Василиса». Супруги, Василий и Василиса, благополучно прожили вместе много лет, имея семерых детей. Затем, однако, Василий пристрастился к спиртному и в пьяном виде стал бить жену. Василиса терпела долго, но однажды, после особенно омерзительной выходки Василия, ставшей причиной выкидыша, она приняла решение разойтись с мужем, выселив его из дома в амбар. На мольбы раскаявшегося супруга о прощении героиня не обращает внимания. Далее начинается Великая Отечественная война, на фронт уходят и Василий, и его сыновья. Василий возвращается только осенью 1945 года. Он полностью преобразился, осознал свою вину и, конечно же, надеется, что искупил ее и будет прощен женой, для которой привез специальный подарок. Читатель (особенно тот, кто начал знакомство с «Василием и Василисой» непосредственно после рассказа «Я забыл спросить у Лешки») вправе ожидать душещипательной сцены примирения супругов - но напрасно: Василиса велит дочери постелить отцу в амбаре. Василий пытается объясниться, однако безуспешно. «Не будет нам житья вместе, -говорит ему Василиса. - Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать» (1,339). После многих лет одинокого и безбытного амбарного существования Василий решает жениться - а точнее говоря, завести хозяйку - и приводит к себе молодую пришлую женщину по имени Александра
Василий Белов в поисках утраченного лада
Подобно многим другим мастерам так называемой деревенской прозы, и прежде всего В. Распутину, В. Белов, начиная с 80-х гг. XX века, все более активно выступает в роли публициста, идеолога, общественного деятеля, высказываясь в печати по самым разным злободневным проблемам.
Лейтмотивом статей писателя становится идея гармонического обустройства жизни общества. Положительная программа Белова со всеми ее особенностями наиболее отчетливо и полно раскрыта в эссе «Лад» (1982), где рассматривается специфический жизненный уклад крестьян русского Севера. Рисуя традиции, обычаи, обряды северных земледельцев, исследуя систему семейных и хозяйственных отношений, писатель в то же время создает картину почти идеальной гармонии.
Как подчеркивает Белов, структурная целостность крестьянской жизни в значительной мере была обусловлена неукоснительным следованием определенному ритму. Больше всего северные земледельцы боялись спешки. Вообще же, реконструируемый Беловым жизненный уклад во всем ориентирован на «золотую» середину, в нем нет места крайностям. Вековые обычаи культивировали сугубую умеренность и в труде, и в отдыхе: «В народе всегда с усмешкой, а иногда и с сочувствием, переходящим в жалость, относились к лентяям. Но тех, кто не жалел в труде себя и своих близких, тоже высмеивали, считая их несчастными»7 ; ««Сон - всему голова», - скажет ленивый, оправдывая собственную беспечность. «Сон - смерти брат», - подумает слишком рачительный труженик после того, как заставит себя проснуться раньше времени. Народный обычай не одобрит ни того, ни другого».72
Каждый член крестьянской общины постепенно находил профессию и место, соответствующее своим индивидуальным свойствам. Таким образом он вписывался в общую гармонически упорядоченную структуру, становясь одним из ее элементов. Важно было войти в общий ритм и следовать ему до конца. Жизненный путь человека был достаточно жестко регламентирован. В шлифовавшемся веками укладе предусматривалась буквально все - вплоть до необходимости периодически давать выход накопившимся деструктивным импульсам индивида: во время святок допускалось непристойно-хулиганское поведение. «Все было взаимосвязано и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, всему предназначалось свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди».73
На вопрос о том, насколько достоверна нарисованная в «Ладе» картина, трудно ответить однозначно. В работах некоторых этнографов и краеведов можно обнаружить характеристики крестьянской общины русского Севера, во многом перекликающиеся с беловскими. «...здесь из года в год, из века в век отлагался свой, крепкий и складный быт, -сказано, например, в работе Е. Тагер. - Наплывали новые волны переселенцев, приносили кой-какие осложненные навыки, расширенные понятия. Но суровый и крепкий жизненный строй, целиком выкованный в борьбе с природой и стихией, быстро отбрасывал все лишнее ... . Оставалось и укреплялось только то, что действительно и непременно потребно человеку. Весь уклад северной крестьянской общины крепок и несложен; он как бы построен по принципу - ничего случайного и ничего лишнего». Однако в целом справедливыми следует признать и суждения критиков, характеризующих «Лад» как ретроспективную утопию: «То, что составляло идеальную, лелеемую в мечтах «модель» крестьянской Вселенной, выглядит у Белова как реально существовавшая повседневность, как норма, которой следовали все и вся».75
Так или иначе, Белов-публицист смотрит на современную ему российскую действительность через призму гармонического жизненного уклада, воссозданного в эссе «Лад». Сам он еще в конце 1970-х, объясняя причины обращения к специфике прежней крестьянской жизни, говорил, что озабочен практическими задачами, связанными с осуществлением экономических и социально-нравственных преобразований: «Чем Белов занимается? Куда ни кинь, кругом клин: рождаемость в деревнях ниже нельзя, дороги разбиты, хозяйского глаза не хватает - а он сидит себе и пишет о народной эстетике. Потому и пишу, что надо сперва разобраться, как испокон веков крестьянская вселенная устроена была. И разобравшись, к делу приступать. Да не за одно что-то браться - одну ногу подымешь, другая увязнет, ведь в крестьянской вселенной все было взаимообусловлено, - а все разом тянуть».7
В публицистике последних лет автор «Лада» размышляет о том, как необходимо реформировать экономику, чтобы сделать ее по-настоящему эффективной. Он подвергает резкой критике все, что, по его мнению, противоречит традициям русской жизни, и предлагает, например, запретить продажу спиртных напитков («Народ спаивается. Спаивается централизованно государством» ), а также показ по телевидению женской аэробики, трансляцию рок-музыки и т. д. Впрочем, ввиду лживости большинства средств массовой информации, Белов-публицист настоятельно рекомендует своим читателям вообще ими не пользоваться: «Для того, чтобы выстоять, чтобы выдержать страдания и муки, внемли себе. Выключи радио и телевизор со всей его видеотехникой. Отбрось в сторону лживый газетный лист, выбрось его на свалку, если не хочешь быть обманутым».78 Причины царящего в России хаоса Белов-публицист чаще всего усматривает в активной деятельности сил, которые враждебны основам национального бытия, и призывает всех истинных патриотов с этими силами бороться. Именно мотив враждебных происков явных и тайных врагов России доминирует в беловской публицистике последних двух десятилетий: «Прежде всего надо разоблачить предателей, обличить наших тайных врагов. Не надо делать вид, что мы не знаем, что делать! Знаем прекрасно».
Однако же художественная проза писателя если и не опровергает доктрины, которые он озвучивает в качестве общественного деятеля и идеолога, то, во всяком случае, вносит в них весьма существенные коррективы. В публицистике (а также и в беллетристических текстах, где явно преобладает публицистическое начало) центральным оказывается вопрос о том, как сделать жизнь упорядоченной и ритмичной, то есть «ладной». Белов-идеолог размышляет о том, каким должно быть сосуществование отдельных элементов искомого совершенного социального целого. Он предлагает осуществить ряд энергичных мер, направленных на искоренение общественных пороков. Главное внимание Белов уделяет вопросу о том, как дать отпор могущественным силам зла -именно их разрушительная деятельность препятствует гармонизации российской жизни и бытия в целом. Между тем в художественной прозе Белова повторяется и варьируется мысль о принципиальной недостижимости гармонии.
Виктор Астафьев: мечты о братстве в жестоком мире
Как подчеркивалось в предыдущих разделах нашего исследования, в произведениях Белова и Распутина важную роль играет сопоставление прошлого и настоящего, в ходе которого обнаруживается несомненное превосходство традиционного уклада крестьянской жизни над современностью. При этом, разумеется, каждый из писателей во главу угла ставил какие-то специфические ценности прежней деревни, утрачиваемые или уже безвозвратно утраченные сегодня.
У Белова акцент был сделан на ладе - гармоническом порядке, который подчинял жизнедеятельность членов сельской общины единому ритму. В центре внимания Распутина оказалась сила характера индивида, способность личности жить и действовать без какой-либо оглядки по сторонам, реализуя персональный потенциал.
Что же касается В. Астафьева, то для него главным достоянием крестьянского прошлого является стремление и умение «жить союзно»1 3, которое вырабатывалось у человека еще в детстве, становясь затем его насущной необходимостью, бессознательной потребностью. Именно под этим углом зрения автор «Последнего поклона» сопоставляет прошедшее и современность, приходя к неутешительным выводам о распаде прежних связей между людьми: «Урбанизированные вчерашние крестьяне, ныне живя в современных блочных домах, зачастую не знают жителей своего подъезда и, если внизу кого убивают или грабят, могут не выйти на крик о помощи .. . . Пить и безобразничать в коллективном доме не перестали, а вот отделиться друг от друга ,. . смогли».
Разумеется, Белов и Распутин в своих произведениях также обращали внимание на сплоченность прежнего деревенского коллектива, противопоставляя ее нынешней разобщенности. Но у этих писателей коллективизм проявлялся главным образом в форме спокойной и обдуманной трудовой взаимовыручки крестьян. Так, герои «Канунов» помогают друг другу без спешки и излишних эмоций, в соответствии с вековыми земледельческими традициями - достаточно вспомнить описание «помочей» в начале строительства мельницы Роговыми, в которых принимает участие вся деревня. Во многом аналогичным образом привыкли действовать старухи и старики из распутинских повестей. У Астафьева же речь идет именно о братстве, принимающем форму бурного, стихийного, а порой исступленно-экстатического порыва, когда, ради спасения ближнего, нерасчетливо, без малейших колебаний жертвуют собой: «...я вот по сей день слышу крики на берегу и вопли женщин - это какого-то дурака понесло через Енисей во время подвижки льда, и, спасая его, наших деревенских мужиков утонуло четверо».105 Братство, к которому устремлены астафьевские герои, предполагает крайнюю степень родства душ, едва ли не слияние их.
Вообще же, вести речь о всякого рода идеологических доктринах применительно к астафьевскому дискурсу необходимо с существенной оговоркой: нередко оценки, суждения, выводы, содержащиеся в художественных произведениях, статьях и письмах этого писателя, носят всецело эмоциональный характер. В особенности же экспрессивны и субъективны его обличительные инвективы. Уже в самом начале творческого пути Астафьева критик А. Макаров назвал важнейшим элементом его мироощущения «обжигающую, как кипяток, солдатскую ненависть к социальному злу»106. И действительно, сталкиваясь с различными проявлениями зла, Астафьев как правило реагирует именно по-солдатски: он выплескивает аффективный гнев, нисколько не задумываясь о какой бы то ни было политкорректности, а подчас и вопреки объективности. Однако в наиболее совершенных его произведениях («Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Царь-рыба» и т. д.), помимо непосредственной эмоциональной (и нередко весьма субъективной) реакции на явления изображаемой действительности, развернут также и глубокий социально-философский их анализ, в результате чего жизнь предстает бесконечно сложной и противоречивой.
Воссоздавая уклад жизни прежней сибирской деревни, в которой родился и вырос, Астафьев бесконечно далек от какой бы то ни было идеализации. Темные стороны этого уклада писатель изображает с максимально возможной откровенностью и, отдавая «последний поклон» миру деревенского детства, никогда не забывает, по справедливому выражению Е. Стариковой, добавить ложку дегтя в бочку меда. Астафьевская концепция крестьянской жизни (и национальной жизни в целом) «чужда сентиментальному умилению»108.
Герои «деревенских» глав автобиографического «Последнего поклона» в большинстве своем совершенно не похожи на спокойных, избегающих крайностей и тяготеющих к «золотой» середине тружеников-земледельцев, изображенных в «Ладе» и других произведениях Белова. Астафьевской «почвой» стала сибирская деревня, занятая по преимуществу таежным промыслом. Разумеется, на страницах автобиографических произведений писателя встречаются и образы степенных крестьян-земледельцев, напоминающих персонажей Белова или Распутина. Таков прежде всего дедушка главного героя «Последнего поклона» по материнской линии, человек спокойный и основательный: «Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо» (3,58). Он и умирает как истинный крестьянин-труженик: «Отяжелел, износился в работе дед Илья Евграфович. Отбыв последний свой срок на земле, он еще сходил в баню, обмылся, надел чистое, лег на свой курятник, уснул и больше не проснулся. Тихую, без мучений, принял кончину дед. Он ее такую заслужил - единодушное было решение на селе» (3,293). Но дед рассказчика «Последнего поклона» по материнской линии был в своей деревне скорее исключением из общего правила, каким-то подобием белой вороны. Так, например, другой дед автобиографического героя являл собою ему полную противоположность: «Крупному, молчаливому человеку, земному в деяниях и помыслах, Илье Евграфовичу противостоял чернявый, вспыльчивый, легкий на ногу, руку и мысль, одноглазый дед Павел. ... Дед Павел был еще лютым картежником ... . Занимался дед Павел рыбалкой и охотой, без особого, правда, успеха. ... Хлебопашеством, землей и каким-либо устойчивым делом дед Павел не занимался и о постоянном труде понятия не имел. ... Сесть, задуматься, взяться за ум, как старомодно выражалась моя бабушка Катерина Петровна, деду Павлу было попросту недосуг - жены не держались в его дому, сламывались от бурности жизни, валились под напором пылкой натуры деда, оставляя малых сирот» (3,300).
Дед Павел оказывается в «Последнем поклоне» весьма типичной фигурой. Не слишком склонные к земледельческому труду, требующему аккуратности и самодисциплины, азартные герои астафьевского автобиографического произведения тяготеют к охоте и рыбалке, где так велика роль удачи, «фарта». Их души, которые писатель называет «пространственными», жаждут крайностей («...беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет» (4,20), им чужда воспетая Беловым ритмическая упорядоченность. Если уж работать, то «на износ»: «...все делали с маху и в работе себя вели, как в драке» (3,439). Если отдыхать, то опять-таки без норм и ограничений. В этом плане представляется характерным образ жизни, который вел вместе с супругой один из дядей автобиографического героя «Последнего поклона», Кольча-старший: «работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить» (3,196).
Несгибаемые «Строптивцы» Бориса Можаева
Подобно В. Распутину, В. Можаев во главу угла ставит самостоятельность и независимость человека. Но у автора «Прощания с Матерой» личность предстает сакрально-мистическим образованием и окружена ореолом метафизической тайны: индивид множеством незримых нитей связан с поколениями предков, прах которых хранит земля, и, чтобы не изменить себе, обязан прислушиваться к глубинным внутренним импульсам, зачастую иррациональным и загадочным. Можаева же интересует прежде всего житейский, социально-нравственный аспект проблемы независимости личности. Его любимые герои, «строптивцы»147, в большинстве своем далеки от эзотеризма и мистицизма, они отчаянно отстаивают свое право жить по собственной воле, опираясь прежде всего на житейскую логику и здравый смысл.
Хотя важнейшим условием подлинной независимости является право индивида распоряжаться своим имуществом, можаевские персонажи без колебания готовы пожертвовать собственностью и любыми материальными благами ради возможности жить по собственной воле, не подчиняясь чужим указам. В этом плане очень показательны размышления главного героя романа «Мужики и бабы» о перспективах, которыми для него чревата коллективизация: «Пусть все возьмут - дом, корову, лошадь... Пусть землю обрежут по самое крыльцо... В баню переселюсь -и то проживу. Проживу-у! Лишь бы руки-ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию... Хоть на работу или эдак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя да по команде, по щучьему велению да по-дурацкому хотению не кидали бы огня да в полымя. А все остальное можно вынести...».
Соответственно, сопоставляя прежнюю жизнь русской деревни с современной действительностью, Можаев делает упор главным образом на издавна присущую лучшей части отечественного крестьянства самостоятельность и личную инициативу: «Ах, это извечная, мятежно-сладостная тяга к самостоятельности да независимости. Независимость! Слово-то вроде бы и неважное, как говаривал Пушкин, да уж вещь больно хорошая. Это поразительное свойство характера русского мужика - идти хоть на край света и на свой страх и риск, брать дело по нутру да по силам, вживаться в незнакомую природу, в инородную стихию и, подлаживаясь к ней, подчинять ее не силой, а сноровкой да сметливостью - приобщило к нашему государству восьмую часть земного шара под названием Сибирь».149 «Уходя на новые земли, русский крестьянин не просто искал святое Беловодье, край изобилия и красоты, он уносил с собой мечту хозяйствовать без помещиков, без начальства. Он сам хотел распоряжаться урожаем, плодами своего труда».
И в художественной прозе, и в публицистике Можаева подчеркивается, что в советские годы происходил процесс неуклонной утраты этой самостоятельности и независимости. Конечно, Можаев, как и другие представители «деревенской прозы», не ограничивался лишь критикой пороков социалистической системы, в его текстах ставится вопрос о негативных тенденциях, присущих современной постиндустриальной цивилизации в целом, ибо индивид повсеместно превращается из хозяина в работника, в деталь огромного механизма, становясь объектом манипулирования. Однако в первую очередь речь у Можаева, разумеется, идет о специфических отечественных проблемах.
Автор «Мужиков и баб» далек от идеализации дореволюционной России, но буквально все сопоставления прежней жизни с современной оказываются в его произведениях не в пользу последней. И всякий раз причина перемен в худшую сторону, в сущности, одна - катастрофический дефицит личной инициативы. Так, например, по мысли Можаева, проблема бездорожья раньше не была, вопреки широко распространенному мнению, столь острой, как сегодня: «Их, мол, и раньше не было, дорог-то. Наследие прошлого! Ну, разумеется, старые дороги были проложены для старого транспорта - гужевого, конного то есть. За пятьдесят лет транспорт стал другой - автомобиль. А дорога все та же - конная. Кто виноват? Деды? Кстати, они умели довольно быстро ездить. Вспомните-ка: «И какой же русский не любит быстрой езды?..» Где же летала знаменитая гоголевская птица-тройка «ровнем да гладнем»?..».151 Нынешние унифицированные, построенные по планам и проектам, спущенным сверху, сельские населенные пункты не выдерживают никакого сравнения с рожденными творческой и хозяйственной инициативой самих тружеников старыми русскими деревнями, украшениями которых были церкви: «Ведь посещали же раньше церкви... И строили их не в каждой малой деревне, а на целый куст, приход то есть. А в ином селе по две, а то и по три церкви ставили. И представьте себе, построены не по типовому проекту, а по индивидуальному. Каждая церковь была неповторима и даже с архитектурными излишествами - с колокольнями. А в иных местах топором срублены, без единого гвоздика... Какие места выбирали для церквей! Загляденье!.. И поди же ты - сами мужики... так что же случилось? Почему церкви были красивы и оригинальны, а деревенские клубы почти все на одно лицо? Неужто наши колхозы беднее старых крестьянских общин?».
Наблюдая в Осташковском районе Калининской (ныне Тверской) области катастрофический упадок и запустение, писатель с горечью вспоминает процветание этого региона в прежние времена: «Народ здесь жил предприимчивый, мастеровой. Здесь и пряли, и ткали, и копья да косы ковали. На всю Россию шли из Осташкова знаменитые косы-литовки, а мягкой, шелковой выделки красная юфть и в Америке на вес золота ценилась. А льны какие выращивали! Здесь умели считать копейку - в лесном окружении сами «кирпич били». Здесь не лепили избушки на курьих ножках»; «Когда-то по этому старинному торговому тракту скотогоны гнали огромные гурты скота. Здесь на лесных пастбищах, по отаве на заливных лугах, на пожнях нагуливались они перед тем, как идти на шумный Осташковский рынок, на скотобойни, на колбасные, на знаменитые кожевенные заводы. Осташковский хром, спиртовые подошвы, красная юфть мягкой, шелковой выделки на вес золота ценились на своем и заморском рынке».154
Разумеется, хозяйственно-экономический упадок, как не устает подчеркивать Можаев, явился закономерным следствием процесса духовно-нравственной деградации значительной части российского населения. В этом процессе особую роль писатель неизменно отводит коллективизации. Непосредственное изображение «великого перелома» развернуто Можаевым в романе «Мужики и бабы», однако и в подавляющем большинстве своих художественных и публицистических текстов писатель так или иначе обращается к этому ключевому для русской истории XX века событию, предопределившему превращение инициативного и независимого крестьянина в ленивого и равнодушного к результатам своего труда исполнителя.