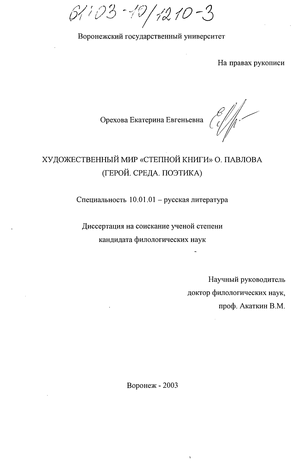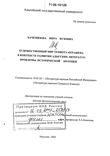Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Человек и мир в «Степной книге» О. Павлова (бытийные координаты существования героев) 11
1. Пространство и время 12
2. Природа и ее образы 23
3. Нравственно-императивный центр системы образов 42
4. Материальная культура 56
Глава II. Оппозиция «человек - общество» в «Степной книге» (социальное самоопределение героев) 67
1. Социальный хронотоп 69
2. «Режим» как собирательный образ государственной власти 93
3. Социально-бытовой план 109
4. Личностный потенциал героев и варианты его реализации 146
Заключение 155
Библиография 164
- Пространство и время
- Природа и ее образы
- Социальный хронотоп
- «Режим» как собирательный образ государственной власти
Введение к работе
Современный литературный процесс, как известно, представляет собой комплекс чрезвычайно разноплановых явлений. Его неоднородность обусловлена не только немалым числом участников - творческих индивидуальностей, но и параллельным развитием нескольких литературных течений. Сочетание двух этих факторов делает современную литературу особенно сложной для глубокого изучения. Принцип движения «от общего к частному» практически дискредитировал себя, что особенно ярко проявилось в полемике вокруг «нового реализма» девяностых годов.
Н. Лейдерман и М. Липовецкий пишут о «глубочайших структурных мутациях реализма» в XX веке. Их начало литературоведы видят в поэзии О.Мандельштама и Б.Пастернака 30-х годов, в романах А.Платонова, в то время как первооткрывателем «новой, релятивной эстетики» называют М. М. Бахтина. Последняя ссылка логично должна увести нас в поисках начал «новой» эстетики и «художественной парадигмы» к объектам исследований Бахтина - в первую очередь, к творчеству Достоевского. И в таком случае правомерно, мягко говоря, сомнение в новизне этого реализма. Но Лейдерман и Липовецкий рассуждают о творческом методе, формирующемся на базе новой «парадигмы художественности»: «В ее основе лежит универсально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения непрерывно меняющегося мира и открытости авторской позиции по отношению к нему. Творческий замысел перестал быть некоей гипотезой, требующей реализации или проверки. Творческий замысел стал вопросом» (105; 256). Очевидно, о наличии сколько-нибудь серьезной авторской позиции в данном контексте говорить не приходится. Объясняется это уверенностью Лейдермана и Липовецкого в существовании «общих корней» у постмодернизма и постреализма, в стремлении последнего к поиску внекаузальных связей и постижению хаоса.
Павел Басинский, представитель другого направления в современной критике, совсем иначе видит исходные позиции «неореалистов». В его интерпретации реализм - «это степень доверия к божьему миру и его сокровенному смыслу. Задача художника не «изучать» жизнь и людей, ни тем более «изменять» их, но - благородно и прозрачно отражать их «замысел» в тех самых формах, в которых он уже состоялся в мире» (56; 64).
И в одном, и в другом случае заметно выдвижение исследователями на первый план мировоззренческого, идейно-проблемного аспекта литературы. Такая односторонность заставляет вспомнить о том, что, по словам С. М. Петрова, «в качестве principius divisionis реализма, как и всякого иного художественного метода, должен быть взят способ изображения писателем человека и среды, его внутреннего мира, окружающего внешнего мира, составляющих две взаимосвязанные стороны единого предмета художественного познания» (126; 24). Однако в отсутствие глубокого, вдумчивого анализа творчества каждого писателя оказывается заведомо невозможным серьезное типологическое исследование. Результат -противоречивые представления не только о сущности конкретного литературного течения, но и о его составе. «Новыми реалистами» называют подчас совершенно разных писателей. В одних случаях это В. Маканин, Ф. Горенштейн, В. Пелевин, Л. Петрушевская. В других - С. Василенко, В. Отрошенко, М. Тарковский, Б. Екимов, О. Павлов.
Актуальность данной работы связана с тем, что подобная ситуация просматривается не только в критике, но и в научных работах, посвященных анализу явлений литературного процесса последнего десятилетия. Большая часть исследований носит обзорный, историко-литературный характер (притом, что современная словесность вообще редко рассматривается как объект, достойный научного рассмотрения). Кроме того, очевидна сосредоточенность внимания диссертантов на творчестве авторов, продолжающих модернистскую линию развития литературы, и на отдельных аспектах «ситуации постмодерна». В подобных обстоятельствах настоящее исследование, как нам представляется, служит сохранению, накоплению и расширению не только аналитических историко-литературных данных (в виде конечных результатов), но и методологической базы литературоведения. Объектом анализа является творчество активного участника современного литературного процесса, незавершенное по определению, и это обусловило необходимость разработки и применения некоторых новых подходов и приемов. Совокупность названных факторов обеспечивает научную новизну работы. В круг материалов исследования входят не только различные печатные редакции отдельных рассказов, но и их электронные варианты в Интернет, периодически подвергающиеся авторским правкам (отслеживание такой динамики позволяет уточнить представления о функциональности тех или иных элементов поэтики в художественном мире «Степной книги» и выявить отдельные содержательные нюансы). Привлекаются для анализа и нехудожественные тексты Павлова, которые следует разделить на две группы: социально-политические очерки и литературно-критические статьи. Их сопоставление с художественной тканью повествования, проводимое последовательно, способствует обоснованности и объективности выводов относительно авторской позиции и идейного содержания книги, а в некоторых случаях помогает установить меру своеобразия или традиционности поэтики писателя (поскольку явления, оказывающиеся в поле зрения Павлова-критика, зачастую коррелируют с творческими поисками и находками Павлова-прозаика). Кроме того, нельзя недооценивать и значение для исследования возможности непосредственного общения с автором.
Методологической основой данного диссертационного исследования послужили труды А.А. Потебни, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.Ф. Лосева, Ю.Н. Тынянова, Д.С. Лихачева, Л.Я. Гинзбург, В.Б. Шкловского, Б.О. Кормана. Глубокий анализ явления современной прозы был бы невозможен при использовании какого-либо одного метода. Поэтому в работе используются возможности историко-литературного, сравнительно-типологического и системно-структурного подходов.
Остановимся на том, что определило выбор предмета нашего исследования. Олег Павлов - один из наиболее заметных писателей последнего десятилетия. За свою еще сравнительно недолгую творческую деятельность (первые рассказы были опубликованы в 1990 году) он неоднократно удостаивался различных литературных премий. Самая значительная из них -«Букер - Открытая Россия» - 2002 за повесть «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней», хотя впервые молодой писатель был номинирован на «Букера» еще в 1995 г. со своей первой повестью «Казенная сказка». С 1997 г. он является членом общественного совета и литературным консультантом журнала «Октябрь».
Павлов активно выступает в печати и как публицист - его очерки сложились в несколько циклов: «Нелитературная коллекция», «Русские письма», «Дневник больничного охранника». Кроме того, он одним из первых среди современных прозаиков обратился к литературной критике и стал автором немалого количества серьезных работ, посвященных творчеству русских писателей как нашего времени, так и иных литературных эпох (циклы «Классики и современники», «Метафизика русской прозы»). Книги Павлова переводились на английский, китайский, итальянский и словацкий языки.
Однако проза Олега Павлова до сих пор практически не оказывалась в поле зрения литературоведов, тогда как пристальное внимание к ней литературных критиков с их разноречивыми интерпретациями и оценками (библиография критических откликов насчитывает более полусотни публикаций) служит достаточно серьезным аргументом в пользу необходимости именно научного, системного рассмотрения творчества писателя.
Одни критики упрекают автора в том, что он эксплуатирует и постоянно «перепевает» единственную тему, выплескивает на бумагу личный жизненный опыт, не утруждая себя художественным освоением материала ( Д. Бавильский). Другие оценивают творчество писателя как «эпигонство «чернухи» (А. Агеев). Третьи видят в «мучительной прозе» Павлова нечто цельное, обладающее внутренним единством и постоянно находящееся в развитии - «большие романы, одушевленные национальной идеей и национальной традицией» (В. Славецкий, М. Абашева).
Что же касается собственно научных исследований, то в них литературная деятельность Павлова остается на периферии. Обзорно-тематические работы оказываются посвящены иной проблематике или иным тенденциям в современной литературе, а иногда и просто не затрагивают последние из вышедших в печати произведений. Так, в защищенной в 1997 г. кандидатской диссертации А.Н. Варламова «Апокалиптические мотивы в русской прозе конца XX века» нет ссылок на рассказ Павлова «Конец века», опубликованный в 1996 г. Л.Х. Насрутдинова в кандидатской диссертации на тему «Новый реализм» в русской прозе 1980 - 90-х годов: (Концепция человека и мира)» также не упоминает его имени, несмотря на то, что, по мнению многих критиков, «О. Павлов - самый, быть может, яркий представитель этого течения в современной литературе» (47; 228). Екатеринбургский литературовед М.П. Абашева, которой принадлежит приведенное высказывание, в 2001 г. защитила докторскую диссертацию «Русская проза в конце XX века: (Становление авторской идентичности)», где обращается к рассмотрению деятельности Павлова в двух аспектах. Так, в контексте рассуждений о литературных манифестах в центре внимания исследовательницы оказывается публикация 1996 г. под названием «Коренной вопрос. Манифест русских традиционалистов» (47; 3). Далее, не выходя за рамки означенной темы, М.П. Абашева подробно анализирует «вольные рассказы» Павлова («Эпилогия» и «Яблочки от Толстого»), с их идейно-художественной интерпретацией литературного быта и писательского самоопределения.
Таким образом, настоящее исследование посвящено значительным, но практически не изученным страницам современного литературного процесса.
Цель нашей работы - раскрыть специфику идейно-художественной концепции мира и человека в прозе Олега Павлова. Главным же объектом исследования избрана «Степная книга», и тому есть несколько веских причин.
Во-первых, среди двадцати девяти рассказов, вошедших в книгу, есть и ранние, опубликованные еще в начале девяностых, и те, что были написаны гораздо позднее, специально для сборника. «Степная книга» - это для меня первый сознательно подведенный итог», - утверждает автор в предисловии, и такая продекларированная этапность, безусловно, должна привлечь внимание заинтересованного исследователя.
Второй аргумент в пользу особой значимости «повествования в рассказах» для изучения и понимания всего творчества Павлова - прямая соотносимость многих рассказов с крупными произведениями. Так, главная коллизия и центральный образ первой повести, «Казенной сказки», сначала появились в рассказе «Земляная душа», а «Беглый Иван» - напротив, переработка одной из сюжетных линий, не вошедших в повесть, как и «Горе в котелке». «История водочной вышки» связана с романом «Дело Матюшина». Следовательно, «Степная книга» неразрывно связана с другими работами Павлова этого периода не только авторством, но и общей проблематикой, близкими художественными решениями, и ее анализ открывает широкие исследовательские перспективы. «Степная книга», с ее пафосом многообразия и сложности жизни в «борющемся вечно и то погибающем, то возрождающемся мире» (30; 74), ставит и решает проблему ценностных ориентиров человека в формализованном, «казенном» социуме. Она выступает конфликтообразующим началом в большинстве произведений Олега Павлова - как художественных, так и публицистических, однако именно «Степная книга» в силу указанных выше причин наиболее детально и всесторонне отображает писательскую концепцию мироустройства.
Задачи работы заключаются в следующем:
Выявить типологические черты героев на основании анализа их характеристик и поведенческих моделей.
Установить внутреннюю иерархию, структуру системы образов, исследовав ее структуру и состав каждого из уровней.
3. Проанализировать способы выражения авторской позиции. Исследование «нового реализма» как современного литературного течения с установлением меры его традиционности не входит в число задач нашей работы (ввиду обилия и разнообразия индивидуально-авторских стилей внутри группы авторов). Однако невозможно глубоко анализировать отдельное произведение вне его роли и места в литературном процессе, а, следовательно, необходимым представляется рассмотрение «Степной книги» с точки зрения ее идейно-художественного своеобразия в контексте национальной литературы.
Мы остановимся на связях Олега Павлова с русским реализмом, так как писатели, принадлежавшие к этому направлению, наиболее остро ставили проблему деятельного и духовного взаимодействия человека с его социальным окружением. Именно в их прозе появился, а впоследствии был всесторонне разработан тип «маленького человека» в конфликте со «средой» и государством.
Практическое значение работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы в вузовских лекционных курсах, посвященных современному литературному процессу, в соответствующих спецкурсах и спецсеминарах, а также оказаться полезными для школьных учителей, так как отдельные произведения Олега Павлова были рекомендованы для изучения в рамках школьной программы по литературе XX века.
Положения, выносимые на защиту:
1. Художественный мир «Степной книги» представляет собой сбалансированную систему, в которой представлены две модели отношений (бытийно-природная и искусственно-социальная).
Соположение и противостояние этих моделей в сюжетах рассказов является конфликтообразующим началом в общей концепции книги.
Образные структуры сфер природного бытия и социальной жизни человека легко сопоставимы по своей организации.
Главной характеристикой героя «Степной книги» является его двуначалие, одновременная принадлежность к обеим парадигмам бытия. Этим определяется заведомая конфликтность существования человека в мире.
В основе типологии героев лежит самоопределение - выбор нормативно-ценностных приоритетов и сам характер такого выбора (степень его зависимости от внешних обстоятельств или иной обусловленности ими).
Подбор Павловым средств поэтики, ориентированных не на изображение, а на выражение по ассоциативному, коннотативному принципу тех или иных закономерностей (а с их помощью - идей) реализует представление писателя о приоритете душевной, эмоциональной активности человека перед рационально-логическим осмыслением мира.
Пространство и время
Ни документальное, ни художественное повествование невозможны без обозначения координат, в которых разворачивается действие. «Степная книга» как «произведение с автобиографическим корнем» (205; 124) неизбежно совмещает реальную пространственно-временную конкретику с весомыми деталями творимого мира, в результате чего даже достоверная фактография входит в парадигму художественных характеристик - уже не места и времени, а героев и их внутренней жизни. Так появляются «несвободные люди в безумно просторной, безграничной азиатской степи... ... Человек и степь - они взаимно опалены» (205; 125), - замечает К.Кокшенева. Поэтому анализ системных связей и взаимодействий в «степной саге» Павлова представляется наиболее логичным начать с рассмотрения не социальных отношений и контактов, а ситуаций столкновения человека с изначальным миропорядком (в том числе - попыток его трансформации).
Пространство, где действуют персонажи рассказов «Степной книги», крайне неоднородно: во-первых, по протяженности, во-вторых, по наполнению, в-третьих, по своему значению.
Есть рассказы, место действия которых ограничено стенами одной комнаты, тогда как в других пространство размыкается на Вселенную. По мере углубления в художественный мир книги становится очевидным, что автор намеренно сталкивает и противопоставляет два типа организации пространства: «замкнутый» и «открытый».
Разумеется, это своего рода полюса, причем для понимания сути их противоположности следует признать за предложенными определениями известную долю условности. Она порождается присутствием в тексте по крайней мере двух точек зрения, с которых должны восприниматься территориальные границы.
Первая из них - взгляд человека, находящегося внутри ограниченного пространства. Этот взгляд замечает и осмысливает пределы и барьеры, рукотворные по своей природе. Их конкретное воплощение - образы «зоны», ее заграждений, ворот, внутреннего деления территории. При этом обращает на себя внимание высокая степень детализации и элементы «оживления», олицетворения. Например, в «Караульной элегии» солдаты, томясь на посту, скользят глазами по знакомой до последнего гвоздя караулке. «Выложенная нетесаными глыбами, она и тогда бы отворяла с неохотой тяжелые, окованные железом двери, когда бы выносили из нее в гробах». Но даже звезды на створах этих дверей - «набухшие и рыжие, как сосцы» (30; 23). Такое сравнение проявляет подспудные мысли солдат, среди которых, помимо всего прочего, еще и нескончаемая тяга к живому теплу, спасающему от постоянного страха.
Учитывая то, какую почти магическую власть имеют ограждения зоны для тех, кто служит в ней (все они чувствуют себя такими же заключенными, как и сидящие в камерах), становится понятно, почему в сознании персонажей какое-либо деление пространства возможно только в горизонтальной плоскости. Вертикаль, напротив, воспринимается ими свободной и легко доступной. В некоторых случаях это мотивируется реальным психофизическим состоянием персонажа: «Укол делают, и я лечу высоко над миром. Парю так высоко, что он, после долгой бессонницы,., уже не потревожит моего сна. А когда перестанут делать уколы, я ступлю на грешную землю...» (30; 17). Однако подобное восприятие мира вообще свойственно персонажам «Степной книги», и доказательство тому - легкость, с которой они мысленно перемещаются над всем и вся («Облака»), и «фамильярное» чувство близости к небу («Мировая ночь»).
Объясняется эта левитация не чем иным, как особенностью человеческой психологии - стремлением искать выход из безвыходной ситуации (объективная несвобода влечет за собой поиск мнимого освобождения). Кроме того, существует и фабульная, «ролевая» мотивация: все внимание действующих лиц оказывается приковано к соблюдению наземных границ хотя бы по долгу службы (ведь многие персонажи «Степной книги» - конвойные или караульные).
Важной художественной характеристикой такой организации пространства являются многочисленные образные свидетельства того, что рукотворные границы нарушают первичную гармонию и свободу, которыми природное сообщество издавна отличалось от человеческого. Теперь же, «народившись в лагере, ящерки и погибали в нем. Как ни трудись, а не могли они на волю из бурой накипи проволок выплеснуться» (30; 22). Да и человека как существо изначально природное такая «ограниченность» лишает полноценной жизни, и караульным ничего не остается, кроме как «выгуливать свои присмиревшие в заточении души» (30; 23).
Природа и ее образы
Пространство и время - лишь две формы воплощения внешнего для человека мира в прозе Павлова. Еще одна из таких «материализации», не менее важная в иерархии образов и смыслов - природа. Она может присутствовать в тексте в форме пейзажа (в том числе пейзажных деталей) или напоминать о себе в облике всевозможных живых существ.
Степные ландшафты, помимо оговоренной выше символико-метафорической функции, иногда используются писателем для создания психологического параллелизма и раскрытия внутреннего мира персонажей - в полном соответствии с литературной традицией. Однако в «Степной книге» этот прием встречается крайне редко - Павлов избегает «готовых» знаков, которые легко раскодируются читателем.
Пейзажные зарисовки у него всегда метафоричны, индивидуальны и мотивированы актуальным для персонажа жизненным и эмоциональным опытом. Осознать всю глубину погружения во внутренний мир героя (чаще всего - рассказчика) читателю нередко помогает композиционная инверсия, которая сначала предлагает неожиданное описание подчеркнуто обычного явления, а потом всем ходом действия раскрывает природу подобного нестандартного восприятия. С этой точки зрения особенно интересен фрагмент рассказа «Облака». «А тогда было утро. И если сейчас бежать на багровый закат, сквозь ночь, без продыху, то, может, догонишь его? Оно покуда и глазам моим видно, на краешке земли стоящее, куда долгим днем вели его по степи убивать, опрокидывать навзничь - пасмурное утро того дня...» (30; 40) В дальнейшем мы узнаем, что так преобразило мир в глазах рассказчика убийство сослуживца, происшедшее в его присутствии. Вместе с кровью, вытекавшей из тела Смирова, уходило в песок время его жизни, и отчаянное желание героя повернуть минуты и мгновения вспять вылилось в бешеную мысленную гонку по степи за временем в режиме обратного отсчета.
Нетрудно заметить и дополнительные функции подобных описаний: характеристику хронотопа и создание эмоционального накала повествования. В «Горе в котелке» степной вечер обступает душную и темную столовую, где томятся своим несчастьем солдаты, и облекает в природные формы зловещее напряжение, нарастающее за столами, «долговязыми и тощими», как сами служивые. «...Ветер вылепливал из глины облаков прохладные степные сумерки, которые закат багряно обжигал и суровил» (30; 21). Кроме того, олицетворение природных явлений в контексте рассказа может быть расценено и как намек на существование вполне «одушевленных» виновников солдатского горя, явившегося причиной их - общего с природой - состояния.
Пейзажные детали в прозе Павлова порой играют совсем неожиданную роль. Приобретая особую значимость, они могут служить средством создания конфликта и одновременно выражать его сущность. Наилучший пример этому - в рассказе «Между небом и землей».
Здесь нет индивидуально прописанных персонажей, кроме рассказчика, да и тот, позволяя заглянуть в свою святая святых, на самом деле раскрывает всеобщие закономерности (таким образом доказывая единую природу столь различных проявлений человека). Страстное желание солдат смотреть «на что-то свое» (30; 12) наталкивается на скупость степного пейзажа. «Камешков в арыке хватало не многим, и бывало, что их делили взглядами гневно. Я и сам обнаруживал в себе глухую ненависть с болью, когда, глядя по обычаю на свое деревце и размышляя с ним о чем-то сокровенном, примечал, что кто-то также глядит на него» (30; 12). Вот он, элегизм - с его «безысходным одиночеством» (156; 480). Условность ситуации заставляет делиться «скорбью и откровениями» с деревьями, а не друг с другом, и, более того, вести ожесточенные схватки с чужими взглядами. Впрочем, в этой условности уже читается намек на суть отношений между людьми в их реальной жизни.
Итак, пейзажные детали вводят читателя в атмосферу борьбы за сокровенность и неприкосновенность мечты. Но они же служат и основанием для различения персонажей по их жизненным позициям. Так, добровольный или вынужденный отказ от соперничества за «что-то свое» обращает взгляд на «желтую стужу песков», но еще с первых строк рассказа становится известно, что «у глядящих в пустыню глаза были тусклы и бессмысленны, и потому они мертвели, подобно каменным изваяньям» (30; 12). Другая уступка давлению извне - уход в себя: «Свободней было глядеть на морщины ладоней», однако оговорка есть и здесь: «Покуда они были твоими» (30; 13). Как это часто бывает у Павлова, выводы оставлены на долю читателя, но нити, протянутые в последующие рассказы, проясняют авторскую мысль: добровольное одиночество в конечном итоге отчуждает человека от самого себя («Живой» и др.). Пустыня, камешки и деревца становятся прибежищами солдатских взглядов, а в итоге - воплощениями их душ. Эта миниатюра - развернутая метафора самоопределения человека и притча о выборе жизненного пути.
Между небом и землей, согласно притче, находятся люди, которые не могут обратить взгляды друг на друга, и потому их связь опосредована, согласно образному строю рассказа. Соответственно, и конфликт теряет остроту действия и переходит в констатацию общечеловеческой проблемы - не случайно манера повествования отсылает нас к евангельской традиции.
Социальный хронотоп
Общество любого типа - это люди, живущие по определенным нормам и установлениям, существование и неукоснительное исполнение которых обеспечивается властными и правоохранительными структурами. Поэтому пресловутая «армейская тема» прозы Павлова по определению обладает большим потенциалом для раскрытия общих закономерностей социального устройства в сжатом и, как показывает художественный материал, довольно гиперболизированном виде.
С. Федякин в рецензии на «Степную книгу» замечает: «Олег Павлов лучшее пока написал о караулке и только о караулке. Пока он дал только «часть бытия» - грубо, сильно, подчас горестно. Удастся ли ему, говоря об этой «части», сказать о большем - вопрос...» Впрочем, это вопрос еще и о последовательности критика, который чуть выше сам признает за писателем умение «заставить звучать то, что не было произнесено» (240).
Тем не менее, неоспорим тот факт, что Павлов сознательно отбирает в качестве первичного материала для своих произведений реалии определенного свойства. Прежде всего это события, разворачивающиеся в армейских «декорациях». Такой критерий отбора признается некоторыми исследователями как концептуальный для русской литературы девяностых годов - в частности, для ее направления, ориентированного на этику и эстетику классического реализма XIX века. М. Липовецкий, развивая теоретические выкладки А. Эйстейссона о реалистическом видении социума, пишет, что «общество, основанное на принципе равенства - общество, в котором значения и смыслы равномерно «поделены» между его членами, в литературе... 90-х годов - это, как правило, армия. ... Возможно, потому, что для «равномерно разделенных значений» нужны особые мотивировки, а именно: тотальность насилия и власти, в полной мере обеспечиваемые хронотопом армии / войны» (106; III, 77). В этом утверждении исследователь опирается на ряд литературных примеров, в том числе, прозу Павлова. Дальнейший ее анализ позволит нам убедиться в справедливости тезиса М. Липовецкого о «равномерном разделении смыслов» в рамках армейской модели, если подразумевать под ним равенство персонажей перед воздействием главных «мотивировок», которые являются системообразующими в павловской модели армии-общества. Спорным применительно к интерпретации «Степной книги» представляется объяснение армейской доминанты исключительно исторической актуальностью социальных проблем, связанных с этим институтом. Липовецкий полагает, что армия заменила в литературе 90-х годов более ранний хронотоп Зоны, востребованный по тем же причинам в 60-70-х. Однако Павлов сочетает обе модели, преодолевая не только хронологические, но и социальные стереотипы, доказывая единоначалие этих способов существования. Подробное рассмотрение связей между образами армии и «зоны» последует ниже, а на данном этапе представляется более важным доказать то, что армейская жизнь в «Степной книге» играет роль частного случая организации жизни в обществе, разрастаясь до всеобъемлющей модели-символа.
В своем исследовании мы уже обращались к проблеме экстраполяции явлений, изображенных Павловым в «Степной книге», на реальность более широких пространственно-временных координат. Такое же «расширение в подтексте» используется автором и для воссоздания облика социума. В конкретике описаний армейских будней отчетливо видится перспектива, открывающая иные области жизни и деятельности человека, причем этот принцип изображения объединяет многие художественные произведения Павлова, далеко отстоящие друг от друга по времени написания.
Еще в «Казенной сказке» мы встречаем строки о томительных днях в лагерном поселении Карабаса, которые «дышали кислыми щами и текли долго, тягостно, наплывая, будто из глубокой старины» (42; 9). И это создает классический образ русской глубинки, провинции, перенесенной в глушь Казахстана, куда собраны люди из всех городов и весей. А главная тема повести - то, что знает еще в ее начале капитан Хабаров: «Никакой службы здесь нет. А есть одно лихо на всех, одна лямка...» (42; 9). Поэтому образ армии расширяется до образа страны с той жизнью, которой живут люди на ее просторах - и жили всегда (если соотнести сюжет с эпиграфом-посвящением «русским капитанам, этим крепчайшим служакам, на чьих горбах да гробах покоилось во все времена наше царство-государство...»).
В «Деле Матюшина» мы встречаем иной ракурс армейской темы, который связывает ее не только с микросоциумом, но и с частной жизнью главного героя. Его отец, Матюшин-старший, командир стратегического дивизиона, командовал и «почти военным городком» (42; 179), не без основания чувствуя себя хозяином этого провинциального местечка, где угнездился гарнизон. Так с помощью одного персонажа на нить единых законов жизни нанизываются семья, армия и «штатский» город.
В «Степной книге» связь армии с обществом в целом более сложная и развернутая. Во-первых, объединяющим началом служат сквозные мотивы.
Они сперва утверждают какое-либо явление или качество как свойство или продукт армейских «порядков», а впоследствии переносят их в совершенно иной контекст, позволяя читателю удостовериться в их «внеслужебной» природе. Такие примеры не единичны, и сопоставительный анализ мотивов дает представление о системности приема. Например, мотив подмены индивидуальной человеческой сущности «должностным выражением», социальной ролью берет начало в рассказе «Понарошку», в эпизоде, где лейтенант Хакимов, отправляясь на службу, дома старательно «хмурит по-генеральски лицо перед зеркалом» (30; 11). В «Жильце» тот же мотив реализуется в образе Светланы Ивановны, которая, будучи школьной учительницей, присвоила себе профессиональное звание «интеллигентного человека» и право судить, «что есть плохо, а что - хорошо» (30; 122). Между этими двумя рассказами, вторым с начала и четвертым с конца книги, пролегает цепочка со- и противопоставлений подлинного и ролевого в человеке, причем жертвами вытеснения одного другим поочередно становятся солдаты-«срочники» («На сопках Манчжурии», «Мертвый сон»), профессиональные военные («Великая степь», «Правда карагандинского полка») и лишь формально связанный с армией редактор-корреспондент дивизионной газеты («Смерть военкора»). Не составляет труда проследить инвариантность и других мотивов «Степной книги» - власти, страха, мечты и др. - но их анализ будет более полноценным в контексте соответствующей проблематики.
«Режим» как собирательный образ государственной власти
Центральную и системообразующую роль образа полка в «Степной книге» отмечают многие критики. Так, В. Былинский уподобляет мир, выведенный в ней, земляному космосу, «где вращаются планетами и астероидами, камешками и пылинками земляные души вокруг единственного центра - Полка» (192). Он же пишет, что у Павлова полк находится «в середине» степного лагеря, то есть является центром не только в буквальном командно-административном смысле. К. Кокшенева обнаруживает в книге дихотомию «Полк и степь», отражающую столь важное для писателя разделение казенного и природного начал. В «Правде карагандинского полка» это социально-космическое образование предстает в виде завершенной властной структурой с внутренними приоритетами в расстановке сил и образе действия, коренными принципами существования аппарата, стоящего на страже государственности.
Нельзя оставить без внимания схему организации полка. «Привилегированным сословием» в этой системе выступают «головные роты», коих писатель изображает три: одна конвойная и две карательные (они же «особые»). «Эти роты содержали... над всей... областью, точно батарею пушек на выдающейся высоте» (30; 106). Учитывая предыдущие образы охранительной мощи системы, «кулак особой роты» карагандинского полка видится организованным, огосударствленным выражением этой идеи - уничтожение на корню «отчаянного вольного духа» (30; 107), невесть откуда прорастающего «в этом громадном бездушном полку» (30; 111). В рассказе есть два эпизода, описывающие подавление солдатских восстаний. Одно начинается с самосуда над «начальником», который увечил «служивых» - «судили, получается, в сердцах и за все зло» (30; 106). Другое - забастовка солдат, изнемогающих от недостатка еды и топлива. В этих обстоятельствах раскрываются две важные характеристики карателей как сословия, которому созданы привилегированные условия жизни и в котором развивается культ силы. Насилие тщательно культивируется как единственный род занятий этих людей. Внутренняя идеология развенчивается посредством фабульных действий «особой роты»: в случае вооруженного восстания отстреливающихся из окон повстанцев «вышибали хорошо укрытые снайпера, а когда те не находят более «живой цели», казарму в упор расстреливают бронемашины, «прикрывая карателей, столпившихся под их железными задами» (30; 106-107). Лишь после этого холеные полковые «костоломы» с диким криком бросаются на штурм, стреляя «по недвижным трупам». Зато безоружных забастовщиков бойцы особой роты всласть избивают дубьем и прикладами, а после под дружный хохот заставляют голыми ползать, маршировать и окапываться в сугробах, повторяя наизусть слова присяги. То, о чем уже полвека традиционно повествуется как о фашистских зверствах, Павлов заставляет ожить в этой расправе - своих над своими. Другая аллюзия снова создает эффект преемственности подходов и методов: загнав «перепуганных солдатишек» в мешок оцепления, «начали выдергивать... наружу одиночек, а когда разошлись, то и двойками, тройками» (30; 107).
Политический режим, формально царящий в стране, под оболочкой любой идеологии скрывает одну основу: общественный порядок означает покорность и безгласность массы и обеспечивается силовым аппаратом. Интересно проследить общее и особенное в павловской интерпретации диктата идеологии и силы на материале публицистики и художественной прозы. Разумеется, здесь сказываются дистанция между гражданской и писательской позициями, неоднородность задач, решаемых в том и в другом случае. Цель Павлова-публициста - поразить читателя тотальностью явления, его экспансией в повседневную жизнь современников, и поэтому очерк «Рабы в солдатских робах» показывает, как умело власти управляют обществом, достигая «ситуации общественного благополучия, общественного порядка, общественного единодушия и примирения» (19; 108) формированием у людей массового страха перед неким пугалом. Его образ создается испытанным средством: это ложь «со смыслом, с идеологией», которая в обществе «мешается с правдой» и порождает хаос кромешного ужаса. «Рабы в солдатских робах» призваны раскрыть читателю глаза на его подверженность массовому ажиотажу «охоты на ведьм», с помощью которой власти успешно отвлекают внимание общественности от более насущных проблем.
Отголосок этого мотива мы находим в «Земляной душе», где полковое начальство «кормит» затерянную в степях роту пожелтевшими прошлогодними газетами вместо картошки, а когда Хабаров заявляет об автономности питания его солдат со своего «огородца» - «убеждает, что не ко времени затеял крутой правеж» (30; 74), поскольку осложнилось международное положение. В рассказе начальственное лицемерие легко разбивается от соседства с простой фразой политрука - о том, что он «хочет мира и покоя на всей земле» (30; 74).
Мотивная перекличка «Степной книги» с политической публицистикой Павлова заметна и в предшествующем «Земляной душе» рассказе «Мертвый сон», где центральный персонаж приобретает неожиданную для него власть над ротной «братвой-блатвой» благодаря ярким картинам снов, пришедшим к нему с истощением физических сил.