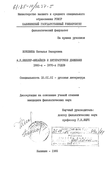Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Эсхатология Ф.М. Достоевского в истолковании русской религиозной философии и отечественного литературоведения 16
1.1. Полемическое восприятие эсхатологии Ф.М. Достоевского 17
1.2. Апологетическое восприятие эсхатологии Ф.М. Достоевского 24
1.3. Эсхатология Ф.М. Достоевского и поэтика трагического 32
1.4. Эсхатология Ф.М. Достоевского как проблема отечественного литературоведения советского периода 43
1.5. М.М. Бахтин и проблема эсхатологии Ф.М. Достоевского 56
Выводы 59
Глава 2. Эсхатологические диалоги в романах Ф.М. Достоевского 62
2.1. Роман «Преступление и наказание» 67
2.2. Роман «Идиот» 82
2.3. Роман «Бесы» 96
2.4. Роман «Братья Карамазовы» 114
Выводы 129
Глава 3. Позитивная и негативная эсхатология Ф.М. Достоевского: интертекстуальный, философский и публицистический аспекты 131
3.1. Концепция «эсхатологической притчи» в романах Ф.М. Достоевского . 131 -
3.2. Концепция антихриста и проблемы эсхатологической психологии 143
3.3. Эсхатологические мотивы в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского 160
Выводы 169
Заключение 171
Библиография 188
- Апологетическое восприятие эсхатологии Ф.М. Достоевского
- М.М. Бахтин и проблема эсхатологии Ф.М. Достоевского
- Роман «Братья Карамазовы»
- Концепция «эсхатологической притчи» в романах Ф.М. Достоевского
Введение к работе
Актуальность исследования. В последние десятилетия в отечественной гуманитарной науке заметно возрос интерес к разнообразным формам контакта художественного творчества и религиозной мысли. Этому способствовало и возвращение национальной духовной традиции, в рамках которой современные ученые стараются обрести православный взгляд на литературу, и нравственная ситуация рубежа тысячелетий, заставляющая искать помощи у классиков русской словесности. В такой ситуации, далеко выходящей за рамки узкоспециальных исследований, литературные произведения начинают изучаться как феномены, имеющие непосредственное отношение к философии и богословию. Когда во второй половине 80-х годов XX века к читателю вернулись B.C. Соловьев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, обнаружилось, что Ф.М. Достоевский уже сто лет назад рассматривался как человек пророческого дарования, и писать о нем необходимо в постоянном контакте с христианской системой ценностей. Конечно, эта задача религиозно-философского истолкования творчества русского классика не является обязательной. Православная аксиология не может быть навязанной извне, она - личный выбор, а не рекомендованная всем научная мысль. Но интересно, что и в литературоведении, в целом свободном от слишком сильного влияния русских философов и богословов, обнаруживается движение к объемному восприятию личности и творчества Ф.М. Достоевского, к обнаружению его ценностного ядра, мировоззренческого центра, формирующего поэтику. М.М. Бахтин, который по разным причинам не часто обращался к текстам В.В. Розанова или К.Н. Леонтьева, в своей теории полифонического романа, в рассуждениях о диалогизме Ф.М. Достоевского был воспринят в контексте христианской традиции, а идея полифонизма стала изучаться во взаимодействии с православной идеей соборности.
Развитие этой тенденции соответствует задачам нашего времени. Необходимо сохранить интерес к религиозной традиции, но не потерять при этом погружении в «религиозное» то, что накопило литературоведение в целом. Сейчас о Ф.М. Достоевском часто пишут так, что возникает мысль о его исключительном богословском значении, о его духовном служении, о пророческом видении судеб России. Это так, Достоевский - больше, чем писатель, но нельзя забывать и том, что литература, даже решая духовные задачи, остается литературой. И, прежде всего, ее изучением занимается литературоведение, а не богословие и не нравственная философия. Поэтому так важно развивать действительно имеющиеся контакты религиозно-философского метода описания художественной реальности и тех принципов, которые предложил М.М. Бахтин, никогда не покидавший пространство филологического, научного мышления, постоянно напоминавший читателям, что его интерес - поэтика, а не идеология.
Актуальность эсхатологического ракурса, избранного нами, можно объяснить относительно формальным признаком - рубежным временем встречи веков и тысячелетий, а также радикальными изменениями в жизни России, которые способны вызвать в сознании мысли об Апокалипсисе. И этот фактор нельзя не учитывать. Но не менее важно и то, что эсхатология Достоевского, при всем современном интересе к христианской составляющей творчества писателя, часто лишь декларируется, соединяется с общехристианской эсхатологией без необходимой конкретизации. А она необходима, потому что сама идея «конца истории» может быть разной. Она может быть трагической и вместе с тем оптимистической, соответствующей принципам «Откровения Иоанна Богослова». Может она быть и пессимистической, соглашающейся с мотивами гибели, но отрицающей мотивы преображения и вечной жизни. Сразу скажем, что мир Достоевского строится, на наш взгляд, на противостоянии двух эсхатологических идей -оптимистической и пессимистической. В работе мы будем называть их позитивной и негативной эсхатологией.
В работе «Философия истории Ф.М. Достоевского в контексте русской философской мысли XIX - начала XX века» А.Г Гачева пишет о трех концепциях истории в русской мысли второй половины XIX века. Во-первых, это концепция линейного прогресса. Во-вторых, «концепция краха и неудачи истории», которая опиралась на «пророчества Апокалипсиса об усилении зла в мире к концу времен, о воскресении гнева и Страшном суде. В-третьих, «концепция истории как работы спасения». Достоевский (вместе с Федоровым, Булгаковым, Соловьевым, Бердяевым, Федотовым) - сторонник третьей концепция, «которая стремилась к религиозному оправданию истории. «В представлении русских религиозных философов христианство не может замыкаться лишь сферой монастырской и храмовой, оно должно охватить все планы бытия, все стороны человеческой жизни - науку, культуру, общественное служение, политику и государственное устройство, внести в них абсолютные, божеские ориентиры. Такая установка была в корне противоположна позиции сторонников идеи краха и неудачи истории, для которых и политика, и культура, и наука, и творчество суетны и безблагодатны, абсолютна лишь внутренняя, сокровенная работа души -тернистый путь самоспасения в монастырской келье или одиночестве пустынного жития», - пишет А.Г. Гачева (27). Вот этот оптимистический подход к эсхатологии Ф.М. Достоевского, не отрицающий культуру, не считающий литературу лишь подсобной частью богословия, представляется нам особенно актуальным сейчас.
Нельзя не сказать и о том, что по целому ряду причин, о которых вряд ли можно полноценно сказать в рамках литературоведческой работы, современная российская культура, формально воздавая должное всей отечественной классике, на самом деле удаляется от нее, соответствуя совсем иным принципам построения жизни. Об этой проблеме точно пишет И. Волгин: «Обнаживший нравственный механизм возникновения зла, которое на наших глазах захватывает все большие области жизни (включая, разумеется, сферу духа), он все отчаяннее и безнадежнее стремится обратить
нас к источникам света. (...) Сколь ни горестно к этому возвращаться, приходится еще раз повторить: сегодняшняя Россия, несмотря на все наши ритуальные заклинания, все больше удаляется от Достоевского (как и он удаляется от нее)» (20). Эсхатология Ф.М. Достоевского - не богословская проблема, а проблема, которая должна стать актуальной в рамках психологического литературоведения, которое стремится показать судьбу героя как образ, обращенный и к современному человеку, отнюдь не избавленному от многих «катастроф духа».
Степень изученности темы. Об эсхатологии Ф.М. Достоевского писали и раньше - значительно больше в русской религиозно-философской критике, чем в литературоведческой науке. В первой главе нашего диссертационного исследования собраны наиболее значительные свидетельства по этой проблеме. При всех серьезных различиях работы B.C. Соловьева, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева приводят к ясной мысли, что исследование эсхатологии в творчестве Ф.М. Достоевского возможно и даже необходимо. Важно, что русские мыслители, подчас совершенно по-разному оценивающие проблему «Достоевский и Апокалипсис», не ограничивали ее масштаб соответствием сюжетов писателя новозаветному «Откровению Иоанна Богослова». Присутствие тех или иных формальных мотивов-последней книги Библии в «Бесах» или «Братьях Карамазовых» не было для них самым значительным вопросом. Чаще они обращались к эсхатологии как «художественному учению» русского писателя о постоянном взаимодействии человека с Богом и «вечными вопросами», о внутреннем, духовном «исходе» личности из мира суетных дел и чувств. Русская философия показала, что творчество Ф.М Достоевского эсхатологично по своей сути, так как стремится к постановке и решению «последних вопросов».
В постсоветском литературоведении эта мысль утвердилась практически сразу. «Реализм в высшем смысле» есть такое изображение
действительности, при котором метафизическая реальность, - именно реальность, - просвечивает сквозь происходящее; люди живут в мире, центром которого является Бог и в котором реально, бытийственно присутствуют Христос и Богородица, апостолы и святые, духовные силы различных уровней», - пишет К.А. Степанян (132, 54). Начиная со второй половины 80-х годов прошлого века, началось возвращение гуманитарных наук к христианской системе ценностей. В связи с этим интерес к эсхатологии Ф.М. Достоевского в современном литературоведении вполне понятен. Но нам важно было показать, что и в рамках советского литературоведения фигура писателя оставалась в контексте духовных исканий и библейских мотивов. Работы Ю.И. Селезнева, Ю.Г. Кудрявцева, Ю. Карякина призваны показать сложность этого контекста. М.М. Бахтин не писал об эсхатологии Ф.М. Достоевского как о специальной проблеме. Влияние М.М. Бахтина на гуманитарные науки последних десятилетий общеизвестно. И мы решили проверить, возможна ли сама постановка проблемы эсхатологии в рамках того метода, который отличает М.М. Бахтина.
Новизна исследования. Часто пишут о Ф.М. Достоевском как о писателе и мыслителе, чье творчество полностью соответствует традициям православного христианства, укладывается в церковные представления о жизни и спасении человека. Некоторые ученые и критики, как, например, И. Волгин, стремятся показать, что проблема на самом деле выглядит сложнее: «Еще раз повторю очевидное: Достоевский - писатель глубоко христианский. Но он связан с христианством не каноническим, не ортодоксально-богословским, не даже новейшим «богоискательским», а каким-то другим - преимущественно художественным - образом. Он писатель христианский, но прежде всего - писатель. Он мыслитель православный, но отнюдь не узкоконфессиональный и вообще не церковный» (20). Мы стремимся сделать акцент именно на «художественной
связи», на многообразии опыта Ф.М. Достоевского, чьи герои постоянно размышляют о «конце мира», но их размышления далеко не всегда вписываются в ортодоксально христианскую картину мира. Апокалипсис в романах русского классика - не четкое событие, которое необходимо описать как состоявшуюся реальность, а особый тип речи, разговор о возможной катастрофе. Причем эта вполне возможная катастрофа для человечества в целом - в будущем, а для конкретного героя - в настоящем.
Новизну нашего исследования мы видим в том, что эсхатология произведений Ф.М. Достоевского изучается как проблема, отличающаяся определенной целостностью. Часто для решения этой проблемы обращаются к одному произведению или ограничивают изучение выдвижением кратких тезисов. Мы обратились к основным романам писателя, чтобы увидеть интересующую нас проблему в развитии. На наш взгляд, впервые ключевой в систематизации эсхатологических представлений в романах Ф.М. *' Достоевского становится мысль о двух разных типах оценки Апокалипсиса. Сюжет христианской эсхатологии не заканчивается изображением гибели t исторического мира. Вслед за последним отступлением и наказанием носителей зла следует преображение, сошествие «Небесного Иерусалима». Вместе с тем у Ф.М. Достоевского постоянно возникают образы безнадежного окончания жизни, в которых Апокалипсис - не суд и начало вечной жизни, а полный крах всех надежд, своеобразное воцарение образов «пауков» и «скорпионов», мучивших героев исследуемых нами романов. Для того чтобы изучение художественной эсхатологии Ф.М. Достоевского было максимально предметным, лишенным общих, затемняющих проблему слов, мы избрали для анализа основные диалоги в четырех романах - те диалоги, которые можно назвать «эсхатологическими».
Предмет исследования. В своем первом значении эсхатология имеет прямое отношение к мифологии, богословии и философии. Каждая мифологическая традиция, создавая свою модель мироздания, указывает на определенные границы, за которыми эта традиция переживает катастрофу -
исчезает или меняется. Эсхатологические мотивы всегда появляются там, где «этому миру» начинает грозить гибель - иногда окончательная, не предусматривающая восстановления, иногда предполагающая переход на новый качественный уровень. Можно говорить об эсхатологии как о важной составляющей каждой культурной традиции, которая стремится решить проблему смерти как силы, угрожающей всей системе. Это не значит, что эсхатология остается лишь масштабной, эпической темой. Она касается напрямую и проблемы человека. Апокалипсис - суд над миром, смерть, а часто и преображение всего бытия. Но есть и «личный Апокалипсис» -смерть отдельного человека, неизбежно ставящая вопрос о том, что происходит за границами жизни, проходящей в теле.
Обращаясь к творчеству Ф.М. Достоевского, мы оказываемся в христианской традиции, следовательно, выбираем определенный тип - эсхатологического сознания. Библейская эсхатологическая традиция, включая и тексты ветхозаветных пророков, и евангельские речи Иисуса Христа, и высказывания апостолов из новозаветных Посланий, сконцентрирована, прежде всего, в «Откровении Иоанна Богослова», которое завершает Новый Завет и Библию в целом. Хорошо известен интерес Достоевского к этой книге. Но также хорошо известно, что «Откровение» -книга, содержательно и стилистически заметно отличающаяся от других новозаветных текстов. В данном параграфе скажем кратко: человечество в «Апокалипсисе» на первом плане, но конкретного человека, сохраняющего имя и личную судьбу, здесь не видно. Достоевский в своем творчестве всегда был конкретен, поэтому его интерес к Евангелию не уступает интересу к «Откровению Иоанну Богослова», что мы и будем учитывать в нашей работе.
Следует помнить и о том, что мы имеем дело с художественным творчеством. Богословская эсхатология - это система, требующая целостного описания. В литературном произведении такой целостности может и не быть. Поэтому необходимо перенести акцент с идеологии Апокалипсиса на его образы, уделив особое место эсхатологическим представлениям отдельных
героев, их психологии, часто формирующейся под влиянием христианских вопросов о суде, наказании, преодолении смерти и окончательной организации человеческой жизни.
Объект исследования. Обращение ко всему творчеству Ф.М. Достоевского - слишком ответственная задача, чтобы можно было решить ее в ограниченных рамках кандидатской диссертации. Можно найти эсхатологические мотивы в первых романах и повестях Ф.М. Достоевского, в рассказе «Бобок». Совершенно самостоятельным объектом исследования мог стать «Дневник писателя», которому в нашей диссертации посвящен лишь один параграф. Это связано с тем, что проблема, которую можно назвать «публицистической эсхатологией», требует отдельного рассмотрения, выхода из литературоведения в историософию и социологию. Мы будем касаться ее настолько, насколько она представлена в образной системе романов.
Последние романы Ф.М. Достоевского - основной научный объект в нашей диссертации. В исследование не вошел роман «Подросток», заметно отличающийся от других произведений 1860- 1870-х годов обостренным интересом к социально-психологическим темам. Нет никакого смысла специально усиливать «эсхатологическое» звучание текста. Поэтому мы остановились на -четырех романах, в которых проблемы суда, метафизического наказания, всечеловеческого и личного отступления от Бога очевидны. Основные объекты в диссертации, посвященной художественной эсхатологии Ф.М. Достоевского, - романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».
Цель исследования - изучение эсхатологических образов, идей и мотивов как художественной реальности романов Ф.М. Достоевского 1860-1870-х годов.
Основные задачи исследования:
- проанализировать основные работы русских религиозных философов (B.C.
Соловьева, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, С.Н.
Булгакова, Н.А. Бердяева), в которых авторская эсхатология стала значимой
проблемой гуманитарного знания;
- проанализировать основные работы отечественных литературоведов
советского периода (М.М. Бахтина, Ю.И. Селезнева, Ю.Г. Кудрявцева, Ю.
Карякина), в которых появляется вопрос о возможности и необходимости
изучения художественной эсхатологии Ф.М. Достоевского;
обосновать необходимость специального рассмотрения «эсхатологического диалога» как значимой единицы текста, имеющей определяющее значение для решения поставленной в диссертации проблемы;
выявить личностно выраженные эсхатологические представления героев Ф.М. Достоевского в контексте проблемы диалогического обсуждения образов и идей Апокалипсиса;
обратившись к образам Раскольникова, Сони Мармеладовой, Свидригайлова, Мышкина, Ипполита, Ставрогина, Кириллова, Шатова, Петра Верховенского, Алеши и Ивана Карамазовых, старца Зосимы и других героев, поставить проблему «эсхатологического характера» и предложить варианты ее решения;
- детально рассмотреть основной конфликт эсхатологических представлений
в романах Ф.М. Достоевского, который на этапе определения задач может
быть представлен как противостояние «позитивной эсхатологии» и
«эсхатологии негативной».
Методология исследования. Большое значение имеют для нас принципы отношения к художественному произведению, выработанные русской религиозно-философской критикой. Кстати, именно Ф.М. Достоевский был наиболее значимым писателем для B.C. Соловьева, В.В. Розанова, Н.А. Бердяева и других отечественных мыслителей. Суть религиозно-
философского подхода к литературному тексту заключается в том, что авторы отказываются от всестороннего анализа произведения и рассматривают его как феномен духовной жизни, проявивший себя в словесности. Особое внимание уделяется подтексту, позволяющему за событиями российской жизни XIX века увидеть драмы и трагедии библейского уровня. Религиозно-философский метод предполагает рассмотрение и оценку этического уровня произведения, его учительной миссии, позволяющей видеть в Ф.М. Достоевском пророка, обладающего даром предсказывать новые повороты в духовном развитии мира. Важно, что в религиозно-философской критике авторы статей и книг не стремятся подтвердить буквальное соответствие идей писателя основам православного христианства. Значительно важнее показать самобытность и неповторимость мысли Ф.М. Достоевского.
Единственный для нас недостаток многих статей о Ф.М. Достоевском, написанных русскими мыслителями рубежа XIX-XX веков, в не слишком большом внимании к конкретному литературоведческому анализу. Мы считаем, что поставленную в диссертации проблему необходимо решать не утверждением общих положений, а частным анализом, внимательным прочтением текстов с точки зрения эсхатологических идей и мотивов. «Практически каждый эпизод романа подлежит нескольким прочтениям, которые не исключают друг друга, но существуют как бы на разных уровнях, в совокупности создавая весь объем текстового пространства. Текст приобретает свойство сверхплотности, очевидно потому, что, как из зародышевого кристалла, вырастает из евангельского текста, по определения сверхплотностью обладающего: в центре «Преступления и наказания» помещен эпизод чтения XI главы Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Евангельский текст как бы формирует вокруг себя структурно сродный себе текст романа», - пишет Т. Касаткина о перспективности «постраничного комментирования» романа «Преступление и наказание» (59).
«Многоуровневое истолкование», о котором пишет Т. Касаткина, мы применяем и к другим романам изучаемого в диссертации писателя.
Важен для нас и научный метод М.М. Бахтина, позволивший выявить диалогические принципы художественного сознания Ф.М. Достоевского. Именно эта идея позволила нам выделить «эсхатологический диалог» как самый значительный предмет изучения поэтики Ф.М. Достоевского. Большое влияние оказали на нас работы В.П. Попова и личное общение с ним в ходе работы над диссертацией. Методология В.П. Попова соединяет внимательное отношение к тексту, детальное прочтение произведения с включением художественного произведения в контекст духовной жизни мира, в контекст борьбы идей. Ф.М. Достоевский был него писателем, который не художественно решал проблемы эсхатологии, но и пророчествовал о том пути, который может привести к гибели России. «Он разгадал некий, по слову поэта Юрия Кузнецова, «дьявольский план», по которому уже давно развращалась и уничтожалась Россия и который сегодня вновь осуществляется», - писал В.П. Попов, подчеркивая связь литературы и реальности (108, 123). Нас не интересуют политические аспекты проблемы «Ф.М. Достоевский и Апокалипсис», но общий - «эсхатологический» -настрой В.П. Попова для нас безусловно важен.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Проблема «Достоевский и Апокалипсис» была поставлена русскими религиозными философами (К.Н Леонтьев, B.C. Соловьев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский), которых интересовало не формальное соответствие романов русского писателя «Откровению Иоанна Богослова», а эсхатологическая психология. Это особая установка автора, ищущего в своих героях принадлежности к раю и аду как значимым образам и внутренней, и внешней жизни. Эсхатологическая психология - в стремлении решать те вопросы, которые не
ограничиваются житейским, социальным уровнем и возникают как вопросы о спасении и гибели.
Эсхатологический диалог, соединяющий героев, которые решают проблемы жизни и смерти, - основная единица повествования в изучаемых романах. Обсуждение, риторическое воссоздание внутренних и внешних катастроф для Ф.М. Достоевского значительно важнее, чем обращение к «фабуле Апокалипсиса». Именно в диалогах эсхатология Ф.М. Достоевского раскрывается как идейно-художественная составляющая текста, чуждая вторичности и явной зависимости даже от христианских первоисточников.
Анализ диалогической структуры романов Ф.М. Достоевского позволяет сделать вывод о присутствии двух форм эсхатологического сознания - положительной и отрицательной. «Позитивный Апокалипсис» - в оправдании мира, в утверждении созидающей любви, в предчувствии радостного бессмертия, снимающего вопросы о страданиях человека и несовершенстве жизни. «Негативный Апокалипсис» - в мысли об уничтожении человека, о всеобщей смерти, в идее торжества безличной силы хаоса. Кульминация позитивной эсхатологии - в образах Сони Мармеладовой, старца Зосимы, Алеши Карамазова, в размышлениях Мышкина, в позиции автора. Кульминация негативной эсхатологии - в образах Свидригайлова, Петра Верховенского, Ставрогина, Ивана Карамазова.
Концепция антихриста в творчестве Ф.М. Достоевского тесно связана с идеей негативной эсхатологии: на первом плане - неверие в Бога и бессмертие, отрицание любви как силы спасения, стремление построить мир, рационально решающий проблемы свободы и страдания. В современном литературоведении, часто обращающемся к проблеме антихриста в творчестве Ф.М. Достоевского, сохраняется уверенность в ее дискуссионности. Образы Мышкина, Кириллова,
Ивана Карамазова и Великого инквизитора усложняют представления о двух формах эсхатологического сознания. 5. Изучение динамики эсхатологической мысли в романах Ф.М. Достоевского показывает следующие тенденции: возрастает роль положительных образов и концепции «внутреннего рая»; сохраняется интерес к «эсхатологии личности», но в «Бесах» и «Братьях Карамазовых» особое значение получают образы всемирной катастрофы, которые воплощают идею атеистической революции как общественной формы решения «вечных вопросов»; усиливается идея неизбежной причастности России к одному из Апокалипсисов -положительному или отрицательному, победному для сил добра или катастрофическому для этих сил.
Апологетическое восприятие эсхатологии Ф.М. Достоевского
B.C. Соловьев много писал о проблеме конца истории, что подтверждает его философский диалог «Три разговора» и особенно завершающая его «Краткая повесть об антихристе». Эсхатология подразумевает целостный, итоговый взгляд на жизнь. B.C. Соловьев стремился мыслить и писать именно так, такую задачу ставит он и в «Трех речах в память Достоевского»: «В трех речах о Достоевском я не занимаюсь ни его личной жизнью, ни литературной критикой его произведений. Я имею в виду только один вопрос: чему служил Достоевский, какая идея вдохновляла всю его деятельность?» (129, 290).
Уникальность Достоевского автор видит в его устремленности к будущему, в обращенности к эсхатологическому времени, которое, как известно, не допускает успокоения в настоящем. Если большинство русских писателей сосредоточено на описание «быта», то автор «Братьев Карамазовых» (кстати, никакого детального рассмотрения произведений в «Трех речах» нет) описывает «общественное движение». Именно движение, а не статичное состояние стало у Ф.М. Достоевского предметом изображения. «По роду своей деятельности принадлежа к художникам-романистам и уступая некоторым из них в том или другом отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко впереди себя...», - пишет B.C. Соловьев, постоянно возвращаясь к теме «Достоевский и будущий мир» (129,294).
Главный вопрос - что видел Достоевский и в чем он видел разрешение основных проблем мира? Нельзя сказать, что Владимир Соловьев стремится быть конкретным и дать на основной вопрос своей статьи четкий ответ. Но несомненно то, что позицию Достоевского он считает совпадающей с его собственными эсхатологическими думами о выходе из земной истории, о преображении человека. Может быть, философ специально не углубляется в специфику видения Достоевского, чтобы не быть во многом не согласным с ним. В «Трех речах» Соловьеву дорого именно общее, принципиальное согласие в том, что опираться надо на христианство и на всеединство. «В силу своей веры Достоевский верно предугадывал высшую, далекую цель всего движения... (...) Он верил не в прошедшее только, но и в грядущее Царство Божие и понимал необходимость труда и подвига для его осуществления» (129, 296). «Если мы хотим одним словом обозначить тот общественные идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет не народ, а Церковь...», - пишет B.C. Соловьев (129,300-301).
Эсхатологический идеал Достоевского был более национален, чем идеал Соловьева. У Достоевского не было проблем с Церковью, а позиция К.Н. Леонтьева осталась все же личным мнением философа, слишком озабоченного тем, что Апокалипсис в понимании Достоевского слишком оптимистичен. У Соловьева проблемы с Русской Церковью были. В нашей работе нет смысла углубляться в эту тему, скажем лишь, что Соловьев большие надежды связывал с католичеством, а Достоевский и вовсе отказывал католичеству в праве называться христианством. Эту очень болезненную для себя тему Соловьев не поднимает, компромиссно и без полемики определяя главную мысль писателя: «Эта центральная идея, которой служил Достоевский во всей своей деятельности, была христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово» (129, 302). Не говоря о глубоко национальном характере эсхатологии Достоевского, Владимир Соловьев представляет его исповедником «вселенского христианства»: «Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, оно должно быть вселенским, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие» (129, 303). В анализируемой работе Соловьеву Достоевский важен как человек, посвятивший творчество религиозному спасению человека, мыслям о более совершенном христианстве, чем историческое православие, к которому у автора «Трех речей» были претензии: «Люди факта живут чужой жизнью, но не они творят жизнь. Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми -они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем» (129, 303-304).
Достоевский «глубже других провидел сущность грядущего царствия, сильнее и одушевленнее предвозвещал его», - пишет B.C. Соловьев (129, 311). В его истолковании «Апокалипсис Достоевского» лишен не только трагизма, но и особого драматизма. Надо отметить, что, пожалуй, именно Владимир Соловьев создал самый оптимистический образ эсхатологии русского писателя. В самом конце третьей речи оптимизм эсхатологической образности приобретает конкретность: «В одном разговоре Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях хотящей родити сына мужеска: жена - это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование «великого знамения», но новое Слово России Достоевский угадал верно. Это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой» (129, 318).
У «Трех речей в память Достоевского» есть небольшое приложение -«Заметка в защиту Достоевского от обвинения в «новом» христианстве». Это анализ и достаточно вежливое опровержение обвинений К.Н. Леонтьева, который, как известно, считал, что «розовое христианство» «Братьев Карамазовых» и «Пушкинской речи» никак не согласуется с византийско-русским православием, обеспечивающим защиту от антихриста. Апокалипсис по Леонтьеву - катастрофа и суровый суд. Апокалипсис по Достоевскому - «всеобщая гармония», и этот термин Соловьев, полемизируя с Леонтьевым, считает не демократической, а христианской концепцией. Впрочем, не оставляет автор и попытки примирения двух точек зрения на Апокалипсис: «И напрасно г. Леонтьев указывает на то, что «торжество и прославление Церкви должно совершиться на том свете, а Достоевский верил во всеобщую гармонию здесь, на земле. Ибо такой безусловной границы между «здесь» и «там» в Церкви не полагается. И самая земля, по священному писанию и по учению Церкви, есть термин изменяющийся. И та всемирная гармония, о которой пророчествовал Достоевский, означает вовсе не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет. И наступление этой всемирной гармонии или торжествующей Церкви произойдет вовсе не путем мирного прогресса, а в муках и болезнях нового рождения, как это описывается в Апокалипсисе - любимой книге Достоевского в его последние годы» (129, 322).
В конце статьи B.C. Соловьев приводит длинную цитату из развязки «Откровения Иоанна Богослова», призванную еще раз прояснить оптимистический (в самом высоком, не материалистическом понимании) характер эсхатологии Достоевского.
М.М. Бахтин и проблема эсхатологии Ф.М. Достоевского
За последние сорок лет М.М. Бахтин занял в науке о Достоевском, пожалуй, самое авторитетное место. «Настоящая работа посвящена проблемам поэтики Достоевского и рассматривает его творчество только под этим углом зрения. Мы считаем Достоевского одним и-з величайших новаторов в области художественной формы. Он создал, по нашему убеждению, совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно называем полифоническим», - так начинает М.М. Бахтин книгу «Проблемы поэтики Достоевского» (9, 3). Концепция полифонии вместе с диалогизмом и карнавальностью стали главными концепциями исследования и самыми известными словами М.М. Бахтина, отнесенными им к творчеству Достоевского. Прямых и очевидных контактов полифонии, диалогизма и карнавальное с эсхатологией мы не ищем, хотя бы потому, что указанные ученым концепции относятся к области поэтики, а эсхатология имеет очевидное отношение к идеологии текста. У нас нет никакого желания отыскать в «Проблемах поэтики Достоевского» явных указаний на интерес М.М. Бахтина к эсхатологии русского писателя, чем повысить значение собственного исследования. Наша задача - проверить, есть ли в бахтинском подходе к Достоевскому сама возможность отдельного рассмотрения его художественной эсхатологии, его многолетнего истолкования Апокалипсиса.
На наш взгляд, все-таки есть. Часто М.М. Бахтин пишет о значении итога, конца, черты в мире Достоевского. Например, в главе «Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Достоевского»: «Герой интересует Достоевского как особая точка зрения на мир и на себя самого... (...) Герой как точка зрения, как взгляд на мир и на себя самого требует совершенно особых методов раскрытия и художественной характеристики. Ведь то, что должно быть раскрыто и охарактеризовано, является не определенным бытием героя, не его твердым образом, но последним итогом его сознания и самосознания, в конце концов последним словом героя о себе самом и о своем мире» (9, 54-55). «Последний итог» и «последнее слово» -понятия, близкие апокалиптическому мышлению, которые вполне могут быть использованы при изучении эсхатологии как художественной данности, сферы поэтики. Так же отмечаем мысль М.М. Бахтина о том, что герой Достоевского не объектный образ, а «полновесное слово, чистый голос»: «Мы его не видим, мы его слышим; все же, что мы видим и знаем, помимо его слова, не существенно и поглощается словом, как его материал, или остается вне его, как стимулирующий и провоцирующий фактор» (9, 62). Здесь обратим внимание на то, как в концепции М.М. Бахтина герой превращается в слово, подвергается особой дематериализации ради речевой свободы, обращенной к будущему времени, к моменту итога.
Конечно, диалогизм как существенную особенность поэтики трудно найти в «Откровении Иоанна Богослова». В пророчестве гораздо больше таинственных знаков, чем понятных речей. Но нас в связи с диалогизмом интересует другое. В романах Достоевского мало художественных черт, сближающих с «Откровением». Это не удивляет, ведь отличия романа от пророческой поэмы не вызывают сомнения. Апокалипсис у Достоевского -не видение, не система знаков, которую необходимо расшифровать, а обсуждаемая проблема, проблема, раскрывающаяся в диалогах тех героев, которые переживают конец мира и конец человека как личную проблему. И мы уверены, что учение М.М. Бахтина о диалогизме Достоевского необходимо использовать именно для познания авторской эсхатологии, потому что «эсхатологический диалог» у Ф.М. Достоевского присутствует во многих произведениях. М.М. Бахтин размышляет о центральном положении идеи в мире Достоевского, показывая ее сложность, полифонический смысл. Следуя логике самого известного исследователя Достоевского, опасно упрощать характер идеи писателя, сводить ее к чему-то простому и однозначному, но безусловно, что эсхатологические мотивы входят в идеологический круг Достоевского как важные составляющие мышления и героев, и самого автора. «Его формообразующее мировоззрение не знает безличной правды, и в его произведениях нет безличных истин», - пишет М.М. Бахтин (9,110). Если в «Откровении Иоанна Богослова» Апокалипсис -объективное событие будущего, то у Достоевского мы встречаемся с «личными Апокалипсисами» - с образами «конца мира», о которых рассказывают Кириллов, Шигалев, Иван Карамазов или Великий инквизитор. Еще одна проблема, которую можно поставить при чтении «Проблем поэтики Достоевского», - Апокалипсис и карнавал. То, что говорит М.М. Бахтин о мениппее, может быть востребованным при изучении художественной эсхатологии. «Мениппея - это жанр «последних вопросов». В ней испытываются последние философские позиции. Мениппея стремится давать как бы последние, решающие слова и поступки человека, в каждом из которых - весь человек и вся его жизнь в ее целом», - пишет М.М. Бахтин (9, 132-133). Мениппея - жанр «диалога на пороге», «очень важное значение в мениппее получило изображение преисподней» (9, 133). В этих признаках мы видим косвенный контакт поэтики Достоевского с поэтикой Апокалипсиса. Пишет М.М. Бахтин и о том, что античная мениппея нашла отражение и в христианском сознании: «Основные повествовательные жанры древнехристианской литературы - евангелия, «деяния апостолов», «апокалипсис» и «жития святых и мучеников» - связаны с античной аретатологией, которая в первые века новой эры развивалась в орбите мениппеи. (...) Огромное организующее значение в христианских жанрах, как и в мениппее, имеет испытание идее и ее носителя...» (9, 155-156).
Подробный анализ М.М. Бахтиным рассказа «Бобок» еще раз обращает внимание на контакт мениппеи и эсхатологического сознания: «Этим создается исключительная ситуация: последняя жизнь сознания (два-три месяца до полного засыпания), освобожденная от всех условий, положений, обязанностей и законов обычной жизни, так сказать жизнь вне окизни» (9, 162).
Роман «Братья Карамазовы»
В масштабной сцене (главы «Буди, буди!», «Зачем живет такой человек?») принимают участие не только Иван Карамазов и старец Зосима, но именно их позиции - в центре диалога, в котором сообщается об одном из эсхатологических проектов романа. Важно, что здесь не только в предварительной форме появляется «Апокалипсис Иоанна», но и намечается авторский путь его оценки.
Идея Ивана - в статье по поводу, как указывает иеромонах Иосиф, «вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права» ( , ). Краткое содержание излагает сам автор: «Церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества» ( , ). Тут же согласие с главной мыслью Ивана выражает отец Паисий, услышавший в словах Карамазова защиту христианства от модного либерализма, стремящегося упразднить роль Церкви и ее служителей. Иван Карамазов в этой части диалога (особенно на фоне либерала Миусова) предстает христианином, чья позиция вполне уместна в стенах монастыря. «Всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в Церковь вполне и стать не чем иным, как лишь Церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели», -говорит Карамазов ( , ). Эсхатологическую сущность речи подчеркивает отец Паисий: «Государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более» ( , ). Миусов сообщает об эсхатологии услышанного плана еще более конкретно: «Сколько я понимаю, это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии» ( , ).
У Миусова роль противника христианства, человека не только скептического, но и циничного. Но его реплика о «социализме» точна, потому что Иван использует образ Церкви вовсе не в целях православного преображения мира. Если Церковь - не государство, остается надежда на милосердие, и даже самый безнадежный преступник, осужденный юридическим судом, может надеяться, что есть та сила - сила Христа, никогда не отвергающего человека до конца, сохраняющего как душу, способную покаяться. Если государство со свойственной ему внешней энергией подчиняет человека, то Церковь, не скованная нормами официального контроля, остается тем местом, куда стремится человек, казалось бы извергнутый навсегда. Церковь не ищет власти, она ищет тех, кто хочет сохранить душу и получить прощение. В плане Ивана государство и Церковь становятся одним институтом власти и авторитета. То, что окончательно прояснится в диалогах «Иван - Алеша» и «Инквизитор -Иисус», здесь появляется впервые.
Отец Паисий не разглядел в идее Ивана антицерковного смысла, скрытого за, казалось бы, христианской риторикой. Старец Зосима услышал главное: использовав авторитет Церкви и веру в нее, превратить христианство в инструмент авторитетного и «праведного» насилия, когда «добро» будет не проповедоваться, а осуществляться государственно-церковными силами. Когда Церковь - отдельный мир, преступнику есть, где просить прощение и надеяться на понимание. В церковно-государственном мире (одном из рассматриваемых Достоевским проектов завершения истории) такой надежды уже нет. Такова позиция Зосимы, но самое важное для этого диалога слово старца прозвучит несколько позднее.
Еще один аспект идеи Ивана становится ясен из речи Миусова, сообщающего о недавней беседе со средним Карамазовым. Краткий смысл проясняет сам Иван: «Нет добродетели, если нет бессмертия» ( , ). Но «Апокалипсис Ивана» настолько важен для понимания общей эсхатологии Достоевского, что «воспоминания» Миусова стоит процитировать практически полностью: «... Он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что заставляло бы людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество -не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего у :се не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия» ( , ).
И вновь можно сделать поспешный вывод, что Карамазов заботится о сохранении веры в Бога для того, чтобы не настали времена антропофагии. Но старец Зосима истолковывает позицию Ивана иначе: «По всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о Церкви и о церковном вопросе...» ( , ). Учитывая, что Иван позволяет человечеству в случае утраты в бессмертие, слова Зосимы о неверии Карамазова звучат как его разоблачение. Иван уже здесь, до разговора с Алешей и «Великого инквизитора» предстает сторонником «негативного апокалипсиса» - следствия безверия и утраты мысли о бессмертии.
Концепция «эсхатологической притчи» в романах Ф.М. Достоевского
Когда мы говорим о христианской эсхатологии, мы сразу же вспоминаем «Откровение Иоанна Богослова», которое определяет систему мотивов и образный мир Апокалипсиса. Но еще раз подчеркнем: эсхатологическая позиция Ф.М. Достоевского не сводима лишь к очевидным контактам с последней библейской книгой. Эсхатология Ф.М. Достоевского - особое мировоззрение, мысль о спасительном или губительном исходе из исторического времени, для которого религиозные понятия несущественны. Для художественного воплощения этой мысли Ф.М Достоевским использованы тексты, не имеющие прямого отношения к концепции Апокалипсиса, - «Книга Иова», сюжет воскресшего Лазаря, притча о блудном сыне. Речь пойдет также о картине Гольбейна «Мертвый Христос», имеющей важной значение для определения интертекстуальных форм эсхатологизации сюжета в изучаемых нами произведениях. Именно картина Гольбейна становится одним из самых значимых символов «негативного Апокалипсиса» в творчестве Достоевского. «Книга Иова», сюжет о Лазаре, притча о блудном сыне, картина Гольбейна предстают в романах эсхатологическими притчами, которые «сжимают» содержание до особого вопроса, возникающего перед героями: подлинное решение «вечных вопросов» приведет человека в бессмертный мир Бога или в «комнату с пауками»?
Когда исследователи творчества Ф.М. Достоевского пытаются найти некий скрепляющий для «Преступления и наказания» сюжет, чаще всего указывают на евангельское чтение о Лазаре. В последние годы особенно интересно об этом писала Т. Касаткина: «... Евангельской же цитатой задаются и смысловые параметры романа, определяется главная тема - и она оказывается не совсем той, что заявлена в заглавии: перед нами роман о воскресении, о том, как совершается воскрешение, о том, в каком случае оно оказывается невозможным»; «Весь же роман посвящен тому тайному, что совершается в пещере с Лазарем, еще не услышавшим зова Христова, и потом - что совершается с ним, этот зов только-только уловившим» (59).
В творчестве Достоевского часто встречаемся с процессом, который можно назвать эсхатологизацией известных сюжетов. Далее, рассматривая роман «Братья Карамазовы», будем подробно говорить о том, как присутствует в сюжете последнего романа «Книга Иова», актуальная для Достоевского именно своим апокалиптическим потенциалом. «Последние вопросы» страдающего праведника сразу же делают ветхозаветную поэму текстом, созвучным с «Откровением Иоанна Богослова». В «Преступлении и наказании» такая - эсхатологическая - роль уготована одиннадцатой главе «Евангелия от Иоанна».
Что общего у сюжета о воскрешении Лазаря с Апокалипсисом? Здесь совершается не просто одно из чудес Христовых, а чудо очевидной победы над смертью, когда привычный (смертный) порядок вещей отступает, когда физические законы мира, казавшиеся настоящим земным «богом», перестают быть, потому что настоящий Бог пришел в мир. Надо отметить, что это живое явление рая и вечной жизни выходит на первый план, а вот сюжет суда, с которым всегда ассоциируется Апокалипсис, отступает на второй план. Здесь не говорится об особых заслугах усопшего брата Марии и Марфы, не идет речь о его святости. По вере сестер, возможно, по его прижизненным усилиям, направленным к Христу, склеп открывается, и Лазарь воскресает. Воскрешение это совершается за несколько дней до смерти и воскресения самого Иисуса, начиная цикл священных событий, который продолжится Пасхой и завершится вторым пришествием и воскрешением всех мертвых. Т. Касаткина безусловно права, оценивая «Преступление и наказание» как «роман о воскрешении».
Об этом же пишет В. Недзвецкий: «Раннехристианский мотив погребения и гроба продуцирует внутреннюю форму романа «Преступление и наказание». (...) Отпав в результате этого преступления от Бога и людей, объективно вступив на путь Антихриста (Дьявола), Раскольников вместе с тем субъективно мнит себя истинным мессией-Спасителем по крайней мере дерзновенно-гордой («власть имеющей») части человечества, в чем предвосхищает позицию и трагедию Ивана Карамазова. В отличие от последнего герой «Преступления и наказания» вместе с тем не лишен у Достоевского возможности освобождения от дьявольского наваждения и тем самым исхода из духовного гроба. Так вновь формообразующей основой романа становится евангельская легенда о воскрешении Лазаря и ее глубочайшей морально-этической разработке писателем» (94). Обратим внимание на лексику, использованную В. Недзвецким: «мотив погребения и гроба», «вступив на путь Антихриста», «мнит себя истинным мессией-Спасителем», «исход из духовного гроба». История Раскольникова прочитана здесь как эсхатологическая история, восходящая к евангельской сюжетной модели: страдания и смерть - необходимый этап пути, который завершается воскресением. Суд, который, так или иначе, заполняет сюжетное пространство «Откровения», в «Преступлении и наказании» становится внутренней ситуацией самого Раскольникова. Можно сказать следующее: человек, способный осудить себя сам, уже не страшится общего суда. Для такого человека мотив воскресения и прощения важнее мотива Страшного суда.
Еще одним сюжетом, усиливающим эсхатологическое звучание романа, оказывается притча о блудном сыне из «Евангелия от Луки». Во-первых, она появляется в монологе Мармеладова, когда он в экспрессивной манере, на грани отчаяния говорит о Христе, который помилует страдальцев, не лишенных пороков, но свободных от гордости и служения пустоте. Во-вторых, судьба самого Раскольникова оказывается сюжетным воплощением этой притчи. Некоторая неочевидность преображения главного героя- может быть компенсирована за счет финала причти, в котором соединение с Отцом показано более определенно. Евангельская притча, хорошо известная читателю, как бы «дописывает» роман.
В «Преступлении и наказании» никто не ведет специальных речей об Апокалипсисе, не устраивает чтений «Откровения Иоанна Богослова». В «Идиоте» есть герой, который не мыслит себя без последней библейской книги, без ежедневного ее толкования. Вместе с тем Лебедев, специалист по современной интерпретации «Откровения», не может быть назван человеком поступка. Нет у него и какой-то своей персональной идеи, которая определила бы жизнь. У Мышкина есть определенное положение в мире, есть оно у Рогожина и Настасьи Филипповны. Лебедев - читатель, истолкователь, зритель, но не участник. Это жизнь истолкователя, но не героя притчи. Достоевскому интересны участники событий. Раскольников -не только автор статьи «О преступлении», но и человек, решивший прожить статью как жизнь. Кириллов - идеолог, который не собирается проповедовать идею, он решает показать ее собственной смертью. Такие герои, как нам кажется, вызывают у Достоевского уважение способностью выбирать, жить и действовать.
Лебедев произносит умные речи. В главном - в том, что современный мир потерял связующую идею и может не удержаться, завершить свое существование, автор «Идиота», наверное, согласен со своим героем. Цивилизация встала на путь, чрезвычайно опасный для себя. «Железные дороги» - несколько наивный символ, но за ним угадывается утрата каких-то безусловных основ жизни, которые теряются в гонке за прогрессом. Лебедев интересен, но создается впечатление, что его умная речь бесполезна, так как представляет собой внешнее, по-своему теоретическое знание, вызывающее лишь смех. Смех вызывает и Мышкин, но смехом отношение к нему не заканчивается. Лебедев же никого не пугает, никого и не вдохновляет. Жизнь Раскольникова, не занимающегося толкованием Апокалипсиса, более апокалиптична, чем образ Лебедева. В этом мы видим еще одно подтверждение мысли о том, что эсхатология Достоевского есть особая характерология. Смысл ее - в устремленности человека к пределу, в желании заглянуть за предел, определившись с тем, что за гробом - ничто, тарантул или заслуженный рай. Важно и то, что в «Апокалипсисе Лебедева» нет места воскресению: близкий финал есть, отступление тоже есть, но нет того, чем завершается «Откровение» - суда, воскресения и Небесного Иерусалима. Права Г. Ермилова, считающая, что лебедевский «символ веры» - это «Апокалипсис без воскресения» (46, 452). Самые значительные герои Достоевского пребывают в Апокалипсисе, а не многословно размышляют о нем.