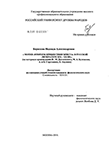Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Смех в мире Достоевского 26
1.1. О природе смеха и комического в творчестве Достоевского 27
1.2. Проблема смеха и комического в русской литературе первой половины XIX века 47
1.3. Смех радость и веселость в романе «Бедные люди» 73
1.4. Проблема «смех и христианство» в романе «Братья Карамазовы» 103
1.5. Достоевский в восприятии некоторых церковных авторов 114
Глава вторая. Принцип «снижения» в поэтике Достоевского в связи с категорией кенозиса 126
2.1. Принцип «снижения» и проблема положительного героя (роман «Идиот») 130
2.2. «Спорные мудрецы» в романах Достоевского («Бесы», «Братья Карамазовы») 173
2.3. Кенотическая природа образа кн. Мышкина 185
Глава третья. Роман о христианине 197
3.1. О христианском контексте в романе «Идиот» 197
3.2. Языческое и христианское в романе «Идиот» 220
3.3. Отражение раннего христианства в романе «Идиот» 248
3.4. Эротическое поведение князя Мышкина 256
Глава четвертая. Литературный контекст романа «Идиот» 268
4.1. Статьи Белинского о Пушкине как один из источников романа «Идиот» 268
4.2. Отражение творчества и личности Жуковского в романе «Идиот» 283
4.3. Изображение экспансии язычества в русской литературе 1860-х гг. (Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»; Ф.М. Достоевский, «Идиот») 294
Заключение 303
Список использованной литературы 311
- О природе смеха и комического в творчестве Достоевского
- Принцип «снижения» и проблема положительного героя (роман «Идиот»)
- О христианском контексте в романе «Идиот»
- Изображение экспансии язычества в русской литературе 1860-х гг. (Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»; Ф.М. Достоевский, «Идиот»)
О природе смеха и комического в творчестве Достоевского
Вопрос о смехе и комическом у Достоевского был поставлен уже в отзывах о первых его произведениях (правда, потом долгие годы эта сторона творческой индивидуальности писателя практически не замечалась). И уже в первых отзывах выразилась разная оценка способности Достоевского к созданию комического.
В известной рецензии на «Петербургский сборник» В. Г. Белинский писал:
«С первого взгляда видно, что талант г. Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени творческий и что преобладающий характер его таланта - юмор». Эту мысль критик настойчиво варьирует в своей статье («глубоко человечественный и патетический элемент, в соединении с юмористическим, составляет особенную черту в характере его таланта»; читая последнее письмо Девушкина, «вы сами готовы рыдать, и в то же время вы улыбаетесь...»; в таланте Достоевского «так много юмора действительного, юмора мысли и дела»; «избыток юмора в его таланте») .
Тогда же П. А. Плетнев отозвался о «Бедных людях» так: «В этом романе два элемента поэзии: серьезный и комический. Первый гораздо более второго носит на себе той художнической истины, которая так высоко ценится в произведениях таланта. Комическое же здесь как-то изысканно и составляет заметное подражание тону, краскам и даже языку Гоголя и Квитки»2.
Позднее В. В. Розанов обратил внимание на то, что для произведений Достоевского характерна подвижность авторской позиции. Создается она благодаря использованию иронии: « ... вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет в начале и конце легкою ирониею и свои любимые идеи ... » .
Л. Н. Толстой отметил в дневнике, что в романе «Братья Карамазовы» есть «шуточки, многословные и малосмешные», которые ему как читателю «мешают»4. А в письме к А. К. Чертковой от 23 октября 1910 г. высказался еще более резко: «Начал читать и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянню и неподобающему отношению к важным предметам»5. Очевидно, здесь проявилось различие в художественном мышлении двух великих писателей (а не только раздражение Толстого в кризисный для него момент). Этот факт указывает на необходимость учитывать комические элементы при определении своеобразия поэтики Достоевского.
Сравнивая атмосферу, царящую в произведениях Толстого и Достоевского, Д. С. Мережковский образно передавал свое впечатление так: над миром Толстого нависает «медное небо», оно томит и подавляет, как не разразившаяся гроза. У Достоевского гроза разражается: «И какая утоляющая свежесть, какое освобождение в этом дыхании бури. Как самое мелкое, пошлое, будничное, что только есть в человеческой жизни, становится праздничным, страшным и веселым, точно в блеске молний». И опять же противопоставляя Достоевского Толстому: у Толстого «как нет освобождающего ужаса, так нет и освобождающего смеха» .
Возможно, в какой-то мере это восприятие отозвалось в высказывании Т. Манна7 - самом емком, при всем его лаконизме, высказывании, отражающем «удельный вес» комического в мире Достоевского, « ... в котором бушуют грандиозные страсти и который не только велик „преступными" порывами мысли и сердца, раздвигающими границы наших знаний о человеке, но и клокочет вызывающим озорством, фантастическим комизмом и „веселостью духа". Ибо, помимо прочего, этот распятый стра стотерпец был и удивительным юмористом» .
В 1933 году появляется статья И. И. Лапшина «Комическое в произведениях Достоевского». Обращение к этой теме следует поставить в заслугу исследователю, но с ее решением согласиться трудно. Дело в том, что И. И. Лапшин видит в смехе Достоевского две стороны (в соответствии со взглядом на него как на творца с двойственным, расколотым сознанием, сочетающим в себе светлое и темное, небесное и демоническое). «Если светлый лик Достоевского озарен кроткою детскою улыбкою, то другая половина его существа скрывала в себе „демонические" черты. Кроткому Достоевскому мил безобидный юмор, „жестокому таланту" свойствен адский хохот, полный муки. Нужно сказать, что герои Достоевского редко смеются добрым, веселым невинным смехом»9. В последнем параграфе своей статьи И. И. Лапшин прямо связывает комическое в произведениях Достоевского с «его отношением к проблеме мирового зла». И опять получается, что смех Достоевского, с одной стороны, выражает ощущение всесилия зла, с другой -сам является носителем этого зла. «Толстому и ему подобным писателям, как Гончаров, А. Толстой, Островский, которым свойствен комизм в творчестве, но которые являются метафизическими оптимистами и моральными догматиками, чужда горькая, злобная, страшная насмешка, сатирическое издевательство над Богом, нравственным миропорядком, над природой человека и его судьбой, им чуждо комическое подчеркивание явлений дисгармонии. Начиная с раздвоения Голядкина и кончая раздвоением Ивана Карамазова, в творчестве Достоевского обнаруживается тот страшный душевный разлад, против которого он сам борется упорно, страшно, часто пользуясь при этом и орудием смеха, но не в виде того мягкого юмора, который присущ метафизическому оптимисту и моральному догматику. ... Зло для него (т.е. морального догматика. - А. К.) лежит не в роковой природе вещей, но лишь в отступлениях людей от начала разума и совести, которые совершенно очевидны и не вызывают сомнений. Их душевный разлад совершенно иной природы, чем у Достоевского. Смех над тем, что является самым смыслом жизни, смех жестокий, злобный, цинический и мучительный -адский хохот, полный муки, совершенно чужд им»10.
Считая смех Достоевского типологически родственным смеху Мопассана, И. И. Лапшин заканчивает так: «В этих проекционных образах душевного разлада (имеются в виду образы двойников, „тарантула" Ипполита Терентьева и им подобные. - А. К.) и у Достоевского, и у Мопассана таятся корни их страшного, жестокого смеха. Но Мопассану не удалось „засмеять черта", и он трагически погиб ... Достоевский же, не разрешив философски проблему мирового зла, все же нашел в себе силы преодолеть свою внутреннюю трагедию. Путем художественного катарзиса он достиг до известной степени душевной гармонии и создал поэтические типы, носящие в себе начала благообразия - Макара (в „Подростке") и Зосиму (в „Братьях Карамазовых"), в которых светлый лик его творческой индивидуальности нашел себе такое яркое выражение»11. Выходит, что хотя бы одну положительную роль смех у Достоевского играет - им писатель «засмеял черта» и достиг катарсиса. Но эту вычитанную нами у И. И. Лапшина мысль сам исследователь никак не развивает.
Следует отметить, что и высказывание Т. Манна о комическом у Достоевского оказывается совсем не простым, если рассматривать его не изолированно, а в контексте всей статьи немецкого писателя (очень сложной по концепции, о чем свидетельствует и ее многозначительное заглавие -«Достоевский - но в меру»). И Т. Манн, вслед за Мережковским и Лапшиным, противопоставляет Достоевского Толстому, говорит о «глубоком преступном и святом лике» первого и «возвышенном простодушии и несокрушимом здоровье» второго. Причем, как явствует из рассуждений Т. Манна, «демоническое» как раз и должно быть «по возможности облеченным в юмористическую форму»12.
Принцип «снижения» и проблема положительного героя (роман «Идиот»)
Слово «снижение», употребляемое применительно к произведению, в котором Достоевский стремился представить «положительно прекрасного человека», может показаться не совсем уместным. В примечаниях к роману Н. Н. Соломина пишет: « ... почти во всех случаях „осмеяния" героя острейшее сочувствие к нему испытывают - одновременно с читателем - и действующие лица романа (чаще всего Епанчины). Их экспрессивные высказывания способствуют раскрытию духовного облика князя и оберегают образ от снижения»1.
Однако отношение к Мышкину тех же Епанчиных невозможно охарактеризовать однозначно. На протяжении всего романа оно колеблется: насмешливое ожидание, изумление, родственное приятие, сомнение, испытание (вплоть до мучительства), осмеяние (со стороны Аглаи - см.: VIII, 430; IX, 282), болезненное сострадание - все это далеко от «сглаживающей» функции, которой наделяет Епанчиных исследовательница. Напряженность в отношении этих героев к Мышкину сказывается и в том, что защита князя с их стороны, как правило, принимает характер вызова другим (и друг другу).
Соглашаясь с мыслью Н. Н. Соломиной о «многозначности заглавия» романа2, нельзя все же не заметить, что уничижительный смысл слова «идиот» дает о себе знать в произведении очень сильно. В подготовительных материалах к роману Достоевский подчеркивает: «В Князе - идиотизм\» (IX, 280). Планируемый вначале традиционный трагический исход - « .. . Князь умирает» (IX, 227) заменен впоследствии другим: Мышкин впадает в идиотизм. Причем это не «безумие» (само слово здесь вызывает «романтические» ассоциации), а именно идиотизм: «Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца» (VIII, 509). «Плачевность» состояния Мышкина подчеркивается предполагаемой реакцией его бывшего (и будущего) врача: «И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: „Идиот!"» (VIII, 507).
Восприятие идиотизма может быть двойственным (оно определяется воспоминаниями о прежнем облике больного, а также тем, кто его наблюдает). Но сам по себе идиотизм - зрелище подчеркнуто неэстетичное, безвидное. При созерцании его возможны слезы, но не исключен и смех. Именно насмешка проглядывает, например, в тоне хроникера из «Бесов», когда он говорит о «тронувшемся» фон Лембке (см.: X, 337). Кажется странным, что идиотизмом Достоевский как бы уравнивает «положительно прекрасного человека» Мышкина и бестолкового администратора из русских «немцев». И пройти мимо этой загадки нельзя.
Вот еще один факт, свидетельствующий о том, что «снижение» является полноправным ингредиентом авторского замысла. Как известно, образ Дон Кихота присутствовал в сознании Достоевского во время работы над романом «Идиот». Но обычно не обращают внимания на то, что русский писатель почти буквально воспроизводит оксюморонность имени героя Сервантеса. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» вполне соответствует тому, как представлен нам герой Достоевского: князь Лев Мышкин происходит из однодворцев. Испанский «идальго» - это мелкопоместный дворянин, что-то вроде русского «однодворца», в то время как приставка «дон» говорит о принадлежности к высшей знати (ср. с княжеством Мышкина). Сервантес дает своему герою очень прозаическое имя: «el quijote» - набедренник - одна из составных частей рыцарского одеяния (бросается в глаза связь с малопочтенной частью тела — бедром, ляжкой), но и фамилия Мышкин способна вызвать не лучшие ассоциации . А вот другого героя (которого один из исследователей характеризует как «грязного человека», «приспособленца» ) Достоевский почему-то называет Лебедевым (ср. с Лебядкиным из романа «Бесы»)5.
Указанные моменты способствуют сложности, неоднозначности восприятия образа князя Мышкина. Сразу же оговорюсь, что я далек от мысли считать это проявлением «недостатка чувства художественной меры»6, что часто приписывалось Достоевскому.
Возникает вопрос, что же считать «художественной мерой»? Действительно, если при оценке замысла Достоевского (попытки создать образ «положительно прекрасного человека») руководствоваться привычными канонами, то может показаться, что замысел и исполнение в данном случае очень далеки друг от друга. А. П. Велик так и пишет: « ... ни цельности, ни жизненной полноты, ни завершенности, ничего твердого и незыблемого нет в этом трагическом образе, положительно прекрасного типа не вышло из обаятельного Мышкина, хотя он и не смешон» . И подобная точка зрения не единична, а имеет свою традицию8.
Нельзя, на мой взгляд, рассматривать «снижение» и в ряду тех фактов, с помощью которых Достоевский якобы развенчивал своего героя. Так, Г. М. Фридлендер считал, что «аскетические идеалы Мышкина опровергаются в самом романе»; «слабые стороны любимого героя Достоевского не могли укрыться от взора самого писателя»; «Достоевский заставляет Мышкина испытать моральное поражение, и поражение это — результат не только физической, но и моральной слабости героя»; «настойчивое сближение в романе образа князя Мышкина с образом пушкинского „рыцаря бедного" подчеркивает высокую нравственную чистоту Мышкина и вместе с тем его бессилие, трагикомические черты князя, порожденные разрывом между аскетическим идеалом и жизнью»9. Уже цитированный Р. Опитц называет вечер в гостиной Епанчиных («смотрины» Мышкина) «одним из тех позорных поражений, которые суждено пережить Мышкину в последней части романа, и оно тем мучительнее, что неизбежность его более всего очевидна»10.
Перечисленные точки зрения базируются, как правило, на мысли о том, что Мышкин - носитель аскетических идеалов, воплощение «болезненно-неземной кротости»11, - существо, слабость которого — в его идеальности. В соответствии с таким взглядом утрированная возвышенность Мышкина приводит к нежизнеспособности героя (в качестве положительной альтернативы выступают обычно Аглая, Настасья Филипповна или даже Ипполит и Рогожин - см. указанные страницы работ А. П. Велика, Г. М. Фридлендера).
В таком отношении исследователей к Мышкину существуют оттенки. Они намечаются в вопросе о том, как сам Достоевский организует образ своего героя. По мнению одних, автор при создании образа Мышкина шел по пути максимального его возвышения над действительностью, - и образ получился излишне очищенным, рафинированным. Факты, которые приводятся в начале главы, не позволяют с этим согласиться. Вторая точка зрения заключается в том, что реалист Достоевский, следуя логике действительности, вынужден был в какой-то мере развенчать своего героя -может быть, вопреки первоначальному замыслу. Последнее соображение мы рассмотрим в дальнейшем.
О христианском контексте в романе «Идиот»
В последнее время, с повышением интереса к проблеме «христианство и русская литература», роман Достоевского «Идиот» и его герой пользуются особым вниманием исследователей. Это естественно, потому что и подготовительные материалы и окончательный текст произведения содержат немало новозаветных реминисценций, а в связи с Мышкиным в черновиках несколько раз появляется запись «Князь Христос» (IX, 246). Такое красивое наименование героя стало привычным для пишущих о Достоевском, хотя можно было бы заимствовать из тех же источников и другие определения: «сфинкс» (см. например: IX, 242), «идиот» и т. д.
Распространенность версии о Мышкине как о «Князе Христе», очевидно, и побуждает некоторых литературоведов усомниться в ней, оспорить и отвергнуть. Основанием становится якобы безрезультатный или даже пагубный характер участия Мышкина в судьбах других персонажей. Собственно, сомнения в том, получился ли у Достоевского образ «положительно прекрасного человека» и во всем ли он прекрасен, - не новы. Они были достаточно типичными для советского литературоведения 50-х - начала 70-х годов1 и вписывались в существовавший тогда идеологический контекст. И вот оказывается, что у литературоведения постсоветского периода также есть серьезные претензии к Мышкину, а подчас - и к его создателю, но причиной становятся не «аскетические идеалы», как прежде, а несоответствие этим самым идеалам, точнее - недостаточная идейная (теперь уже «христианская») чистота, правильность. Так и хочется воскликнуть вместе с Евгением Павловичем Радомским: « ... бедный идиот!» (VIII, 485) (вариант: бедный «Идиот»!).
Например, Т. М. Горичева2 пишет: «Но получился ли из Мышкина „Христос"? Очевидно, что не получился. Достоевский и сам хорошо понимал это. Он подчеркивал болезненность князя, взгляд глаз, „тихий, но тяжелый". ... Сострадание Мышкина не спасает Настасью Филипповну. Он не лекарь, а скорее провокатор, обостривший болезнь, ускоривший всеобщую катастрофу» (с. 62). «Сострадание может быть не любовью, а жалостью, безвольной, безличной и бессильной реакцией на страдание. Поэтому сострадание Мышкина не воскрешает» (с. 63).
Во многом сходной позиции придерживается Л. А. Левина3. По ее мнению, ошибок, провинностей и слабостей у Мышкина много. При этом не совсем ясно, в чем заключается главная его вина: то ли в том, что, восхищаясь Настасьей Филипповной и отрицая ее греховность, князь дезориентировал ее и закрыл ей путь к спасению - через покаяние, то ли в желании «повторить суррогатную любовь-жалость к Мари в лице Настасьи Филипповны ... убоявшись нормальной мужской страсти» (с. 99). В своем анализе исследовательница использует рассуждение Радомского об ошибочности действий Мышкина с христианской точки зрения: ведь Христос, простив в храме грешницу, не сказал ей, «что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения», но напутствовал: «Иди и впредь не греши». И вообще Мышкин посягает «на власть, ему не положенную», «узурпирует ... право прощать и отпускать грехи» (?) (с. 117). Некоторая неясность остается в вопросе об отношении Достоевского к созданному им образу и о степени осмысленности его творческого процесса: « ... беспомощность и обреченность героя была запрограммирована еще тогда, когда Достоевский задумывал „изобразить положительно прекрасного человека", в то же время полностью отдавая себе отчет в том, что „на свете есть только одно положительно прекрасное лицо - Христос" ... Так как Мышкин - заведомо не Христос, он изначально оказался структурно неадекватным самому себе» (с. 118). Что же, не сознавал Достоевский этого противоречия или не собирался всерьез «изображать положительно прекрасного человека»? Или писатель представлял себе все очень смутно и для прояснения ситуации «поставил предельно чистый художественный эксперимент» (с. 118)? (Посмотрим, дескать, что получится.)
Самые первые замечания, которые возникают после знакомства с приведенными мнениями, таковы. Критики Мышкина должны знать, что в русской литературе есть произведения, герои которых действовали «правильно» и способны были спасти женщину, и обличив ее грехи и «не убоявшись нормальной мужской страсти». Достоевскому они были известны, но почему-то он направил своего положительного героя по другому пути. Почему? От нежелания повторяться? С целью дополнить историю вопроса описанием «неправильного» поведения в аналогичных обстоятельствах? Эти курьезные ответы являются сами собой, если мы остаемся в рамках предложенной выше логики.
И еще - по поводу прощения грешницы. К Христу в храм приводят трепещущую от страха блудницу, которую по иудейским законам следовало побить камнями. И Сын Божий заставляет обвинителей вспомнить об их грехах и устыдиться, а приготовившейся к смерти женщине дарует жизнь и прощение. Это чудо. В такой обстановке Он мог сказать: «Не греши». А на именинах у Настасьи Филипповны никто не захотел по-настоящему покаяться, вместо этого начался торг, предметом которого стала она, Настасья Филипповна. И в такой обстановке Мышкин должен был обратиться к несчастной с назиданием?
В связи с утверждением, что Мышкин - «заведомо не Христос» -посягает «на власть, ему не положенную», вспоминается такой эпизод из Евангелия. К Христу обратился Иоанн: «Наставник! Мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас» (Лк. 9, 49 - 50).
С более серьезной критикой Мышкина и религиозных представлений Достоевского мы встречаемся в работе В. М. Лурье4. Сразу надо сказать, что в этом, хотя и небесспорном, но интересном, затрагивающем важные вопросы исследовании удивляет некоторая фамильярность по отношению к Достоевскому и в то же время категоричность заключений. Читаем: «Достоевский хочет сделать Князя олицетворением христианской любви, но в понимании этой любви не идет дальше Сони Мармеладовой. Он отличает эту любовь от непосредственного проявления блудной страсти и от опосредованного проявления страсти тщеславия, но вполне готов смешивать ее со всеми остальными страстями. Так, он записывает: „В романе три любви: 1) Страстно-непосредственная любовь -Рогожин. 2) Любовь из тщеславия - Ганя. 3) Любовь христианская - Князь" ... » (с. 300). В чем слабость Сонечкиного понимания христианской любви? Из чего следует, что Достоевский готов смешивать ее со всеми остальными страстями? Непонятно. Очевидно, объяснением последнего тезиса должно стать место из подготовительных материалов к роману: « ... накануне появления идеи „Князя-Христа" он записывает о своем герое: „Чистый, прекрасный, достойный, строгий, очень нервный и глубоко христиански, сострадательно любящий. От этого мука, потому что при таком страстном сострадании разумен, предан долгу и непоколебим в убеждениях.
Глубины и заносчивости в идеях нет, хотя умен, образован и мыслит. Но чувство преобладает в натуре. Живет чувством. Живет сильно и страстно. Одним словом, натура христианская"» (ГХ, 170).
Эту цитату В. М. Лурье считает возможным прокомментировать так: «Здесь словно нарочно „натура христианская" охарактеризована тем, что в аскетической литературе служит названием пороков. Неудивительно, что впоследствии критики, хоть слегка затронутые православной традицией, воспринимали образ Мышкина как нечто болезненное5, а критика латинская и протестантская, воспитанная на западной аскетике эмоциональных аффектов, видит в нем аутентичный образ Христа. Что же касается Достоевского, то он лучше всех понимал неудачу своего замысла» (с. 300 -301).
Изображение экспансии язычества в русской литературе 1860-х гг. (Н.Г. Чернышевский, «Что делать?»; Ф.М. Достоевский, «Идиот»)
Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» воспринимался современниками и ближайшими потомками как один из главных проводников «нового» мировоззрения (вспомним признание Ленина, что этот роман его «всего перепахал»1). В «Бесах» Достоевского беллетризованный трактат Чернышевского читает С. Т. Верховенский перед решающей схваткой с нигилистами: «На столе лежала раскрытая книга. Это был роман „Что делать?" ... Я догадался, что он достал и изучает роман единственно с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с „визжавшими" знать заранее их приемы и аргументы по самому их „катехизису" и, таким образом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть .. . О, как мучила его эта книга!» (X, 238).
«Их катехизис» нашел отражение во многих произведениях Достоевского, начиная с «Записок из подполья» . Не мог он не учитываться и в романе «Идиот», где так же, как и в «Что делать?», ставится проблема положительного героя3. Хотя явных указаний на это немного. В подготовительных материалах к роману «Идиот» есть запись: «ПУБЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ (ЖЕНА Ч ернышевско -го (1Х,260). Подразумевается происшествие, имевшее место 10 июня 1862 г.4 Этот инцидент с женой Чернышевского Достоевский использовал в романе «Идиот» при описании скандала в павловском воксале (VIII, 290 - 291). В окончательном тексте романа также содержится один явный намек на «Что делать?». Лизавета Прокофьевна, подразумевая эпизод из главы второй (главка XXIV) романа Чернышевского, гневно восклицает: «Тьфу! Всё навыворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет, вдруг среди улицы прыг на дрожки: „Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, прощайте!" Так это и хорошо так, по-вашему, поступать? Уважения достойно, естественно? Женский вопрос? .. . Да пусть мать дура была, да ты все-таки будь с ней человек!..» (VIII, 237 - 238).
Последнее замечание Лизаветы Прокофьевны указывает на разницу ценностных доминант в романах Чернышевского и Достоевского. В романе «Идиот» декларируется понимание и прощение, в «Что делать?», напротив, утверждается право личности (на счастье, свободу и т. п.) и положительно оценивается готовность всегда это право отстаивать - в столкновении с властью, старшими, родителями, - таким образом отвергается и авторитетность библейских заповедей. И Лизавета Прокофьевна отмечает эту связь, когда после упоминания о сбежавшей от матери дочери (Вере Павловне из «Что делать?») обобщает: «Сумасшедшие! Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю» (VIII, 238; пророчество сбылось в 30-е годы XX века, когда потомки революционеров эпохи Чернышевского действительно переели друг друга). Тема «гордости и тщеславия» применительно к нигилистам еще раз возникает в речи генеральши Епанчиной: « ... они все с ума спятили от гордости и тщеславия ... » (VIII, 267). Здесь она говорит о причинах безумия молодого поколения, используя традиционные христианские категории. Тщеславие и гордость с древнейших времен описываются в христианской литературе среди наиболее опасных страстей, причем гордость - первый, «самый свирепый и самый неукротимый зверь»5.
Чернышевский - сын священника и бывший семинарист - прекрасно знал христианскую топику, но в своем романе сознательно ее искажал. Так, он пишет о «святой гордости» (гл. 3, XX)6, а в любимой героине Вере Павловне подчеркивает то, что «она очень горда» (гл. 4, VI, IX) .
Мне уже приходилось ссылаться на замечательную символическую картину столкновения христианства и язычества в судьбе человека, представленную в стихотворении Пушкина «В начале жизни школу помню я...». В качестве главных языческих идолов здесь представлены идолы гордыни и сладострастия. В романах Чернышевского и Достоевского второму идолу также находится место.
В «Что делать?» эротическая тема играет принципиально важную роль. В снах Веры Павловны развитие цивилизации предстает в виде истории освобождения женщины и реабилитации плотской любви. В 4-м сне автор ссылается на источник своей концепции - стихотворение Шиллера «Четыре века» (1802) . В этом произведении языческая древность изображена как счастливая пора в жизни человечества: человек .. . жил и любил, и к нему на пиры Природа обильно носила дары. Кровь хотя и лилась,
Но мир красоту и любовь обожал. Свержение богов «с небесных высот», рождение от Девы Сына Божия приводит к тому, что
И воли нет чувствам: век страсти протек,
И думу замыслил в себе человек.
Но дикая жизнь становилась мрачней,
Хоть солнце любви и светилось над ней.
Наконец, после эпохи средневековья, наступает новое время - приходит последний век, когда .. . пламя поэзии вспыхнуло вновь —
Зажгли его прелесть души и любовь.
Любовь и поэзия, по Шиллеру, - это главное и единственное, то, что освещает жизнь и живит душу:
Поэты и девы, в дыханьи одном
Вы души свои сочетайте!
Вы правды и прелести светлым венцом
Прекрасную жизнь увенчайте!
О, песнь и любовь! Вами жизнь лишь светла!
И силою вашей душа ожила9.
В мире новых людей Чернышевского эротика осознается как важнейшая составляющая жизни. В будущем, как учит Веру Павловну языческая богиня любви, плотская страсть станет главным смыслом и главной ценностью существования: «Я царствую здесь. Здесь все для меня! Труд - заготовление свежести чувств и сил для меня, веселье - приготовление ко мне, отдых после меня. Здесь я - цель жизни, здесь я - вся жизнь»10.
Кроме гордости и сладострастия (блуда, по христианской классификации страстей), в романе Чернышевского реабилитируется еще одна страсть - чревоугодие. Автор неоднократно и с умилением подчеркивает, что его героиня любит «сладко покушать»11.
Осознанная полемичность по отношению к христианству здесь очевидна. В таком же духе упоминается в романе «Что делать?» исповедь, для христиан связанная с одним из таинств - таинством покаяния. Во «Втором сне Веры Павловны» священник (!) Мерцалов предлагает: «Давайте играть, ... давайте исповедываться» (гл. 3, III) . В романе «Идиот» с подобным профанированием серьезного мы сталкиваемся в эпизоде с «пети-жё», содержанием которого становится игра в признания.