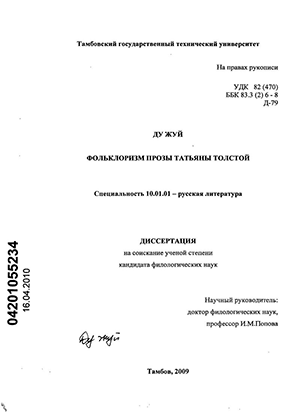Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Фольклорный интертекст как способ выражения авторской идеи в малых жанрах Татьяны Толстой 14
1. Функции детского фольклора в рассказах Татьяны Толстой на тему разлада мечты и действительности 14
2. Фольклорные средства комизма в малой прозе Татьяны Толстой 51
Глава II. Фольклорный мир романа Татьяны Толстой «Кысь» 87
1. Сказочная антиномия Кысь - Княжья Птица Паулин как идейная доминанта произведения 87
2. Приём псевдофольклорности в воссоздании хаотической картины — символа современного мира в романе «Кысь» 111
Заключение 137
Примечания 142
Список использованной литературы 1
- Функции детского фольклора в рассказах Татьяны Толстой на тему разлада мечты и действительности
- Фольклорные средства комизма в малой прозе Татьяны Толстой
- Сказочная антиномия Кысь - Княжья Птица Паулин как идейная доминанта произведения
- Приём псевдофольклорности в воссоздании хаотической картины — символа современного мира в романе «Кысь»
Введение к работе
Творчество Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951 г.), современного талантливого художника слова, широко известно и в России, и за рубежом.
Первая книга рассказов писательницы «На золотом крыльце сидели» (1987) сразу сделала её известной. Затем вышли такие книги Татьяны Толстой, как «Любишь - не любишь» (1997), «Сестры» (1998), «Река Оккервиль» (1999), «Ночь» (2002), «День»(2003), «Не кысь» (2004), а также роман «Кысь» (2000), которые сделали её творчество культовым.
О прозе Татьяны Толстой существуют многочисленные критические отзывы и отдельные научные исследования. Большинство исследователей рассматривают прозу Татьяны Толстой как эстетический феномен, в котором «сказочность», то есть фольклоризм, имеет большую значимость и более широкую функциональность.
Вопросу функциональности интертекста, в том числе и фольклорного, в толстовском творчестве посвятили свои работы О.В. Богданова, А.Жолковский, Е.Невзглядова, Н.Иванова, И.Грекова. Исследователи отмечают, что элементы интертекста, проявляющие себя как в тематике, так и в поэтике произведений Татьяны Толстой, обладают множеством функций: выражают авторскую оценку, характеризуют персонажей и ситуации, способствуют типизации изображаемого, актуализируют скрытые текстовые смыслы.
Исторической памяти, проблема потери которой в ХХ веке волновала Татьяну Толстую, посвятила своё исследование С.Г. Шулежкова. В статье сделан важный для нас вывод о том, что фольклоризм писательницы связан с желанием вернуть читателей во времена, которые забыты современниками, но очень важны для национальной самоидентификации.
В своей диссертации Люй Цзиюн сделал вывод, что Татьяну Толстую, действительно, глубоко волнует тема исторической и культурной памяти в современной России, поскольку эта проблема присутствует и в её прозе, и в публицистике.
Писательница делает вывод в романе «Кысь», что человеческая память избирательна, а культура и искусство, каких бы высот они ни достигли, бессильны перед людским невежеством, перед примитивизмом духа. Это заключение вытекает из постановки проблемы «памяти» в прозе Т. Толстой. Этой же проблеме, но поставленной в романе-антиутопии «Кысь», посвящена диссертация О.Е. Крыжановской «Антиутопическая мифологическая картина мира в романе Татьяны Толстой «Кысь».
О широчайшем использовании фольклоризма в публицистике Татьяны Толстой с целью воссоздания утерянной исторической и культурной памяти народом упоминается в диссертации Е.В. Любезной «Авторские жанры в художественной публицистике и прозе Татьяны Толстой. Подавляющее большинство исследователей справедливо признаёт, что Татьяна Толстая – литературный и особенно фольклорный, то есть интертекстуальный мастер слова, использующий различные виды цитаций, аллюзий, сюжетов в художественных целях. Но до сих пор нет специального исследования, посвящённого фольклоризму творчества Татьяны Толстой. В современном отечественном литературоведении не изученным специально остаётся такой важный для раскрытия идейно-художественного своеобразия прозы писательницы вопрос, как функциональная значимость фольклорного компонента в творчестве Татьяны Толстой.
Актуальность и значимость работы продиктованы сложившейся в современной науке приоритетной линией, сформулированной в постановлении президента РАН «Об утверждении основных направлений фундаментальных исследований» от 1 июля 2003 года, №233, п.п. 8.7: «Духовные и эстетические ценности отечественной и мировой литературы и фольклора в современном осмыслении». Изучение литературы конца XX - начала XXI века в ее интертекстуальном, в том числе фольклорном аспекте, очень важно, поскольку позволяет более объективно и глубоко проанализировать произведения известной современной писательницы и выявить жанрово-поэтическое содержание русской прозы, в том числе прозы Татьяны Толстой.
В диссертации предпринимается попытка изучить рассказы и роман Татьяны Толстой «Кысь», определив их особенности в области интертекстуального (фольклорного) содержания, выявив и осмыслив основные художественные параметры творчества Татьяны Толстой в целом.
Диссертация написана на материале прозы Татьяны Никитичны Толстой. Основной акцент сделан на рассказах и романе «Кысь». Этот широкий пласт творчества Татьяны Толстой и стал объектом диссертационного изучения, а осмысление толстовской прозы с точки зрения её фольклорно-интертекстуального содержания послужило основным предметом исследования нашей работы.
Целью исследования является изучение произведений Татьяны Толстой в аспекте выявления в них фольклорных элементов, их систематизация, определения их значимости и функциональности с целью раскрытия идейно-художественного своеобразия прозы Татьяны Толстой.
Задачи диссертационной работы связаны с поставленной целью исследования:
- выявить функциональность детского фольклора в рассказах Татьяны Толстой, посвящённых разладу мечты и действительности;
- проанализировать мифопоэтическую структуру этих произведений, связанную с их фольклорно-интертекстуальным характером;
- определить наиболее значимые функции русского устного народного поэтического творчества в прозе Татьяны Толстой, своеобразие идейно-поэтического содержания прозы Татьяны Толстой.
Метод исследования определяется целями диссертации и представляет собой сочетание структурно-поэтического, интертекстуального и мифопоэтического подходов к изучению произведений литературы.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В рассказах Татьяны Толстой, затрагивающих тему «разлада мечты и действительности», широко используются различные виды фольклорного интертекста: цитаты, образы обрядовых и лирических песен, аллюзии, реминисценции, загадки, сказки, былины и т.д. Основная цель фольклорного интертекста в рассказах Татьяны Толстой заключается в выражении авторского сознания; а также через фольклоризм характеризуются образы, создается эффект связи событий сюжета с древней исторической культурной традицией, народной памятью.
2. В рассказах Татьяны Толстой наиболее часто используются в качестве культурных отсылок те жанры древнего русского фольклора, которые перешли в детский игровой фольклор, что объясняется, на наш взгляд, желанием писательницы сказать просто о сложном, выразить суть жизни с помощью детского наивного взгляда на мир.
3. Средства комизма в малой прозе Татьяны Толстой опираются на фольклорные гиперболы корильных песен, гротескную символику, комизм сходства, обыгрывание сказочных сюжетов, пародирование различных фольклорных текстов. С помощью приёмов народного комизма автор подчёркивает абсурдность отношений между людьми в современном мире.
4. Фольклорные сатирические цитаты в романе «Кысь» служат скрепами, позволяющими заглянуть в глубь русской народной традиции и увидеть те глобальные изменения, которые произошли в душе народа к концу ХХ столетия. Сказочные существа Кысь и Княжья Птица Паулин воплощают борьбу добра и зла в душе человека. «Сращение» главного героя романа Бенедикта с Кысью и исчезновение Паулин свидетельствует о духовном кризисе современного мира, аллегорически воспроизведённого в образе города Фёдор-Кузьмичска.
5. Новаторский художественный приём «псевдофольклоризма», повсеместно используемый в романе «Кысь», позволяет Татьяне Толстой продемонстрировать духовную и нравственную мутацию, смену аксиологических полюсов, происходящую повсеместно.
Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что предметом отдельного специального изучения становится идейно-художественное содержание прозы Татьяны Толстой, раскрываемое через фольклорные включения.
Диссертация дает представление о важнейшей части самобытной прозы современной писательницы, выявляя функциональную значимость русского народного поэтического творчества в прозе современного художника слова.
Научной новизной обусловлена и сущность гипотезы, выдвигаемой в настоящем диссертационном исследовании: проза Татьяны Толстой отличается широким использованием различных фольклорных средств и интертекстов, имеющих философско-художественную значимость в создании национальной картины мира.
Теоретико-методологической базой исследования являются труды теоретиков литературы: Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова, В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, И.П. Ильина, М.Н. Липовецкого. Кроме того, в работе осмыслены исследования И. Скоропановой, О. Николаевой, А. Гениса, А. Жолковского, И. Грековой, Н. Ефимовой, Н. Ивановой, В. Курицына, О. Крыжановской, Е. Любезной, Люй Цзиюна и др.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что работа способствует более глубокому пониманию связи современной русской литературы с русским устным народным поэтическим творчеством.
Практическое значение исследования связано с возможностью использования его результатов при разработке курсов лекций по истории русской литературы XX века, при чтении спецкурсов по проблемам современной литературы на филологических факультетах, на факультативах школ с гуманитарным профилем.
Апробация исследования: научные результаты диссертации были представлены на Международной научно-практической конференции «Человек и природа в русской литературе» (К 95-летию С. П. Залыгина) в Мичуринском госпединституте в мае 2008 года; на Интернет-конференции «Поэтические школы Тамбова. Прецедентные феномены тамбовских писателей в современной русской литературе» (2008 год), на Международном конгрессе литературоведов к 125-летию Е.И. Замятина в Тамбовском госуниверситете имени Г.Р. Державина в октябре 2009 года, а также на Международной научно-практической конференции «Квалификационная филологическая подготовка» в Борисоглебском госпединституте (апрель 2009 года).
Основные положения работы отражены в пяти публикациях.
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация состоит из двух глав, введения, заключения и списка использованной литературы, состоящего из 214 наименований.
Функции детского фольклора в рассказах Татьяны Толстой на тему разлада мечты и действительности
Одной из значимых тем творчества Татьяны Толстой является тема детства как утраченного рая, как разлада мечты и действительности, поставленная практически во всех её рассказах. Детский фольклор, то есть те обрядовые жанры, которые, утратив сакральность, перешли из взрослого фольклора в детский: игровые песенки, считалки, присловья, сказки, былички, легенды выступают как художественное средство выражения главной идеи каждого толстовского произведения. Главной же идеей большинства рассказов Татьяны Толстой является разлад мечты и действительности.
Т.Г. Писаревская в работе «Реализация авторской позиции в современном рассказе о мечте» (по произведениям Л. Петрушевской, В. Токаревой, Т. Толстой) доказала, что женскую прозу роднят мотивы одиночества, богооставленности, разлада мечты и действительности [6]. Автор книги верно подчёркивает, что герои всех трех писательниц живут в придуманном иллюзорном мире, не могут вырваться из раз и навсегда предначертанного судьбой замкнутого круга. Бегство от серой действительности, поиск идеалов, отказ от зависти и лжи возможен только в мире сказки, где добро всегда торжествует.
В рассказе «Соня» тема детства как сути бытия заявлена автором-повествователем, например, в форме детских заклятий Солнца-Ярилы: «Гори, гори ясно» [2]. Этот фольклорный интертекст выполняет функцию характеристики образа главной героини: речь идет о главнейшей сущности души Сони, способной к горению во имя любви и благополучия, пусть и мнимого, существующего только в письмах, но горячо и преданно любимого Николая. Сонина душа «горит ясно» и не гаснет до самой её гибели под бомбой в осаждённом Ленинграде.
В рассказе «Соня» содержится фольклорное, точнее сказочное, вступление - это первая обобщённая фраза. «Жил человек...» [2]. Она представляет собой сказочную формулу неопределённо-обобщённого типа: «Жил-был один человек» [3], говорящую о жизни всех людей вообще, об общих закономерностях бытия.
Телефонная трубка сравнивается в рассказе с черной пастью дракона [2,3], поскольку в телефоне звучит только «бестелесный след голоса», а это символизирует смерть. Дракон пожирает тело, но не уничтожает душу, которая даже «в огне не горит, и в воде не тонет». Голос — душа не может быть уничтожен Драконом-смертью.
Фольклорные интертекстуальные средства используются в данном случае для изображения «теней ушедших», то есть в воспоминаниях о ближних. Повествователь вставляет древнее заклятие дождя у славян: «Смотри скорей, пока не погасло!» [2,3]. Его можно сравнить с подлинным заклятием: Гори-гори ясно, Чтобы не погасло! Это заклятие применялось в обрядах прославления и звучало для бога солнца Ярила. По мнению профессора Снегирева, Ярило-Бог, однозначный с Туром и Тельцом, вошедшими в весеннее созвездие. Тур был всегда представителем силы, ярости и мужества» [3]. Такая душевная ярость, любовь к жизни есть у Сони, на что и намекает фольклорный обрядовый интертекст, оставшаяся в детских играх.
Свои воспоминания повествователь материализирует, сравнивает их с народной игрушкой или с идолом языческого божества: «Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу - потеки клея от мочального парика...» [2,3].
Грубая тряпичная кукла напоминает славянских обрядовых кукол: Морену, Русалию, Кострому, Масленицу и других, чучело которых делалось для совершения обрядов. Все эти календарные обрядовые действа выражали суть древней религии «Убиваемого и Воскресающего божества», поскольку в них говорилось о беспрерывной смене жизни и смерти. Очевидно, поэтому Татьяна Толстая вставляет фольклорные реминисценции, цитаты, аллюзии, рассказывая о воспоминаниях про дорогих умерших, рано и давно ушедших родных людях, которые всё равно продолжают жить в сознании, в памяти.
Авторское лирическое отступление в рассказе «Соня» насыщено фольклорными элементами, очевидно, потому, что представление о смерти в русском народе имеет языческие корни. Автор, как и ее предки древние славяне, считает, что умершая Соня, «поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная» [2,6].
Соня названа автором «истуканом», то есть древним языческим божеством, которому когда-то поклонялись люди. И даже тарелка с бульоном перед ней - не просто суп, а «озеро». Повествователь определяет свою героиню как человека, у которого «есть достоинство всех английских королев, вместе взятых» [2,6]. На самом деле - это только видимость, только внешняя оболочка. А внутри «истукана» живёт отзывчивая Сонина душа»
Тарелка - «озерцо» подчеркивает природность, естественность женственной сути героини. Внешне некрасивая, Соня прекрасна «внутренне», ее душа вмещает весь мир, все горести и радости ближних. Автор пишет по этому поводу: «По прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями... Чуткий инструмент, Сонина душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества» [2,7].
Соня названа также в рассказе дурой — это выражение общественного мнения. В русской сказке все окружающие люди тоже называют Иванушку — дурачком. Но в русской народной сказке Иван «воцаряется», женится на царевне и управляет царством, то есть оказывается самым мудрым. Так и Соня в финале рассказа воспринимается автором как человек мудрый и счастливый, проживший жизнь во имя любви к ближнему, исполнивший истинное предназначение человеческого бытия.
В русской сказке и Иван-дурак, и Лягушка-царевна, и Чудище из «Аленького цветочка» некрасивы, даже уродливы внешне, но они обладают прекрасной душой, которая помогает им достичь гармонии духа и тела и стать счастливыми людьми. Схема этих древних сказок намеренно, на наш взгляд, вводится в контекст рассказа Т.Н. Толстой «Соня», выполняя функцию культурной отсылки, в данном случае — фольклорной, и выражая мнение автора по поводу происходящего.
Народные поэтические символические образы присутствуют на интертекстуальном уровне и при характеристике антипода Сони — Ады Адольфовны, образ которой сопрягается с символикой змея, то есть зла, безобразия, тщательно замаскированного под красоту.
Соня служила в библиотеке «научным хранителем», на самом деле она была одновременно хранителем доброты и истинной женственности. Напротив, Ада - это пример мнимой женственности. Автор называет ее змеей, но тут же добавляет: «Интересная женщина»: «Ада была в своей лучшей форме, хотя уже не девочка - фигурка прелестная, лицо смуглое с тёмно-розовым румянцем» [2,11].
Фольклорные средства комизма в малой прозе Татьяны Толстой
Важно, что Соня не воспринимает шуток окружающих, не реагирует на иронические колкости: «Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: «Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!» — и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голоском говорила: «А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!» — «Это телячьи»,— не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!» [2, 6].
Старая дева, которую все осмеивали, Соня вела себя мудро: кротко. И в конце концов все признали, что она «романтична и возвышенна». В финале рассказа ирония исчезает, ее сменяет высокая патетика повествователя, оценившего жизненный подвиг Сони: письма Сони «в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы» [2, 14].
Иронией пронизан рассказ «Милая Шура». Портрет Александры Эрнестовны дан в шутливо-ироническом тоне: «Чулки спущены, ноги — подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года — бульденежи, ландыши, черешня, барбарис — свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась» [2, 42].
Автор воссоздает народные юмористические приемы, одновременно вводя интертекст Н.В. Гоголя из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которая начинается с иронического восхваления шляпы Ивана Ивановича» [24]. Если ирония Н.В. Гоголя служит обличению никчемности, мелочности жизни героев, поссорившихся из-за шляпы, то ирония Татьяны Толстой направлена на обличение «цветастой» пустоты жизни Александры Эрнестовны, любившей веселье и роскошь и не совершившей за долгую жизнь ни одного серьезного поступка во имя ближнего.
Повествователь восхищенно описывает красоту Шурочки, запечатленную в фотографиях, но подчеркивает, что эта красота бесплодна: «Своих детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть» [2, 43].
Результат жизни милой Шуры — «безделушки, овальные рамки, сухие цветы... шлейф валидола» [2, 43].
Четыре цикла в жизни человека: детство, юность, зрелость, старость, (символически воссозданные на шляпке героини), - не изменили ее духовно. Она осталась эгоистичной, легко летящей по жизни красавицей-мумией. И хотя повествователь утверждает, что «сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим» [2,45], но понятно, что сердце ее было пустым всегда. Ведь к умирающему мужу она пригласила цыган, чтобы он «умер весело». Ей непонятна даже горечь смерти ближнего: «все-таки, знаешь, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, - и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна - выдумщица - не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развивающееся, распахнула двери в спальню умирающего - забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд туда, а тут вдруг врываются, шалями крутят, визжат; он приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите!— а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное» [2, 45-46]. В этом эпизоде Александра Эрнестовна выступает как инфантильное существо, не понимающее смысл жизни и смерти. Она видит предназначенье женщины в веселье, получении удовольствий и использовании для этих целей влюбленных в нее мужчин.
Татьяна Толстая мастерски использует прием комической подмены, чтобы показать бездуховность, отсутствие любви в сердце главной героини. Александра Эрнестовна играла всю свою жизнь: «Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, ложечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка. Длинен путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках. Двадцать три соседа за белыми дверьми прислушиваются: не капнет ли своим поганым чаем на наш чистый пол? Не капнула, не волнуйтесь» [2, 48].
Пришедшая к ней однажды настоящая любовь вступила в противоречие с привычкой к комфорту. И милая Шура предпочла остаться с нелюбимым, но состоятельным мужем, что закономерно: она была красива только внешне, но уродливо холодна душой.
Налаженный хороший быт, механическое удовлетворение телесных потребностей — вот что главное для милой Шуры. Сердце ее сыграло несложную поверхностную пьеску жизни.
Уютный быт стал смертельной ловушкой для героини рассказа «Милая Шура». Автор-повествователь видит в ее квартире длинный коридор с разбойничьим огоньком на кухне, она копается «в темном гробу буфета», вспоминает об уложенных саквояжах, в которых «белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной темноте сундука, несессер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные купальные костюмы, чуть прикрывающие колени — а руки-то голые до плеч!— ждут своего часа, зажмурились, предвкушая... В шляпной коробке — невозможная, упоительная, невесомая... ах, нет слов — белый зефир, чудо из чудес! На самом дне, запрокинувшись на спину, подняв лапки, спит шкатулка — шпильки, гребенки, шелковые шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели — для нежных ногтей; мелкие пустячки. Жасминовый джинн запечатан в хрустальном флаконе — ах, как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свету!» [2, 50]. Ее одиночество и безобразный старческий облик — это расплата за легкомыслие и равнодушие, за излишнюю привязанность к земным благам и удовольствиям.
Сказочная антиномия Кысь - Княжья Птица Паулин как идейная доминанта произведения
Тетеря поражает своей наглостью и бездушен. Он завоёвывает расположение Кудеярова, после соблазняет Оленьку, которая не только не против его ухаживаний, а наоборот, поощряет присутствие своего любовника в доме. В роли аналога самоуверенного и наглого Терентия Петровича выступает Полиграф Полиграфович Шариков из повести М.Булгакова «Собачье сердце». Подобно тому как Шариков поселяется в квартире профессора Преображенского, Тетеря из хлева перебирается в дом Кудеяровых. В романе присутствует явная отсылка к повести М. Булгакова, претендующая на роль интертекста: «Есть хорошее правило: скотину в дом не пускать, не приучать. Собаке во дворе конуру ладят, пущай там и сидит и хозяйство сторожит. А если её какой голубчик пожалеет...пустит в дом, нипочём собака в конуру не вернётся» [33,254], «хуже собаки эти перерожденцы, собаку обматеришь — ей и ответить нечего.. .А эти же говорят без умолку, пристают к людям...» [33,243].
Тетеря вспоминает, как котов давил, и что всех их давить надо. Прежние понимают, насколько различны их жизненные устремления и желания голубчиков и перерожденцев, поэтому задаются вопросом, выражающим одну из ведущих идей не только данной главы, но всего произведения в целом: «Отчего бы это, — сказал Никита Иваныч, — отчего это у нас все мутирует, ну все! Ладно люди, но язык, понятия, смысл! А? Россия! Всё вывернуто!» [33,229]. Персонаж озвучивает причину душевных мук от хаотического кризисного состояния современного мира. С. Шулежкова отмечает: «Культура и искусство, каких бы высот они ни достигли, бессильны перед людским невежеством, перед жестокостью и вандализмом» [42,327]. Но в образе Варвары Лукинишны находит свое воплощение ищущая личность, выделяющаяся высокодуховными воззрениями и своеобразными идеями. Предельно показательно в этом плане сцена прихода Бенедикта к больной Варваре Лукинишне. Испытывая искренние чувства любви к Бенедикту, Варвара плачет о юности, пролетевшей без любви. Поиск книги под кроватью с помощью ноги, который устроил Бенедикт, вызывает у Варвары мысль о любовном томлении Бенедикта: «Не трепещите так, друг мой! Поздно! Судьбе не угодно было скрестить наши пути!» [33,249]. Но герой случайно зашиб её до смерти и ощутил такую горечь, что стал искать идола и начал рисовать что-то наподобие иконы. Но побеждает минутную жалость желание найти книгу, и Бенедикт сбрасывает с постели труп, ищет то, за чем пришёл.
В этом эпизоде показана пропасть между тянущейся к духовной жизни Варвары Лукинишны и «материализмом» и циничной наглостью Бенедикта, механически читающего книги и любящего их как игрушки.
В монологе героя, ратующего за «спасение» искусства и бережное отношение к книге, находит отражение и авторская мысль о сегодняшнем несерьезном, зачастую пренебрежительном отношении к Книге, к тому, что на протяжении долгого времени считалось вместилищем народной мудрости, культурным наследием, обретающим особую ценность в кризисные, переломные моменты истории русского государства: «Милая! Воды боится, огня боится, от ветра трепещет; корявые, грубые пальцы человеческие оставляют на ней синяки, и не пройдут они! Так и останутся! А есть, которые рук не помывши, а есть, которые чернилами подчеркивают! А есть, которые страницы вырывают» [33,238].
Центральный герой романа Бенедикт абсолютизирует книгу как средство избежать нашествия Кыси, ради нее он готов на все: «Что бы вынес ты из горящего дома?.. Я - то? Аи не знаете? „ Ты, Книга, чистое мое, светлое мое, золото певучее, обещание, мечта, зов дальний ... Ты, Книга! Ты одна не обманешь, не ударишь, не покинешь!» [33,220-221]. Монолог Бенедикта — почти песня, это гимн Книге. Но чтение для героя -наркотик, во время принятия которого он чувствует душевное волнение, но объяснить себе, что волнует его, Бенедикт не может. И, выбирая между Чеховым и Антониной Коптяевои, он останавливается на последней, потому что «ее» книжка чистая, «нетронутая». Тут возникает параллель: Бенедикт — современный читатель. Татьяна Толстая в одном из своих интервью заметила: «Теперь книги читаются по две, а то и по три параллельно: в метро — Фаулз, на работе — Интернет, по пути домой - газеты и журналы, перед сном — Миллер. Этакий конвейер. Теряется вкус и осязание текста. И все сложнее воспринимать магию языковых образов и стилистических авторских находок» [43]. Свой роман Татьяна Толстая строит на отрицании литературной и культурной псевдореальности, неизменно возникающей в сознании читателя при таком образе чтения: Бенедикт, начав читать, не слышит и не видит все, что не принадлежит пространству печатного слова, но в конце так и не находит высшей истины, а проще — смысла, лишь нагружает душу тягостным знанием о его отсутствии: «Внутри — смотри, — и внутри нет его, — уже всего вывернуло наизнанку, нет там ничего! ... Голодно мне! Мука мне!» [33,308].
Книга в романе выступает и как символ власти: имеющий книги — имеет в Федор-Кузьмичске власть. В романе образ Книги связан с библейской метафорой Книги Книг, содержащей в себе все заповеди Создателя. Процесс поглощения Бенедиктом книг напоминает о метафорике сверхъестественной инициации, описанной в Книге пророка Иезекииля и в Апокалипсисе. В Книге пророка Иезекииля описано видение божественного откровения посвящаемому в пророки, которое длилось вплоть до того момента, когда в соответствии с Божьим указанием пророк съел, «как мед», свиток с описанием людского горя: «И сказал мне: сын человеческий! Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе» [Иез.3:3], после чего посвящаемый был вовлечен в открывшееся ему видение. Опираясь на «чувственную конкретность образа», автор романа «разоблачает метафору, сближает ее с реальностью»[26,489]. В финале романа звучит внутренний диалог Бенедикта и Княжьей Птицы Паулин, олицетворяющей здесь Книгу, истину, свет: «Ах, зачем, Бенедикт, ты с мово белого тела каклеты ел? Я не хотел, нет, нет, нет, не хотел, меня окормили, я хотел только пищу духовную, — окормили, поймали, запутали, смотрели в спину!» [33,308].
В самый последний момент перед казнью Бенедикт, наконец, понимает, что жизнь прожил, а чего-то важного не понял, поэтому снова спрашивает Никиту Иваныча: «Книгу-то эту где искать? ... Книгу-то эту, что вы говорили! Где спрятана? ... Где сказано, как жить!» На что Прежний старик отвечает: — Азбуку учи! Азбуку! Сто раз повторял! Без азбуки не прочтешь! [33,314]. Опять звучит мысль о необходимости постижения не книжной, а жизненной азбуки. Герой признает свое поражение перед лицом настоящего и будущего. Происходит это, по мнению автора, по причине полной утраты внутренней гармонии, искомой героем на протяжении всей своей жизни.
Книги, на основе которых герой пытался строить свой мир, оказываются для него бесполезными. Рушатся надежды Бенедикта найти Книгу Книг (Библию) — рушится воображаемая героем концепция бытия. Герой создает только «видимость», «кажимость», симулякр мира, не имеющего за собой реальной сущности, мира, в котором духовность приобретает сугубую материальность: текст существует по законам «кысьского» мира, а мир героя — по законам текста. В этом мнимом мире духовный крах протагониста неизбежен.
Приём псевдофольклорности в воссоздании хаотической картины — символа современного мира в романе «Кысь»
В противовес приведенному мнению необходимо вспомнить о том, что существующие начертания славянских букв были приведены братьями Кириллом и Мефодием «в соответствие с сакральным пониманием сущности языка как установленного свыше кода бытия народа» [48]. С этой целью «буквенный массив славянской азбуки был разделен ими на две половины, которые, помимо числовых значений, были наделены индивидуальными прочтениями и соединены в краткие смысловые формулы» [48]. Каждая из этих половин рисовала в своем тайном звучании два диаметрально противоположных пути земного существования — праведный («изначально стремись к знаниям, говори-поступай добронравно; по естеству живи; крепко люби землю и, мысля как люди, станешь всем братом духовным; изречешь слово твердое, укрепишь закон; обретешь славу вечную») и греховный («безродный, пустой, утробная тварь, шваль суетная, вор, пьянюга, еретик, враг, прими долю горькую: изгнанником измаешься, изловят, свяжут, заточат в темнице, казнен будешь» [48]. Таким образом, славянский алфавит — это духовное послание грядущим поколениям, причем даже не нуждающееся в расшифровке в силу своей простоты и прозрачности.
В главе «Еры» содержится расшифровка символического значения буквы «фита» в контексте романа «Кысь». Бенедикт отрицает существование буквы «фита» в знакомом ему современном варианте русской азбуки, так как это понятие воспринимается им только в прямом значении. Для Никиты Иваныча это не просто название буквы, а символ, знак, которым отмечены культурное наследие славян, память о легендарном прошлом страны, чувство уважения и благодарности тем, кто хранил духовные ценности и создавал подлинные шедевры искусства и литературы, это вера в скорое возрождение потерянной памяти: —И никакой "фиты" там нет. .. —А вот и есть! - закричал ополоумевший Истопник, -"Никитские ворота"— это моя вам фита, всему народу фита! С надеждой на будущее! Все, все восстановим, а начнем с малого! Это ж целый пласт нашей истории! Тут Пушкин был! Он тут венчался! [33,265-266]. Таким способом Татьяна Толстая выводит проблематику романа на новый уровень христианской аксиологии. Глава «Фита» является ключом, шифром для понимания основополагающих авторских идей и воплощения их в проблематике романа «Кысь». Одноименная буква в церковнославянском языке считается символом церкви, знаком Божественного: «В языке материнской, греческой церкви слово "Бог" начинается с этой буквы: "ФЭОС"» [48,146]. На иконах с изображением Божьей Матери можно увидеть эту букву в надписи около нимба: MP и ФУ (в переводе с греческого «Митир ту Феу» — «Матерь Бога»). Не случайно в старину говорили: «Фита умильна, утешительна, плачевна» [48,146].
В главе романа «Он» - образ Кудеярова отражает суть окружающей голубчиков реальности. «Выбор названия главы «Он» указывает на определенную персонификацию автором и героем образа отца Оленьки Кудеяр Кудеярыча Кудеярова, который является олицетворением чуждого, страшного и враждебного мира Санитаров, в чьи обязанности входит «обеспечение спокойствия» в Федор-Кузьмичске» [35,72].
Словарь В.И. Даля дает справку о том, что «он» — это не только местоимение, указывающее на 3-е лицо единственного числа, но на Руси так раньше называли и домового: «иные не называют домового иначе, какъ просто онъ» [47,673]. «Он» — это своеобразная «подмена» личности, ее симулякровость, «скатывание» в «дикость» духа, в инфернальную область бытия. Семантика имени Кудеяр также указывает на связь с популярным мифом. Татарское имя Кудеяр существовало на Руси со значением «сильнейший из чародеев, кудесников, волшебников»: фамилия Кудеяров считалась синонимичной фамилии Кудесников. В русском фольклоре содержится немало легенд и преданий, повествующих о небезызвестном разбойнике Кудеяре, обладающем колдовским даром, умеющем находить клады и сокровища.
В романе Кудеяров тоже наделен необыкновенным Последствием — он может пускать глазами яркие лучи, воспламенящие все вокруг. Кудеяров — санитар, он, как и домовой, «заботится» о соблюдении порядка во вверенном ему пространстве, но через применение силовых методов: устрашения, казней, предательства, подлога.
Слова-гибриды, псевдофольклорные цитаты свидетельствуют о необратимых процессах, происходящих на сегодняшний день в сознании русского человека, о мутации языка, о живучести примитивной языческой культуры.
Второй язык романа — высоко духовный, представляющий собой литературный, книжный вариант, который доступен только пониманию Прежних. Бенедикт, по долгу своей профессии, употребляет в своей речи заученные строки из книг, но без уяснения сути, без понимания смысла. Книжный текст воспроизводится героем механически, не затрагивая его ума и сердца: «Стихи Федора Кузьмича, слава ему, из малопонятных вспомнились: