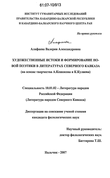Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философские основы поэтической концепции Даниила Хармса 26
1.1. Концепты текучести и вещности в заумной поэзии и у Хармса 28
1.2. Основные понятия поэтики Хармса в контексте его философских интересов 52
1.2.1. Поиски «Смысла» и феноменологическая редукция 52
1.2.2. Философская «библиотека» Хармса 63
1.2.3. Гносеологические воззрения Хармса в свете идей Гуссерля и Лосского 69
1.2.4. Понятие совершенного подарка у Хармса и эстетика Канта 83
1.2.5. «Регистрация мира» и практика йоги 87
1.2.6. Процесс порождения поэтической вещи в метафизической и психоаналитической перспективе... 90
1.2.7. Понятие синтетического предмета и бессмыслица как его вербальный эквивалент 95
1.2.8. Поэзия как органическое и наука как неорганическое видение мира 101
1.2.9. Творчество Хармса 1930-х годов: от остановки мгновения к фрагментации мира 106
1.3. Проект словаря иероглифов 117
1.3.1. Понятие иероглифа 117
1.3.2. Бессмыслица как иероглиф 119
1.3.3. Иероглифы универсальные и персональные 122
1.3.4. Иероглифы стихий и процесс образования слов 124
1.3.5. Метод иерографии и психические процессы индивидуации 128
1.3.6. Неудача, постигшая проект, и ее причины 131
Глава 2. Эстетика Хармса в контексте изобразительного искусства 137
2.1. Хармс и Малевич: категория чистоты и мотив полета 137
2.2. Метафизический и эстетический смысл орфографических и пунктуационных девиаций у Хармса 141
2.3. Рисунок как слово в творчестве Хармса 152
2.3.1. Автопортрет Хармса 152
2.3.2. Феномен чистого созерцания картины в тексте «Мальтониус Ольбрен» 154
2.3.3. Рисунки Хармса как смыслопорождающая матрица значений 160
2.3.4. Философия поверхности 176
2.3.5. Феномен мерцания 181
2.3.6. Картина как окно 185
2.3.7. Предмет искусства как «совершенный подарок» 187
Глава 3. Религиозные корни мировоззрения и поэтики Хармса 190
3.1. Таблица «троицы существования» в контексте «катастрофического миросозерцания» 192
3.2. Бог и человек у Хармса в свете христологической антропологии Бердяева 200
3.3. Поэзия как трансцензу с и как глобальная сублимация 210
3.4. Антиномии таблицы «троицы существования» с точки зрения эволюции поэтики Хармса 231
Глава 4. Оккультные мотивы в творчестве Хармса и их источник в романах Густава Майринка 258
Глава 5. Проза Хармса в интертекстуальной перспективе: от авангарда к абсурду 291
5.1. Фантастическое и обыденное у Аполлинера, Эме, Владимирова и Хармса 293
5.2. Случайное и сериальное 297
5.3. Язык, безумие и смерть 308
5.4. Мотив растворения в бытии в алхимической, психологической и экзистенциальной перспективе 321
5.5. Смерть как экзистенциальная ситуация и как нарративный прием 338
Заключение 366
Библиография 374
- Концепты текучести и вещности в заумной поэзии и у Хармса
- Хармс и Малевич: категория чистоты и мотив полета
- Таблица «троицы существования» в контексте «катастрофического миросозерцания»
- Оккультные мотивы в творчестве Хармса и их источник в романах Густава Майринка
Введение к работе
Еще в 1988 году, в момент выхода в свет первого в России сборника произведений Даниила Хармса («Полет в небеса», сост. А.А. Александров1), этот поэт, драматург и прозаик оставался загадочной фигурой, роль которой в истории русской литературы первой половины XX века была не до конца ясна. С тех пор Хармс неоднократно переиздавался, его сочинения обрастали подробными комментариями, появилось множество работ, прослеживающих связь между его творчеством и различными течениями литературной, художественной и философской жизни этой насыщенной событиями эпохи. Популярностью однако пользуется прежде всего хармсовская проза, при этом у читателя может возникнуть искушение отнестись к ней как к ряду забавных анекдотов, нелепых историй и происшествий. Стихи же Хармса интересуют, главным образом, филологов-специалистов по русскому авангарду. Но без анализа хармсовского метафизико-поэтического проекта, разработкой которого он занимался начиная с середины 1920-х и вплоть до конца 1930-х годов, невозможно понять, как возникла проза поэта, стремившегося к «очищению» мира и слова и пришедшего, в конце концов, к необходимости бороться против собственного текста, угрожающего самой индивидуальности творца.
На настоящий момент в России издано несколько книг, посвященных творчеству Хармса: в первой из них, монографии швейцарского слависта Жана-Филиппа Жаккара (оригинал вышел в 1991 году2, русский перевод - в 1995), скрупулезно воссоздается контекст эпохи, прослеживаются связи между поэтикой Хармса и наследием его предшественников по авангардному творчеству, таких, как Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Александр
Хармс Д. Полет в небеса: Стихи. Проза. Драмы. Письма / Сост. А. А. Александров. Л.: Советский писатель, 1988. 2 Jaccard J.-Ph. Daniil Harms et la fin de l'avant-garde russe. Bern etc.: Peter Lang, 1991.
Туфанов и др. По словам самого исследователя, цель его работы заключается в «выявлении эволюции всей этой системы [поэтической системы Хармса. -Д.Т.] как в процессе анализа текстов, так и изучения непосредственного окружения поэта — интеллектуального и артистического»3.
В 1998 году появляется еще одна книга о Хармсе - концептуальная монография Михаила Ямпольского «Беспамятство как исток (Читая Хармса)». Сам автор предуведомляет читателя, что принятая в его исследовании точка зрения находится на «периферии филологии». Метод М. Ямпольского - «свободное движение мысли внутри текста», чтение как «неспециализированная рефлексия», пренебрегающая историческими связями и параллелями ради восприятия текста как «внетемпорального», «идеального» дискурса. Исследователь объясняет свой подход тем, что наследие Хармса с трудом поддается традиционному филологическому и философскому анализу и связано это с принципиальной антиисторичностью хармсовской поэтики: «То, что Хармс не работает в режиме классической интертекстуальности, то, что память в его текстах ослаблена до предела, именно и ставит его творчество на грань традиционных филологических представлений о литературе, и делает его исключительно интересной фигурой для сегодняшнего исследователя»4.
Радикальное различие в подходах Жаккара и Ямпольского подвигло Михаила Клебанова на написание специальной работы, посвященной компаративному анализу двух методов. Отдавая должное обоим авторам, Клебанов вместе с тем справедливо указывает, что Жаккар «просто не мыслит Хармса в отрыве от соответствующей идейной среды; и если заглавие самой книги <.. .> связывает (насколько правомерно - иной вопрос) кончину, реальную или метафорическую, Хармса с концом русского авангарда, то построение ее разделов совершенно недвусмысленно соотносит
3 Жаккар Ж. -Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект,
1995. С. 9.
4 Ямпольский М. Б. Беспамятство как исток (Читая Хармса). М.: Новое литературное
обозрение, 1998. С. 11.
7 различные аспекты творчества писателя с присутствием вокруг него тех или иных - релевантных, по мнению автора - лиц или сообществ, будь то футуристы и адепты зауми, Малевич и его окружение, ОБЭРИУ или чинарский круг». Если швейцарскому слависту можно предъявить упрек в излишней «контекстуализации», то у Ямпольского Клебанов отмечает в качестве главной проблемы «преувеличенное воздержание от того, что мы определили как историко-культурный и биографический подход. Будучи декларированным во "Введении", это воздержание все же не уводит от решения проблем, слишком завязанных на особенностях биографии Хармса, в первую очередь касательно влияния на него таких фигур, как Малевич и -что существеннее всего - его участия в чинарском кругу (не в ОБЭРИУ!), где взаимодействие и взаимное влияние были слишком велики, чтобы поступаться ими, а главное - уклоняться от неизбежного вопроса о распространении тех или иных выводов о Хармсе на всех чинарей - людей, при всей своей общности, очень разных. Изолированный от многих реалий и перенасыщенный в виде компенсации ссылками на многочисленных философов и филологов дискурс в значительно большей мере способствует созданию ощущения, что главной целью работы является, скорее, декларированный в ней тезис, нежели непредвзятое изучение текстов Хармса - чем, скажем, тот же "Конец русского авангарда" Ж.-Ф. Жаккара»5.
С этими упреками вполне можно согласиться, при этому нужно иметь в виду, что Ямпольский специально оговаривается в своей книге, что «читатель держит в руках книгу о Хармсе, но и книгу о некоторого рода "идеальной" литературе как антилитературе, элементы которой разрабатывались и иными авторами»6. Эти «иные» авторы (Элиот, Рильке, Кржижановский и др.), как правило, не имеют прямого отношения к Хармсу и представляют интерес с точки зрения типологических параллелей, которые
5 Клебанов М. Изучая нарративы Хармса: от Ж.-Ф. Жаккара к М. Ямпольскому. Даниил
Хармс: два взгляда извне // Amsterdam International Electronic Journal for Cultural
Narratology (AJCN). N 1. Spring 2005().
6 Ямпольский M. Б. Беспамятство как исток. С. 14.
можно провести между их творчеством и творчеством русского поэта. Здесь стоит вспомнить о введенном Роланом Бартом разграничении понятий «произведение» и «текст»: анализом конкретных «произведений» занимается исследователь, применяющий историко-литературный и, при необходимости, сравнительно-исторический методы. Таков подход Жаккара. Лмпольский, напротив, больше интересуется «текстом», который предстает как область смыслов, значений, возникающих независимо от исторического времени. В данной перспективе сравнительно-типологический метод, применяемый Ямпольским, вплотную смыкается с методом интертекстуального анализа, который, однако, подразумевает в случае Хармса не традиционное изучение связи между текстом-источником и последующим текстом, а установление связи аллюзивной, неявной, скрытой.
Александр Кобринский, автор труда «Поэтика "ОБЭРИУ" в контексте русского литературного авангарда XX века»7, пытается применить как сравнительно-исторический, так и сравнительно-типологический методы при описании поэтики Хармса в частности и группы «ОБЭРИУ» в целом. Основное внимание исследователь уделяет диахроническому аспекту, рассматривая влияние на членов «ОБЭРИУ» Владимира Соловьева, Андрея Белого, Велимира Хлебникова. Если же анализ ведется в «широком синхроническом поле русского авангарда», то упоминаются те авторы, которые были современниками обэриутов - имажинисты и акмеист М. Зенкевич. Таким образом, применяя сравнительно-типологический метод, Кобринский остается в рамках единого историко-культурного поля и предпочитает, подобно Жаккару, говорить о «реальной» литературе, нежели о литературе «идеальной», интересующей Ямпольского.
Одна из задач работы Кобринского - показать, что «ОБЭРИУ» выработало единые эстетические и поэтические принципы, и тем самым опровергнуть мнение некоторых исследователей, считающих это
7 Кобринский А. А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда // Ученые записки Московского Культурологического лицея. № 4. 1999.
9 объединение весьма непрочным союзом поэтов, каждый из которых обладал собственными взглядами на художественное творчество. Одним и.*» таких исследователей является В. Н. Сажин, активно разрабатывающий так называемую чинарскую составляющую наследия Хармса, Введенского и Олейникова. По его мнению, это наследие должно изучаться в контексте философских представлений и концепций, которые вырабатывались ими совместно с Яковом Друскиным и Леонидом Липавским. Изданный Сажиным в 1998 году двухтомный сборник произведений чинарей -«...Сборище друзей, оставленных судьбою. "Чинари" в текстах, документах и исследованиях» - оказался достаточно весомым аргументом в пользу данной точки зрения. Особое место чинарям уделил в своей монографии и Жаккар, указав, что это неформальное сообщество «решительным образом повлияло на мировоззрение Хармса, а следовательно, и на его творчество»8.
Диаметрально противоположного мнения придерживается М. Б. Мейлах, который неоднократно писал о мифологизации чинарей и об искусственности самого термина: «Противопоставляя публичной деятельности его друзей в рамках ОБЭРИУ общение участников этого содружества, - замечает исследователь, - Друскин предложил для него анахронистическое название чинарей - так называли себя Введенский и Хармс в 1925-1926 годах, когда входили в туфановскую группу поэтов-заумников, однако с легкой (или, вернее, нелегкой) руки Л. С. Друскиной и терминология эта, и стоящее за ней противопоставление приобрели характер догматический»9.
Для того чтобы определиться с терминологией, нелишне вспомнить основные этапы истории обоих групп. Чинари - неформальное сообщество друзей, интересовавшихся проблемами художественного творчества,
8 ЖаккарЖ.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. С. 115.
9 Мейлах М. Б. Введенский: сорок лет спустя // Поэт Александр Введенский / Сост. К.
Ичин и С. Кудрявцев. Белград; Москва: Гилея, 2006. С. 434.
10 философии, культуры, религии. Костяк сообщества составляли поэты Даниил Хармс (1905-1942), Александр Введенский (1904-1941), Николай Олейников (1898-1937), философы Яков Друскин (1902-1980) и Леонид Липавский (1904-1941). Кроме того, в собраниях чинарей участвовала Тамара Мейер-Липавская (1903-1982), которая, до того как вышла замуж за Леонида Липавского, была женой Введенского. Иногда к чинарям присоединялся и Николай Заболоцкий (1903-1958); однако непростые взаимоотношения с членами группы (в особенности, с Введенским), а также наметившееся расхождение в поэтике отдаляли его от чинарей. Слово «чинарь», по утверждению сестры Друскина Лидии Друскиной, было ' придумано Александром Введенским. В 1917-1918 годах, во время учебы в гимназии имени Л. Д. Лентовской, он сближается с Леонидом Липавским, а позже - в 1922 году - и с Яковом Друскиным, их старшим товарищем по все той же гимназии. Весной или летом 1925 года в круг чинарей входит Даниил Хармс, а в конце года и Николай Олейников. Собственно говоря, словом «чинарь» активно пользовались лишь Хармс, подписывавшийся (в 1925-1927 гг.) «чинарь-взиральник», и Введенский, называвший себя в те же годы «чинарем-авто-ритетом бессмыслицы» <так!>. Яков Друскин, оставивший воспоминания о встречах чинарей, полагал, что слово «чинарь» произведено от слова «чин», понимаемого как некий духовный ранг, ступень на пути к духовному совершенству. Существуют и другие интерпретации: значение этого слова возводится либо к славянскому корню «творить»10, либо к хлебниковскому неологизму от слова «чинара» - «чинарить», либо, наконец, к слову «чинарик», маленький окурок.
Друскин называл чинарей эзотерическим объединением, в то время как «ОБЭРИУ» (Объединение реального искусства, 1927-1931) было объединением экзотерическим, удовлетворявшим общественный
См.: Stone-Nakhimovsky A. Laughter in the Void. An Introduction to the Writings of Daniil Kharms and Alexander Vvedenskii II Wiener Slawistischer Almanach. Band 5. Wien, 1982.
11 темперамент его создателей - и в первую очередь, Даниила Хармса11. Ядро «ОБЭРИУ» составляли Хармс, Введенский и Заболоцкий; ни Друскин, ни Липавский, ни Олейников в него не входили. Созданию «ОБЭРИУ» предшествовал ряд достаточно эфемерных объединений, таких, как «Левый фланг», «Фланг левых», «Академия левых классиков». Окончательно название закрепилось с осени 1927 года. Знаменитые «Три левых часа» -одно из последних коллективных авангардистских выступлений (24 января 1928 г.) - были организованы в рамках «ОБЭРИУ».
Как представляется, спор о том, как называть Хармса и Введенского — чинарями или обэриутами, - лишен содержания и является схоластическим. С одной стороны очевидно, что на глубинном уровне поэтика членов «ОБЭРИУ» характеризуется относительной однородностью. Действительно, несмотря на все различия, их объединяет стремление сохранить вещность предмета; во всяком случае, это следует из краткого изложения их метода, который дается в декларации движения . Вот почему обличительный пафос декларации направлен против заумной поэзии, основной принцип которой -текучесть - претерпевает в ней обидную трансформацию и превращается в ту «кашу», в которой предметы теряют свои конкретные очертания. «Нет школы более враждебной нам, чем заумь», - говорится в декларации. Желание отмежеваться от зауми было свойственно большинству членов движения, за исключением, может быть, Игоря Бахтерева, который сохранил ей верность в течение всей жизни. Если заумь в духе Александра Туфанова (Хармс и Введенский начинали свою литературную деятельности как ученики этого поэта, провозгласившего себя продолжателем дела Велимира
Ср. с мнением М. Мейлаха: «... восходящее к Я. С. Друскину противопоставление чинарей - обэриутам как эзотерического сообщества - экзотерическому, по существу своему глубоко содержательное как исходящее от участника содружества, именуемого им чинарями, при этом терминологически неоправданно и даже приводит к путанице понятий <...»> {Метах М. Б. К чинарско-обэриутской контроверзе // Александр Введенский и русский авангард / Под ред. А. Кобринского. СПб.: РШУ, 2004. С. 99). 12 Невозможно согласиться с М. Мейлахом, что характеристики творческих методов, данные в декларации, «чересчур фрагментарны, импрессионистичны и субъективны» {Метах М. Б. Введенский: сорок лет спустя. С. 437).
12 Хлебникова) базировалась, прежде всего, на разрушении фонетической оболочки слова, то для членов «ОБЭРИУ» гораздо важнее было вырвать слово из привычного окружения, поместить его в необычный контекст, сохранив при этом его вещественность, материальность.
Подобно тому как сюрреализм, с его стремлением к организованности и к выработке общих поэтических и мировоззренческих принципов, пришел на смену негативизму Дада, движение «ОБЭРИУ» должно было институционализировать новый подход к миру и творчеству, суть которого заключалась бы не в заумной деформации слова, а в его алогической трансформации; в результате поэт смог бы не только обновить; предмет, служащий денотатом данного слова, но и создать новую словесную оболочку для предметов, доселе существовавших в виде потенциальности. Разумеется, сюрреализм и «реальное искусство» развивались параллельно, независимо друг от друга; то же самое можно сказать и об их непосредственных предшественниках - Дада и зауми. Годом рождения русской заумной поэзии можно считать 1913, год, когда Алексей Крученых по совету Давида Бурлюка написал свое знаменитое стихотворение «Дыр бул щыл». Спустя три года в Цюрихе состоялись первые встречи будущих дадаистов. По мнению Ж.-Ф. Жаккара, на французских дадаистов могли оказать влияние эмигрировавшие позднее во Францию поэт Илья Зданевич и художник Сергей Шаршун13. Однако это влияние, если и имело место, то не было определяющим. Возможно, что и обэриуты были знакомы с некоторыми образцами дадаистского и сюрреалистического творчества14; в то же время не
13 О параллелях между заумью и поэзией дада см.: Gorely В. Dada en Russie II Cahiers de
Г Association intemationale pour l'etude de Dada et du surrealisme. Paris, 1966. Vol. 1. P. 31-
42; Nilsson N. The sound poem: Russian zaum' and German dada II Russian Literature. 1981.
Vol. 10. № 4. P. 307-317; Dada russo. L'avanguardia fuori della Rivoluzione I Ed. M.
Marzaduri. Bologna: И cavaliere azzurro, 1984. 258 p.; Ораич-Толич Д. Заумь и дада //
Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Л. Магаротто, М. Марцадури,
Д. Рицци. Bern: Peter Lang, 1991. С. 57-80; Янгфелъдт Б. Якобсон, заумь и дада // Там же.
С. 247-254.
14 Информацию они могли почерпнуть из статей: Эфрос А. Дада и дадаизм //
Современный Запад. 1923. Т. 3. С. 120-125; Р. Я. (Р. Якобсон). Письма с Запада. Дада //
Вестник театра. 1921. № 82, 8 февраля. С. 3-7.
13 возникает сомнений в том, что образование «Объединения реального искусства» было реакцией на исчерпанность заумного метода, не способного выразить все богатство предметного мира. Члены «ОБЭРИУ» осознавали себя в качестве продолжателей дела русских авангардистов 1910-х годов, таких, как Крученых и, в особенности, Хлебников, но при этом испытывали потребность в выработке собственной метафизики и собственной художественной концепции.
Состав «ОБЭРИУ» был неоднородным: Константин Ваганов, по его собственным словам, состоял во всех поэтических объединениях Ленинграда; Игорь Бахтерев, как уже упоминалось, оставался верен зауми; Николай Заболоцкий еще осенью 1926 года в письме, адресованном Введенскому, выступил с возражениями против его метода, упрекая Введенского в невнимании к сюжетной основе и композиционному единству произведения. Целостной концепции в таких условиях возникнуть, естественно, не могло, однако Заболоцкий, перу которого принадлежит «поэтическая» часть декларации, очень точно уловил интерес Хармса и Введенского к предметности слова, уподобляющегося физическому объекту. Да и для самого Заболоцкого, если верить декларации, возможность потрогать предмет, ощутить его плотность очень важна.
Среди членов «ОБЭРИУ» больше всего рефлексировал по поводу своего творчества Даниил Хармс. Интересно, что большое количество трактатов, в которых идет речь о важных для поэта категориях времени, пространства, числа, ипостаси, написано им уже после распада объединения. Хармс начал разрабатывать собственную поэтику еще до создания «ОБЭРИУ» и не прекращал эту работу вплоть до конца 1930-х годов. Даже если рассматривать утверждение Друскина о том, что чинари существовали не только в середине 1920-х годов, но и гораздо позднее, как позднейшую
14 «проекцию» в прошлое15, это не делает менее реальным факт существования тесного сообщества друзей, объединенных общими интересами.
Хотя Хармс действительно делал первые шаги в поэзии под руководством заумника Туфанова, уже во второй половине 1925 года, после знакомства с Друскиным, его приоритеты существенно меняются и он начинает интересоваться различными философскими доктринами, которые окажут большое влияние на его поэтику. Между прочим, сам Мейлах указывает на то, что под именами чинарей Хармс и Введенский начинают фигурировать с начала 1926 года, то есть уже после того, как сложился круг единомышленников16. Весной 1927 года, уже окончательно порвав с Туфановым, Хармс продолжает именовать себя в «Утверждающем Манифесте Академии Левых Классиков» чинарем. Скорее всего, Хармс, именно в это время обдумывающий основы собственной метафизико-поэтической системы, сохраняет наименование «чинарь», чтобы подчеркнуть органический характер своей философской и поэтической эволюции. Создавалась эта система в постоянном диалоге с другими чинарями, общение которых, кстати, стало еще более интенсивным в годы, когда многообразие литературной жизни уступило место единомыслию советских писателей. Но если Друскин и Липавский были прежде всего философами (и поэтому, кстати, не могли войти в «ОБЭРИУ»), а Введенский - поэтом, то Хармс, единственный из чинарей, пытался не только подвести под свое творчество теоретическую базу, но и воплотить разработанные им принципы в поэтическом слове.
Называли себя или нет в 1930-е годы чинарями Хармс, Введенский, Друскин, Липавский и Олейников >не столь важно; главное, что их общение, зародившись в середине предыдущего десятилетия, привело к
15 Против подобного подхода говорит, в частности, тот факт, что в хармсовском
стихотворении 1930 года «Я в трамвае видел деву...» Введенский называется чинарем.
16 См.: Мейлах. М. Б. «Я испытывал слово на огне и на стуже...» // Поэзия группы
«ОБЭРИУ» / Под ред. М. Б. Мейлаха. СПб.: Советский писатель, 1994. С. 8 («Библиотека
поэта»). В другом месте, впрочем, он говорит о 1925-1926 годах (см.: Мейлах М. Б. К
чинарско-обэриутской контроверзе. С. 95-97).
15 возникновению того феномена «соборной коммуникации», под которым Друскин понимал чрезвычайно интенсивную духовную и интеллектуальности близость членов группы. Собрания друзей происходили, как правило, раз в неделю на квартире Липавского или Друскина. «Разговоры велись преимущественно на литературные и философские темы. Все, что мы писали, мы читали и обсуждали совместно. Иногда спорили, чаще дополняли друг друга. Бывало и так, что термин или произведение одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную реакцию. И на следующем собрании уже другой читает свое произведение, в котором обнаруживается и удивительная близость наших интересов и в то же время различия в подходе к одной и той же теме»17, - вспоминал Друскин.
Поскольку дискуссия о чинарях и обэриутах не завершена, в дальнейшем, с целью избежать терминологической путаницы, мы будем пользоваться тремя терминами: «алогическая поэзия», когда речь идет о Хармсе и Введенском; «обэриуты» - говоря о некой художественной практике, в той или иной степени объединяющей Хармса и Введенского с другими членами движения; «чинари» - имея в виду общность метафизических и религиозных взглядов Хармса, Введенского, Друскина, Липавского.
Монографии Жаккара и Ямпольского, демонстрируя возможности историко-литературного и сравнительно-типологического методов, обозначают, как уже было сказано, два полюса изучения наследия Хармса. Обобщая результаты, достигнутые хармсоведением к настоящему времени, можно сказать, что специалисты по творчеству Хармса либо изучают его произведения в историческом контексте, либо абстрагируются от этого контекста и, уделяя основное внимание анализу конкретных текстов, стремятся выделить базовые положения его поэтики. Среди авторов,
17 Друскин Я. С. Чинари // Wiener slawistischer Almanach. 1985. Bd. 15. S. 400-401.
делающих акцент на контекстуальном анализе, можно назвать А. Стоун-Нахимовскую, А. А. Кобринского, Г. Робертса18, С. Скотто19, Т. Гроба20. Другие исследователи интересуются прежде всего лингвистической составляющей экспериментальной поэзии Хармса и Введенского и их стиховой техникой (И. Левин , В. Фещенко, Ю. Орлицкий) или же повествовательными структурами их текстов (Н. Кэррик , Ю. Валиева, И. Кукулин). Философская составляющая поэтики Хармса интересовала К. Ичин и М. Клебанова, религиозная - В. Котельникова. Два труда посвящены такой специфической проблеме, как изучение творчества Хармса в рамках так называемой литературы абсурда: это сборник статей «Даниил Хармс и поэтика абсурда» и монография Б. Мюллера «Литература абсурда в России»24.
Особое место среди хармсоведческих штудий занимает работа финского ученого Ю. Хейнонена «Это и то в повести Старуха Даниила Хармса» . В ней рассматривается одно из самых известных произведений писателя, без анализа которого не обходится ни одно претендующее на научность исследование его творчества. В то же время «Старуха» впервые стала объектом столь пристального вчитывания: Хейнонен сознательно отделил повесть от прочих текстов и полностью сосредоточился на изучении всех многообразных, как явных, так и скрытых, смыслов, которыми она
Roberts G. The Last Soviet Avant-garde. OBERIU - Fact, Fiction, Metafiction. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
19 Scotto S. Daniil Xarms' Early Poetry and its Relations to his Later Poetry and Short Prose.
Ann Arbor, 1984.
20 Grob Th. Daniil Charms' unkindliche Kindlichkeit. Ein literarisches Paradigma der
Spatavantgarde im Kontext des russischen Moderne. Bern, 1994 (Slavica Helvetica. Bd. 45).
21 Levin I. The Collision of Meanings. The Poetic Language of Daniil Kharms and Aleksandr
Vvedenskii. Ann Arbor, 1989.
22 Carrick N. Daniil Kharms: Theologian of the Absurd. Birmingham: University of
Birmingham, 1998 (Birmingham Slavonic Monographs. № 28).
23 Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd: Essays and Materials I Ed. by N. Cornwell.
London: The Macmillan press, 1991.
24 Miiller B. Absurde Literatur in Russland: Entstehung und Entwicklung. Miinchen: Otto
Sagner, 1978 (Arbeiten und Texte zur Slavvistik. № 5).
25 Хейнонен Ю. Это итов повести Старуха Даниила Хармса. Helsinki: Helsinki University
Press, 2003. (Slavica Helsingiensia. T. 22).
17 насыщена. Подобный подход, когда объектом исследования является одно, пусть и значимое, произведение, несет в себе как положительные, так и отрицательные моменты: с одной стороны, это дает возможность максимально глубоко проникнуть внутрь текста; с другой, «выведение за скобки» контекста не позволяет судить о его месте в творческой эволюции самого писателя, а также эволюции литературы в целом.
Наконец, стоит упомянуть о нескольких подборках статей, в которых исследуются различные аспекты жизни и творчества поэта - от его авангардного «девиантного» поведения до «иероглифической символизации» в его поэтике. Такие подборки были напечатаны в специальном номере журнала «Театр» (1991. № 11), в журналах «Литературное обозрение» (1994. № 9-Ю) и «Русская литература» (2005. № 4), а также в двух сборниках докладов, прочитанных на Хармс-фестивалях в Санкт-Петербурге , и в материалах конференции, посвященной 100-летию Хармса27.
Библиография работ о Хармсе до 1991 года содержится в диссертации Ж.-Ф. Жаккара (см. выше); в 1999 году была опубликована библиография работ об «ОБЭРИУ»28.
Еще один важный вопрос, по которому исследователи творчества Хармса и Введенского пока не могут прийти к согласию, касается орфографических и пунктуационных девиаций, в изобилии встречающихся в произведениях поэтов. Михаил Мейлах и Владимир Эрль, которым досталась честь впервые опубликовать их основной корпус29, придерживались мнения, что данные девиации связаны прежде всего с малограмотностью Введенского
26 Хармсиздат представляет. Исследования. Эссе. Воспоминания. Каталог выставки.
Библиография / Под ред. В. Н. Сажина. СПб., 1995; Хармсиздат представляет.
Авангардное поведение. Сборник материалов / Под ред. В. Н. Сажина. СПб., 1998.
27 Столетие Даниила Хармса / Под ред. А. Кобринского. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005.
28 Lehmann G. Bibliographic zur "Vereinigung Realer Kunst" (OBERIU) in ihrem kunstlerisch-
avantgardistischen Kontext II Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 44. S. 185-252.
29 Хармс Д. Собрание произведений I Под ред. М. Б. Мейлаха и В. И. Эрля. Bremen: К-
Presse, 1978-1988. Т. 1-4.
18 и особенно Хармса, и поэтому подвергали их тексты корректорской правке. Так же поступил и А. Александров в первом российском издании Хармса. В результате, как верно отметил А. Кобринский, «изначальная установка на языковую нормативность приводит к тому, что исследователь не прочитывает заумные фразы и выражения, встречающиеся в незаумных текстах Хармса, заменяя их отточием, либо прочитывает их неправильно,
заменяя сходными по звучанию и написанию узуальными лексемами» .
В издании 1999 года «Дней катыбр» М. Мейлах31, подвергнувший ранее критике издание Александрова за «полное пренебрежение текстологией», «беспечность и произвол в обращении с текстом», «отсутствие филологической культуры»32, остался тем не менее верен своему принципу исправлять явные орфографические ошибки, которые не несут смысловой нагрузки. Это не могло не вызвать возражений со стороны рецензентов: так, Кобринский, посвятивший грамматическим «ошибкам» у Хармса подробную статью, справедливо указал на то, что подобный подход грешит «текстологическим волюнтаризмом»: «Как определить, где "явные" орфографические ошибки, а где "неявные"? - вопрошает рецензент. - И как понять без специального исследования, несет или нет каждая конкретная орфографическая девиация смысловую нагрузку? Наконец, а что делать, например, с грамматическими нарушениями?»33
С ним солидарен В. Сажин, отметивший, что в настоящее время, после того как появились десятки специальных работ, посвященных Хармсу, невозможно публиковать «произведения Хармса 1926-1930 годов под рубрикой: "Из раннего"; тексты, под которым автор собственноручно
30 Кобринский А. А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда. Ч.
1. С. 152. Эта глава монографии, посвященная грамматическим «ошибкам» у Хармса,
впервые была напечатана в виде статьи под названием «Без грамматической ошибки...»?
(Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 186-204).
31 ХармсД. Дней катыбр / Сост. М. Мейлаха. М.: Гилея, Кайенна, 1999.
32 См.: Кобринский А А.., Мейлах М. В., Эрлъ В. И. Даниил Хармс: к проблеме
обэриутского текста // Вопросы литературы. 1990. № 6. С. 258, а также: Кобринский А. А.,
Мейлах М. Б. Неудачный спектакль // Литературное обозрение. 1990. № 9. С. 81-85.
33 Кобринский А. А. Рец. на: Хармс Д. Дней катыбр / Сост. М. Мейлах; Хармс Д. Цирк
Шардам / Сост. В. Сажин // Новая русская книга. 2000. № 2. С. 18.
19 поставил даты, публиковать под рубрикой "Из неоконченного"; выделять у Хармса специальный раздел "Экспромты" и тому подобное»34. К подобной точке зрения склоняется и М. Шапир, обративший внимание на то, что «в сознании Хармса уживались противоречивые тенденции: стремление к правильности и утверждение исконного права на ошибку - необходимость и случайность уравновешивали друг друга. Очевидно, что противоречия между ними не подлежат унификации: они носят принципиальный и неустранимый характер, будучи во многом сродни апологии опечатки у Хлебникова. Подобного рода ошибки, пусть и не всегда входящие в авторское задание, позволяют полнее почувствовать неповторимый облик писателя <...>».
Сажин, взявший на себя труд составить наиболее полное собрание сочинений поэта, пришел к выводу, что «в значительном большинстве случаев письмо Хармса - не автоматическое и неграмотное, а расчетливое создание авангардной поэтики, еще и утрированное такими специфическими хармсовскими понятиями, как "погрешность", "равновесие" и др.» . Исходя из этого, составитель старается воспроизводить максимально точно стихотворные произведения Хармса, поскольку они близки к авангардной поэтике; прозаические же тексты, в которых девиаций значительно меньше, приводит в соответствие с нормативной грамматикой. В своей рецензии на другое издание Хармса А. Кобринский отметил, однако, что в дипломатических изданиях, подобных тому, которое выпустил Сажин, особый статус приобретает опечатка: если в обычных изданиях она является досадной оплошностью, то в дипломатических - «достаточно двух-трех обнаруженных опечаток, чтобы это привело к полной потере доверия к сборнику со всеми вытекающими из этого последствиями»37. Чрезвычайно
См.: Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 5 т. / Сост. В.Н. Сажин. СПб.: Академический проект, 1997-2002. Т. 4. С. 277.
35 Шапир М. Между грамматикой и поэтикой (О новом подходе к изданию Даниила
Хармса) // Вопросы литературы. 1994. № 3. С. 331.
36 См.: Хармс Д. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 336.
37 Кобринский А. А. Рец. на: Хармс Д. Дней катыбр / Сост. М. Мейлах; Хармс Д. Цирк
Шардам / Сост. В. Сажин. С. 19.
резкую рецензию на собрание сочинений Хармса опубликовал и Мейлах, где указал, что «трудность "орфографической проблемы" как раз и состоит в необходимости отличать системные случаи орфографических
неправильностей от случайных <...>».
Наиболее оправданной нам кажется позиция В. Сажина, хотя она и не лишена внутренних противоречий. Действительно, анализ орфографических и пунктуационных «неправильностей» у Хармса заставляет сделать вывод о том, что их нужно рассматривать в контексте той метафизико-поэтической концепции, которую поэт разрабатывал на рубеже 1920-1930-х годов. Собрание сочинений, подготовленное Сажиным и включающее в себя весь корпус произведений Хармса, от ранних стихов до философских трактатов и поздней прозы, предоставляет для такого анализа наиболее ценный материал. Именно к этому изданию мы будем обращаться, цитируя Хармса. Оговоримся сразу, что если при цитировании мы воспроизводим в аутентичном виде поэтические тексты, то прозаические и философские произведения (за исключением стихотворных фрагментов) приводятся с необходимыми исправлениями в тех случаях, когда очевидно, что перед нами ошибка или описка, допущенная автором, а никак не сознательная трансформация слов или фразы.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые исследователями творчества Хармса за последние 20 лет, многие вопросы остаются открытыми. Это касается как текстологических принципов издания произведений поэта, так и проблемы соотношения в его художественном наследии обэриутских и чинарских элементов. Особый интерес также представляет анализ метафизических категорий и эстетических принципов, на которых строилась хармсовская поэтическая концепция. Если Ж.-Ф. Жаккар прочитал тексты Хармса сквозь призму философских и художественных доктрин, разрабатывавшихся в его непосредственном
38 Мейлах М. Б. Трансцендентный беф-буп для имманентных брундесс // Критическая масса. 2004. № 1.С. 137.
окружении (Туфанов, Малевич, Друскин, Липавский, Введенский), а М. Ямпольский проанализировал их в широком контексте мировой мысли, то малоизученным оказывается вопрос о том непосредственном влиянии, которое на формирование мировоззрения и поэтики Хармса оказали такие востребованные в свое время доктрины, как философия жизни, интуитивизм, так называемое органическое мировоззрение, феноменология, эсхатологические и хилиастические представления, концепция теургического творчества, а также оккультные воззрения. Важнейшим (и до сих пор неразработанным) аспектом изучения наследия Хармса является также вопрос об эстетических основах его поэтики, что связано, в первую очередь, с интересом поэта к живописи и графике. Будучи неплохим рисовальщиком, он создал серию рисунков, в которых в режиме монограммирования «зашифровал» важнейшие элементы своего видения мира и слова.
Таким образом, основная цель диссертации состоит в комплексном исследовании философских и эстетических основ поэтики Даниила Хармса. Исходя из этого, в работе последовательно решаются следующие задачи: 1. Анализ философского круга чтения Хармса и того влияния, которое оказали на становление его метафизико-поэтической системы такие философы, как А. Бергсон, Н. Лосский, Э. Гуссерль, И. Кант и др.; при этом важно иметь в виду, что многие философские идеи были восприняты Хармсом в общении с философом-чинарем Яковом Друскиным, приобщившим поэта к метафизическим штудиям; 2. Интерпретация рисунков Хармса, проявлявшего большой интерес к авангардной живописи и прежде всего к творчеству К. Малевича, как своеобразной смыслопорождающей «матрицы» значений, реализующих себя в ткани поэтического текста; 3. Исследование религиозных мотивов в творчестве поэта в контексте его увлечения хилиастическими и эсхатологическими концепциями Иоахима Флорского, У. Блейка, Н. Бердяева; 4. Поиск аллюзий и скрытых цитат из романов австрийского писателя-эзотерика Густава Майринка, что позволяет интерпретировать оккультный пласт в творчестве Хармса как неотъемлемую
часть его философско-поэтической концепции; 5. Анализ творчества Хармса в его эволюционном развитии, а метода очищения реальности, разрабатывавшегося поэтом, в контексте его собственных внутренних противоречий; в данной перспективе плодотворным кажется такой подход, при котором можно прочитать некоторые прозаические тексты Хармса 1930-х годов сквозь призму других, типологически близких текстов Ю. Владимирова, Г. Аполлинера и М. Эме.
Методологические приоритеты диссертационного исследования основаны на необходимости проанализировать поэтику Даниила Хармса с
. , ' 'V-' "
интердисциплинарной точки зрения, привлекая обширный философский, культурологический и искусствоведческий материал. Метод исследования состоит в тщательном вычленении философских и эстетических категорий, лежащих в основе поэтики Хармса; так, текст понимается не только как реализация некой идеи, но и как «инструмент» трансформации мира. Наряду со сравнительно-историческим методом, используемым для реконструкции различных влияний на художественную мысль Хармса, применяется также и сравнительно-типологический метод, необходимый для проведения анализа на уровне фундаментальных структур, как философских, так и нарративных.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые делается попытка комплексного анализа поэтики Даниила Хармса в интердисциплинарной перспективе с привлечением большого количества философских, религиозных, оккультных, художественных источников. В диссертации предлагается такой, редко применявшийся до настоящего времени, подход к изучению творчества Хармса, в соответствии с которым базовые концепты его метафизико-поэтической доктрины возводятся к доминировавшим в первой половине XX века философским, религиозным, оккультным учениям, а также рассматриваются в контексте того живого интереса, который поэт проявлял к изобразительному искусству. Важно
подчеркнуть, что вычленение данных концептов производится не только на основе изучения философских и квазифилософских трактатов Хармса, но и в результате литературоведческого и, при необходимости, лингвистического анализа его поэтических и прозаических произведений. К тому же, большой объем информации, почерпнутой в недавно полностью опубликованных записных книжках Хармса, впервые вводится в исследовательский оборот.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его основные положения, результаты и методы могут быть применены для изучения различных форм взаимодействия философского и художественного дискурсов в авангардной и поставангардной литературе XX века. Основные положения работы могут быть учтены для подготовки изданий сочинений Д. Хармса и других обэриутов, а также использованы в лекционных курсах и учебных пособиях по истории русской литературы и русской философии XX века.
Ключевые положения диссертации отражены в монографии «Курс на худшее: абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета» (М.: Новое литературное обозрение, 2002, 336 с), в статьях в журналах «Русская литература» и «Новое литературное обозрение», во вступительных статьях к изданиям произведений Хармса, в материалах международных конференций. Различные аспекты исследования были представлены в виде докладов на международных конференциях «Языки рукописей» (Санкт-Петербург, ИР ЛИ РАН, 1998), «Антологии и словари в изучении авангарда и сюрреализма во Франции и в России» (Париж, 1999), «Рисунки в рукописях писателей» (Париж, 2002), «Даниил Хармс: авангард в действии и в отмирании» (Белград, 2005), «Литература, история, политика» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2006), «Статус незавершенного в художественной практике и культуре XX века» (Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН, 2006), «Интертекстуальность в культуре авангарда. Цитация и пародирование»
(Москва, РГГУ, 2006) и др., а также на Алексеевских чтениях в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии. В первой главе («Философские основы поэтической концепции Даниила Хармса») рассматриваются базовые концепты поэтики Хармса в философской перспективе. Вторая глава («Эстетика Хармса в контексте изобразительного искусства») посвящена интерпретации рисунков Хармса, которые предстают в виде своеобразной матрицы смыслов, отсылающих как к метафизической, так и к эстетической проблематике. В третьей главе («Религиозные корни мировоззрения и поэтики Хармса») исследуются религиозные мотивы, которыми пронизано как теоретическое наследие, так и художественное творчество поэта. Важную роль в становлении его мировоззрения и поэтики играли и оккультные представления, которые анализируются в четвертой главе диссертации («Оккультные мотивы в творчестве Хармса и их источник в романах Густава Майринка»), причем акцент делается на том влиянии, которое оказало на , Хармса творчество австрийского писателя-эзотерика Густава Майринка. Наконец, в пятой главе («Проза Хармса в интертекстуальной перспективе: от авангарда к абсурду») творчество Хармса 1930-х годов интерпретируется с точки зрения тех внутренних противоречий, которые были заложены в его метафизико-поэтической концепции и которые привели к перерождению авангардной поэзии в прозу абсурда; особое внимание при этом уделяется интертекстуальному аспекту, что позволяет исследовать феномен хармсовской прозы в широком типологическом контексте.
Ссылки на следующие, наиболее часто цитируемые в диссертации издания даются в тексте с указанием страницы и, при необходимости, - тома
(для пятого тома Полного собрания сочинений Хармса также с указанием книги):
Жаккар - Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995;
Хармс - Хармс Д. Полное собрание сочинений: В 5 т. / Сост. В.Н. Сажин. СПб.: Академический проект, 1997-2002;
Чинари - «...Сборище друзей, оставленных судьбою. "Чинари" в текстах, документах и исследованиях»: В 2 т. / Под ред. В. Н. Сажина. М.: Ладомир, 1998;
Ямполъский - Ямпольский М. Б. Беспамятство как исток (Читая Хармса). М: Новое литературное обозрение, 1998.
A э(с sfc A Jfe
Все цитаты из поэтических произведений Хармса и Введенского воспроизводятся в авторской орфографии и пунктуации. В прозаических и > теоретических текстах орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормой литературного языка, за исключением авторских написаний некоторых слов.
Концепты текучести и вещности в заумной поэзии и у Хармса
Известно, что первые поэтические произведения Хармса обусловлены прежде всего влиянием заумной поэзии А. Туфанова, объявившего себя наследником идей Хлебникова и «Председателем Земного Шара Зауми». В марте 1925 года Туфанов создает «Орден заумников DSO»4, в который входили, кроме самого Туфанова, Хармс, Введенский, Е. Вигилянский и еще несколько человек. Уже в начале следующего года он был преобразован в «Левый фланг», в котором Хармс и Введенский занимали обособленную позицию, подписываясь соответственно «чинарь-взиральник» и «чинарь -авто-ритет бессмыслицы»5. Игорь Бахтерев вспоминал, что этот первый «Левый фланг» прекратил свое существование из-за ссоры Туфанова и Введенского, вошедшего туда вслед за Хармсом6. Постепенно, по-видимому под влиянием Введенского, Хармс переходит от «чистой» зауми, представленной в стихотворениях 1925 - начала 1926 года («Землю, говорят, изобрели конюхи», «СЕК», поэма «Михаилы»), к произведениям, ориентированным уже скорее на «семантический», чем на «фонетический» алогизм («Ваньки встаньки», «Случай на железной дороге», «Пророк с Аничкиного моста» и др.). 25 марта 1927 года рождается новая организация: «Академия Левых Классиков», куда Туфанов уже не входит. В записной книжке Хармс помечает: «1. Создать [твердое объединение] твердую Академию Левых Классиков. 2. Для этого собрать конференцию и составить манифест. 3. Войти в Дом Печати как секция Левых работников искусства. 4. Добиться вечера с танцами для получения суммы около 600 руб. на издание своего сборника. 5. Издать сборник» (Хармс-5-1, с. 147). На манифесте этого литературного объединения мы остановимся немного далее, пока же ограничимся утверждением, что именно в нем впервые получили отражение размышления поэта о связи искусства и фундаментальных вопросов бытия, поэзии и религиозно-духовного восприятия мира. Что касается названия группы, то оно осенью 1927 года получило наконец свое окончательное звучание: «ОБЭРИУ». Первый том «Полного собрания сочинений» Хармса открывается стихотворением «В июле как то в лето наше...» (1922). В нем идет речь о неком «папаше», которого два его сына, Коля и Яша, называют свиньей. Хотя, как установил А. Дмитренко, это стихотворение было переписано Хармсом из школьного журнала 1907-го года7, очевидно, что начинающий поэт скопировал его не случайно. Поводом, весьма вероятно, послужили довольно сложные отношения между ним и его отцом, Иваном Павловичем Ювачевым (1860-1940)8. Надо сказать, что отец никогда не признавал поэтической деятельности Хармса, настолько она отличалась от его представлений о художественном творчестве. По свидетельству второй жены Хармса Марины Малич (1912-2002), «отец был каким-то образом в курсе того, что писал Даня, хотя я не припомню случая, чтобы Даня ему что-то свое читал. Тем более написанное не для детей. Взрослое. Но Иван Павлович прекрасно знал, что пишет Даня. Как, откуда - не могу сказать, но знал. И то, что Даня писал, его раздражало. Он совсем не одобрял его»9. В 1925 году Хармс напишет: «Мои стихи тебе папаша Напоминают просто кашель Твой стих не спорю много выше Но для меня он шишел вышел» (Хармс-5-1, с. 43). Проблемы с взаимопониманием были связаны, по сути, не только со значительной разницей в возрасте (Хармс родился, когда его отцу было 45 лет), но и с особенностями духовной эволюции И.П. Ювачева, проделавшего длинный путь от радикализма «Народной воли» к принятию православной веры морализаторского толка (см. написанные им книги «Между миром и монастырем», «Тайны царства небесного» и др.). Хотя некоторые хармсовские тексты и свидетельствуют о возможном влиянии его отца (см. главу 3), поэт был несомненно далек как от политических убеждений Ивана Павловича, так и от его ортодоксальной религиозности. «У Даниила Ивановича была, как мне кажется, совершенно особенная и отдельная жизнь, и он держался несколько в стороне от своих родственников»10, - утверждал знакомый Хармса искусствовед В. Н. Петров. Актом освобождения от авторитета отца было и официальное признание псевдонима в качестве фамилии; по-видимому, отец долго не мог простить ему этого, поскольку спустя много лет, в 1936 году, продолжал считать, что пока Хармс носит эту фамилию, его будут преследовать «нужды» (о псевдониме Хармса см. главу 4). В 1936-1937 годах поэтом и другом Хармса Александром Введенским был написан текст, в котором возможность духовного и телесного преображения ставится в прямую зависимость от освобождения от власти Отца. Речь идет о стихотворной драме «Потец». Ее сюжет исчерпывается попытками трех сыновей узнать у своего умирающего отца, что такое «потец». Несоответствие между «глубинным содержанием произведения и снижающим суффиксом (ец)» было отмечено Михаилом Мейлахом, который сделал вывод о том, что «с помощью этого парадокса, а также организации бессмысленных поэтических рядов, как включающих это слово ("Потец... отец... свинец... венец..." и т.п.), так и существующих по аналогии ("Я челнок челнок челнак"), Введенский дискредитирует самую возможность определения слова потец с его выявляющимся "запредельным" значением ... »п.
Хармс и Малевич: категория чистоты и мотив полета
В ноябре 1932 года Хармс помечает в записной книжке: «В воскресенье я был утром с Введенским на выставке всех художников. Я там уже второй раз, и по-прежнему нравится мне только Малевич1. И так отвратительны круговцы! Даже Бродский приятен чем-то. На выставке встретил Гершова. Я пошел к нему и смотрел его картины. Он пишет хорошие картины» (Хармс-5-2, с. 204)2. Спустя несколько лет Хармс перечисляет несколько картин Малевича, которые, по-видимому, произвели на него наибольшее впечатление, и называет одну из них «особо чистой» (Хармс-5-2, с. 184). Возможно, речь идет о картине «Купальщицы»3, созданной в 1908 или, как считают современные искусствоведы, в конце 1920-х годов4. На картине изображены три женские фигуры, у которых нет лиц. Неслучайно, что именно эта картина заставляет поэта прибегнуть к своей излюбленной терминологии: «чистота», называемая им также «чистотой порядка», является основной категорией хармсовской поэтической концепции и подразумевает расширение сознания за счет элементов бессознательного и, в идеале, достижение состояния сверхсознания, в котором личность, преодолевшая путы разума, соразмерна Вселенной, однако не утрачивает своей конкретности, предметности. В тех же записных книжках можно найти следующую сентенцию: «Чистота близка к пустоте»; и тут же Хармс добавляет: «Не смешивай чистоту с пустотой» {Хармс-5-1, с. 444-445). Картина Малевича «особо чистая», потому что она близка к пустоте (белые женские фигуры как бы растворяются в пространстве, у них нет лиц, а значит, индивидуальности), но в то же время полного растворения в пустоте не происходит, так как художник сохраняет контуры, хоть и зыбкие, человеческого тела. По мнению Д. Сарабьянова, в картине «Купальщицы» «причудливо сочетаются черты сезаннизма и голуборозовские реминисценции: в сезаннистский пейзаж вписаны белые фигуры обнаженных женщин — столь же одинаковых и бесплотных, как и святые (или ангелы) на эскизах фресок 1907 года. Эти фигуры с искаженными пропорциями (укороченные ноги) неожиданно предрекают безликих персонажей картин второго крестьянского цикла». Категория чистоты связана и с таким важным мотивом поэзии Хармса, как мотив полета6. В 1930 году Хармс пишет стихотворение, в котором рекуррентный также и у Малевича мотив потери веса и полета ставится в контекст его собственного метода. Речь идет о «звонитьлететь», имеющем подзаголовок «Третья цисфинитная логика» . В первых строчках описывается, как взмывают в воздух дом, мать, шар, камень и другие «чистые» предметы. Среди них, в частности, находятся две пары, один из членов которых выражен существительным с конкретным значением: шар и часы, а другой - с абстрактным: круг и, соответственно, миг. Наконец, устремляются в полет и части тела - лоб, ухо, живот. Хотя их полет продолжается и в настоящий момент, укоренен он, однако, в прошлом, поэтому Хармс и употребляет сначала прошедшее время. Но неожиданно прошедшее время уступает место инфинитиву: «Вот и камень полететь. / Вот и пень полететь. / Вот и миг полететь. / Вот и круг полететь» (Хармс-1, с. 176)8. Непосредственность восприятия, выраженная с помощью слова «вот», сочетается с атемпоральностью инфинитива, этой «пустой формой» времени. «Речь сама по себе временна, - указывает Мартин Хайдеггер, - ибо всякое говорение о чем, чье и к кому основано в экстатичном единстве временности. Виды глагола укоренены в исходной временности озабочения, относится ли последнее к внутривременному или нет»9. Если глагольные времена свидетельствуют о «заброшенности» мира во время, то инфинитив, напротив, является той нейтральной, «пустой» формой, которая заключает в себе все остальные глагольные формы; ее потенциальность позволяет ей быть вне времени. Именно в момент остановленного «сейчас», когда действие выражается инфинитивом, можно наблюдать объект вне его временной развертки. Как отмечает Жиль Делёз, «равноголосие (equivocite) - это всегда равноголосие существительных. Глагол - это единоголосие языка в форме неопределенного инфинитива: без лица, без настоящего, без какого-либо разнообразия голосов. Это сама поэзия. Как глагол выражает в языке все события в одном событии, так и инфинитивная форма глагола выражает событие языка - языка как уникального события, которое сливается теперь с тем, что делает его возможным». В следующих строчках стихотворения инфинитив заменяется настоящим временем, которое, в свою очередь, опять превращается в инфинитив, за которым вновь следует настоящее время. В этот момент слова начинают звенеть: Дом звенит. Вода звенит. Камень около звенит. Книга около звенит. Мать и сын и сад звенит. А. звенит Б. звенит ТО летит и ТО звенит {Хармс-1, с. 176).
Таблица «троицы существования» в контексте «катастрофического миросозерцания»
Итак, перед нами тройная схема, отображающая три этапа вселенской истории: до сотворения материального мира, после его сотворения и после уничтожения, разрушения этого мира в результате грядущей эсхатологической катастрофы. При этом каждый этап символизируется одной из ипостасей христианского единого Бога - существенный момент, свидетельствующий о том, что данная таблица должна анализироваться в контексте мистического восприятия исторического процесса как процесса самораскрытия божества. Такое восприятие получило значительное распространение в русской религиозной философии первой половины XX века и восходит к учению великого итальянского мистика XII века Иоахима Флорского (ок. 1132-1202). Как известно, в трудах Иоахима, который был аббатом основанного им самим в Калабрии около 1191 года монастырского ордена de Floris, впервые была четко сформулирована концепция о непрерывности и постепенности исторического процесса, концепция, заложившая основы философии истории. В своих главных произведениях «Согласование Ветхого и Нового Завета», «Десятиструнная Псалтырь» и «Толкование на Апокалипсис» итальянский мистик, говоря о том, что трем историческим периодам соответствуют три этапа постижения божественной истины, делит мировую историю следующим образом: первый период - это история человечества от Авраама до Иоанна Крестителя (для Иоахима здесь важен именно момент передачи Богом человеку своего откровения, то есть в данном случае скрижалей Ветхого Завета; однако «зачатие» (initiatio) первого периода он относит ко времени Адама). Он характеризуется плотской жизнью, когда над людьми тяготеет буква закона, принуждения. Второй, переходный от плоти к духу период, иными словами, период Нового Завета, когда отношение раба к господину заменяется отношением сына к отцу, длится от Иоанна до эпохи самого Иоахима; и, наконец, третий и последний период мировой истории, началом которого, по подсчетам мистика, будет 1260 год, время низвержения в бездну дьявола и «первого воскресения умерших» (Откровение, 20), продлится до «скончания времен», то есть до окончательной эсхатологической катастрофы. «В третий период в результате высшей благодати люди будут жить в свободе, в атмосфере свободных отношений к богу. Место страха и веры займет любовь» .
Огромную роль в связи с этим играют апокалиптические образы: так, если параллелизм между двумя первыми периодами истории устанавливается Иоахимом с помощью Ветхого и Нового Заветов, то между ними и третьим - с помощью Апокалипсиса. П. М. Бицилли отмечает в своей книге, посвященной анализу архетипов средневековой ментальносте, что хотя отдельные элементы подобного представления о динамическом характере исторического процесса встречаются и у других средневековых мыслителей того времени, именно в произведениях Флорского идея о постепенности и непрерывности вселенской истории, рассматриваемой через призму божественного откровения, получила свою законченную формулировку4. В этом отношении таблица Хармса, основанием которой служит именно тринитарная схема деления мирового процесса, несомненно, имеет много общего с концепцией калабрийского аббата и, вполне возможно, прямо или опосредованно восходит к ней. Действительно, несмотря на то, что в записях поэта нет упоминаний об Иоахиме, можно предположить, что Хармс слышал о его теориях, которые пользовались достаточно большой популярностью у русских историков и философов первой трети XX века. Назовем лишь два возможных источника.
Во-первых, Хармс мог узнать о воззрениях Иоахима от своего отца И. П. Ювачева, автора ряда религиозно-нравоучительных книг, сотрудника журнала «Отдых христианина». Интересно, что особое внимание отца поэта привлекали идеи и образы Апокалипсиса: так, в 1910 году в Петербурге было выпущено сочинение св. Андрея, архиепископа Кесарийского, «Апокалипсис» с предисловием Ювачева «Апокалипсис и его толкователи», а некоторое время спустя, возможно уже в 1920-е годы или даже позже, им были сделаны выписки из Откровения Иоанна Богослова, хранящиеся сейчас в архиве Я. С. Друскина5. Хармс читал предисловие, написанное отцом, -этот факт зафиксирован в записной книжке Ювачева от 17 сентября 1930 года. «Пришел ко мне Даниил, и я ему даю читать мои очерки по Апокалипсису. Дал ему и вчера нарисованного пророка Даниила»6, -записывает он.
Во-вторых, Хармс мог воспринять идеи средневекового мистика при знакомстве с духовной и художественной атмосферой предшествующей эпохи. Эсхатологические ожидания были характерны для русской религиозно-философской мысли начала XX века. Бердяев пишет, что «апокалиптические и эсхатологические настроения можно найти и в русских народных религиозных движениях, и в исканиях правды русской интеллигенции, и на вершинах русской религиозной мысли.
Оккультные мотивы в творчестве Хармса и их источник в романах Густава Майринка
Значительное влияние, которое австрийский писатель Густав Майринк (1868-1932) оказал на Даниила Хармса, давно стало аксиомой хармсоведения. В 1991 году в посвященном «ОБЭРИУ» номере журнала «Театр» была опубликована статья А. Герасимовой и А. Никитаева «Хармс и Толем"», где впервые были проанализированы аллюзии на самый известный роман Майринка, в обилии встречающиеся не только в записных книжках поэта, но и в его художественных произведениях, таких, как рассказ «Утро» и повесть «Старуха»1. Авторы статьи обнаружили сходство между «Големом» и текстами Хармса как на синтаксическом уровне (практически автономные короткие фразы, каждая из которых выделяется в абзац), так и с точки зрения мотивной структуры, которая образуется с помощью нескольких повторяющихся лейтмотивов (чудо, падение, часы, ключ, цветок, дерево, окно). Знаменательно, что к «Голему» Хармс возвращался на протяжении всего своего творчества: если первое упоминание Майринка в записных книжках датируется 1926 годом, то реминисценции из «Голема», которые обнаруживаются в повести «Старуха», позволяют с уверенностью утверждать, что и в момент ее написания, то есть в 1939 году, роман не потерял для Хармса своей актуальности. Недавняя работа Ф. Кувшинова демонстрирует, что майринковские подтексты выделяются и в других прозаических текстах Хармса и, прежде всего, в написанных в 1936 году рассказах «Судьба жены профессора», «Кассирша» и «Отец и дочь»2. На взгляд исследователя, в первом рассказе говорится о неудачной попытке палингенезиса (воскрешения), а в двух других - о превращении умершего человека в человека искусственного, послушного чужой воле.
Стоит отметить и еще одну важную дату, а именно 1931 год, который оказался для Хармса необычайно плодотворным: к этому периоду относятся не только важнейшие поэтические тексты - «Окно», «Окнов и Козлов», «Вода и Хню», «То то скажу тебе брат», - но и два ключевых трактата, в которых анализируется символизм ноля и круга («Нуль и ноль», «О круге»). Эти и некоторые другие тексты свидетельствуют о том, что в это время Хармс переживает новый пик увлечения Майринком, хотя на сей раз на первый план выходит не «Голем», а три других романа австрийского писателя - «Зеленый лик» (1916), «Вальпургиева ночь» (1917) и «Ангел Западного окна» (1927).
Друг Хармса Николай Харджиев вспоминал, что «Хармс не скрывал своего интереса к Мейринку. Весьма одобрительно говорил об одном из его рассказов (заглавие я, к сожалению, забыл). Но лучшим произведением Мейринка он считал роман "Зеленое лицо", который прочел в оригинале»3. В связи с этим представляет интерес следующий факт: если упоминания «Голема» весьма многочисленны и разбросаны по дневникам Хармса, то «Зеленый лик» (а также «Вальпургиева ночь» и «Ангел Западного окна») присутствует в них как бы в непроявленной, скрытой форме, вырываясь на поверхность лишь в виде неочевидных и трудноуловимых знаков. Ю. Каминская отмечает, что «Голем» и «Зеленый лик» чрезвычайно близки друг другу, ведь «оба произведения изображают прежде всего процессы инициации, посвящения, представленного как выход за пределы земного пространства и времени»4. Однако Хармса, читающего в 1926 году перевод «Голема»5, и Хармса, вчитывающегося на рубеже 1920-1930-х годов в оригинальный текст «Зеленого лика», разделяют около пяти лет, в течение которых поэт прошел путь от несведущего профана, лишь вступающего в область высшего знания, к знатоку эзотерических практик. Хармс, как об этом свидетельствуют его записные книжки, прочитал к этому времени немало трудов, в которых мог почерпнуть информацию об индийских йогах, о Каббале и картах Таро, об оккультных доктринах и даже о том, как правильно составить заклинание6. Хармсу теперь уже нет необходимости конспектировать, как он это делал раньше, содержание романа Майринка в попытке облегчить себе его понимание; напротив, он как бы растворяет тексты австрийского писателя в собственных текстах. Если фиксирование Хармсом некоторых положений «Голема» похоже на разворачивание чужого текста, то сокрытие этого же текста напоминает его сворачивание вовнутрь, когда книга уподобляется свитку.
Михаил Ямпольский, комментируя каббалистические мотивы в «случае» «Макаров и Петерсен №3», указывает, что «сворачивание текста внутрь противоположно чтению, ведь оно предполагает сокрытие текста. Обнаружение смысла традиционно понимается как раскрытие, то есть разворачивание». В тексте Хармса «сворачивание тела Петерсена в шар имитирует трансформацию книги в свиток» {Ямпольский, с. 213). В шар Петерсен превращается после того, как эзотерик Макаров произносит вслух название таинственной книги, которую он держит в руках. Это книга «МАЛГИЛ», где «написано о наших желаниях и об исполнении их» (Хармс-2, с. 343). Название «МАЛГИЛ» может отсылать, по предположению Ямпольского, к слову "Megillah", которое на иврите обозначает свиток, в том числе и свиток Торы; однако не стоит забывать и о версии, выдвинутой А. Александровым, который расценил его как трансформацию слова «могила» . Несмотря на то что шар был всегда для Хармса наиболее совершенной фигурой, очевидно, что та сфера, куда попадает Петерсен, должна восприниматься как враждебная: Петерсен становится шаром и утрачивает все свои желания не в результате длительной духовной аскезы, а после произнесенного Макаровым магического заклинания, которое буквально в один момент лишает Петерсена тела . Его как бы засасывает в иной мир, и напрасно Петерсен кричит «пустите!., пустите меня!» - из этого мира не возвращаются. Книга о просветлении и сверхсознании, к достижению которых сам Хармс стремился всю жизнь, становится книгой о смерти и страдании.