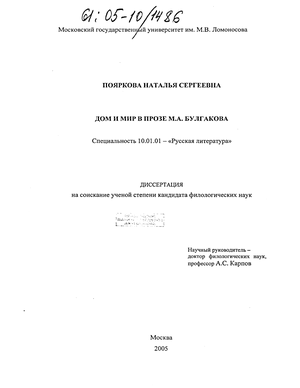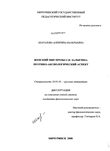Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Дом как идеальная модель мироустройства в прозе М.А. Булгакова 19
1. Типология дома в творчестве М.А. Булгакова 19
2. Символика Дома в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» 27
3. Болезненное состояние мира и человека в ранней прозе М.А. Булгакова 43
Глава 2. Онтологический кризис в прозе М.А. Булгакова первой половины 20-х годов 70
1. Мифологема Москвы в фельетонах и повестях М.А. Булгакова 70
2. Ирреальность как доминанта художественного пространства прозы М.А. Булгакова первой половины 20-х годов 87
3. Самоопределение личности в ранней прозе М.А. Булгакова 97
Глава 3. Эволюция образа дома в прозе М.А. Булгакова 30-х годов 122
1. Модель «мертвого» дома в художественном мире М.А. Булгакова 122
2. Символика огня в прозе М.А. Булгакова 147
3. Самореализация личности героев-творцов в романах М.А. Булгакова 152
4. Восстановление дома в художественном мире М.А. Булгакова 174
Заключение 186
Библиография 190
- Типология дома в творчестве М.А. Булгакова
- Символика Дома в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»
- Мифологема Москвы в фельетонах и повестях М.А. Булгакова
- Модель «мертвого» дома в художественном мире М.А. Булгакова
Введение к работе
Интерес к творчеству М. Булгакова не утихает вот уже несколько десятилетий, и об этом свидетельствуют сотни литературоведческих, биографических, методических работ, посвященных писателю. Однако современное булгаковедение характеризуется не только увеличением количества монографий и статей, но и актуализацией новых аспектов интерпретации произведений этого автора.
Исследователи творчества М. Булгакова 60-80-х годов часто оценивали произведения писателя с идеологической точки зрения, акцентируя социально-историческую проблематику и оставляя без должного внимания проблемы религиозно-философские и онтологические (см., напр.: Воздвиженский 1984; Палиевский 1979; Петелин 1986). Такое, несколько поверхностное толкование приводило к искажению художественного мира М. Булгакова.
За последние двадцать лет точка зрения исследователей творчества М. Булгакова на его произведения изменилась. Многие (см.: Бузник 1998; Бродский 1997; Котельников 1994; Немцев 1990; Проффер 1991 и др.) подчеркивают в своих работах одну из особенностей творческого метода писателя, ставшую методологическим принципом всего булгаковедения последних лет: взгляд на человеческую жизнь и исторические события с позиции вневременных ценностей. В.И. Немцев в книге «Становление романиста» отмечает: «Если рассматривать творчество М. Булгакова как единый текст, можно легко увидеть, что многие проблемы, к которым он обращается, часто поворачивались к вечности, словно к некоему арбитру, и то растворялись в ней, то находили там новую оценку» (Немцев 1991, с. 7).
О необходимости рассмотрения всех произведений М. Булгакова как единого текста пишут такие исследователи, как Е.А. Яблоков, С. Кульюс, В.В. Химич (см.: Кульюс, Хютт 1994; Химич 2003; Яблоков 2001). В 2002
4 году вышла монография О.С. Бердяевой с характерным названием «Проза Михаила Булгакова: Текст и метатекст», в которой автор рассматривает творчество писателя как «единый метатекст, организованный прежде всего мотивно. <...> Романы, повести, рассказы, пьесы на мотивном уровне складываются в целостное единство» (Бердяева 2002, с. 5). Подобный подход делает возможным философское осмысление творчества М. Булгакова, позволяет определить своеобразие мировоззрения писателя1, выйти на уровень осмысления онтологической проблематики творчества. Не случайно в последние годы сложилось представление о произведениях М. Булгакова как онтологической прозе. Так, в книге «Русская проза XX века: от А. Белого ("Петербург") до Б. Пастернака ("Доктор Живаго")» (2003) Е.Б. Скороспелова, используя термин В.Е. Хализева, относит произведения М. Булгакова к онтологической прозе, в основе которой лежит «универсализация как принцип художественного обобщения в разных его воплощениях (орнаментализм, неомифологизм, фантастика, деформация действительности)» (Скороспелова 2003, с. 231).
Изменение методологии позволяет воспринимать творчество М. Булгакова во всей его философской глубине и художественном своеобразии и выводит литературоведение «на уровень обсуждения концептуальных подходов к наследию великого мастера» (Немцев 1991, с. 3), предполагает вычленение и анализ важнейших для художественного мира писателя мотивов, образов, архетипов, символов.
Одним из структурообразующих элементов художественного мира М. Булгакова является образ дома. Исследование этого образа позволяет не только актуализировать онтологическую проблематику творчества М.
1 Термин «мировоззрение писателя» понимается нами в том значении, о котором говорил Ю.Г. Кудрявцев в книге «Три круга Достоевского: Событийное. Временное. Вечное»: «Мировоззрение — система [здесь и далее подчеркнуто автором.- Н.П.] теоретически обоснованных взглядов человека или какой-либо социальной общности на мир. Улавливаются постоянно существующие, глубинные взаимосвязи между явлениями. Отражается вечный уровень бытия, его философичность, его высшая математика» (Кудрявцев 1991, с. 20). Автор книги отмечал тесную взаимосвязь мировоззрения и творчества, определяющую глубину и художественное своеобразие произведения писателя: «Мировоззрение требует творчества. Творчество есть показатель мировоззрения. Понимаемое таким образом мировоззрение накладывает свой отпечаток на творчество. Обладающий мировоззрением художник способен создать высшее в искусстве. В частности, в литературе - философский роман» (там же, с. 22).
5 Булгакова, но и рассмотреть художественную систему этого автора как феномен «духовно-эмоциональный, утверждающий общечеловеческие ценности — добро и любовь как субстанционально значимые величины человеческого бытия» (Лазарева 2000а, с. 134). Кроме того, обращение к образу дома помогает переосмыслить многие «классические» вопросы булгаковедения, начиная с пространственно-временной организации произведений и заканчивая аксиологией писателя.
Дом относится к основополагающим архетипам человеческой культуры. Изначально предназначенное для защиты человека от природной стихии, жилище постепенно приобретает новые функции и начинает рассматриваться в контексте широкого круга понятий: кров, семья, народ, страна, нравственность, память, вера. Получив дополнительную семантическую нагрузку, дом превращается в уменьшенную модель мироздания и человеческого бытия, в полной мере выражая особенности менталитета того или иного народа.
В последние годы появилось большое количество работ, в которых содержится историко-культурологический и типологический анализ архетипа дома. Культурологическое толкование этого феномена приводится в книге В.Д. Лелеко «Пространство повседневности в европейской культуре» (2002). Предметом исследования служит концепт дома в европейской культуре. Автор книги подробно рассматривает характеристики жизненного пространства человека: объективные (само пространство дома, его очерченность, а также предметный мир - мебель, утварь и т. п.), функциональные (связь этого места с человеком, освоенность пространства, его обжитость) и субъективные (люди, живущие вместе и ведущие хозяйство, уклад их жизни, домашние растения и животные). Исследователя интересует морфология дома, а также семантика его структурных элементов — стен, двери, окон и т. д. При этом анализ формы, структуры, семантики дома дается в контексте социально-исторических факторов, определяющих трансформацию этого архетипа. Значительную
часть книги занимает обзор различных концепций дома в европейской и русской культуре, в частности - толкование образа дома в свете славянской мифологии и ритуалов. В целом направления исследования В.Д. Лелеко можно определить векторами функциональной и символико-культурологической трактовки жизненного пространства человека.
О семиотике дома, культурологическом содержании этого архетипа в связи с традициями и бытом России XVIII — XIX веков писал Ю.М. Лотман в своей книге «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)» (1998). Он рассматривал проблему символизации предметного мира в результате общественной, культурной и духовной деятельности человека, семьи.
Взгляд на предметный мир с антропоцентрической точки зрения дается в книге О.Ф. Филимоновой «Жизненное пространство человека: Аксиологический аспект» (1998). В этой работе жизненное пространство человека рассматривается с социально-психологической точки зрения как определенная «ниша, которой человек отделяет себя от других» (Филимонова 1998, с. 21). Исследователя интересует взаимосвязь жизненного пространства и форм самоопределения личности, жилище как проекция идей, притязаний, целей человека. Пространство, утверждает автор книги, является непременным условием самоопределения человека, «выступает как один из главных факторов человеческого существования, организующий все основополагающие аспекты бытия» (там же, с. 3). В этом смысле оно обеспечивает целостность человеческой личности и бытия, позволяет «совместить бытие мира и личное бытие» (там же, с. 7). В то же время жизненное пространство — это континуум социально и предметно застывших результатов человеческой деятельности, оно выступает формой презентации человеком самого себя, своего «я», служит воплощением его творчества.
Пространственная идентификация как глубинное основание формирования личности рассматривается и в книге В.Д. Панкова
7 «Пространственность человеческого бытия» (1996). Автор обращается к историко-философскому контексту проблемы пространственности человеческого бытия и прослеживает изменения в толкованиях категории жизненного пространства в различные эпохи, начиная с философских систем древности и заканчивая современной наукой.
Этнографическому исследованию уникального жизненного пространства, возникшего и сформировавшегося в советскую эпоху, посвящена монография И.В. Утехина «Очерки коммунального быта» (2004). Книга содержит семиотическое описание коммунальной квартиры, подробный анализ этого пространства как конкретной части картины мира советского человека, значимой и организованной среды, «структура которой отвечает структуре сообщества» (Утехин 2004, с. 42). Автор в свете традиций советской и, в целом, русской культуры рассматривает символику структурных и функциональных элементов коммуны, систему представлений и поведенческие стереотипы ее жильцов.
Исследование феномена дома в свете православных традиций быта и бытия человека и семьи содержится в книге Б.В. Ничипорова «Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога» (1994). Автор работы рассматривает жизненное пространство человека в религиозно-сакральном аспекте. При этом дом трактуется как «некая материально-духовная совокупность» (Ничипоров 1994, с. 122), пространство, в пределах которого человек обретает способность и возможность вести диалог с Богом. В книге приводится подробный анализ семантики структурных деталей дома в соотнесении с важнейшими понятиями христианского мировоззрения.
Дом как пространство, в котором возможно спасение человеческой души, установление связи между бытом и бытием, земным и небесным, является предметом осмысления в статье В.Г. Щукина «Спасительный кров. О некоторых мифопоэтических источниках славянофильской концепции Дома» (2000). Автор прослеживает историю формирования концепции дома
8 как не только жилища, но и «сакрального пространства, напоминавшего о связи домашней организации и защищенности с божественным миропорядком и защитой от потусторонних сил» (Щукин 2000, с. 600) в русской культуре в целом и в славянофильской литературе XIX века в частности.
Исследователь отмечает, что подобный образ дома является одним из центральных и структурообразующих в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Гончарова и других писателей XIX столетия. По словам В.Г. Щукина, в русской классической литературе постепенно сформировались два противоположных идеала личной и общественной жизни, которые нашли свое воплощение в двух типах жилища: «коттедж» и дом-ковчег. Первый реализуется в виде петербургской квартиры, усадьбы или дачи. В нем «человек предоставлен самому себе, ни от кого не зависит и ни за кого не отвечает; удобство и изысканность жилища являются залогом внутреннего гармонического развития личности» (там же, с. 592). Второй тип жилища — это «дом, где, как в Ноевом ковчеге, живут общей, роевой жизнью родители, дети, слуги, нянюшки, родня <...>» (там же, с. 592-593). Дом-ковчег призван спасать своих жителей от всяческих невзгод. Его образ актуализируется в культуре в эпохи дестабилизации, глобальных перемен в человеческом бытии. В славянофильской литературе 40-х годов XIX века появляется еще один тип дома — образ дома-гнезда. Это пространство, в котором «человек не просто живет, а спасает душу, подкрепляя ее молитвой», это «семья, круг людей, считающих себя родными не только по крови, но и по духу, обычаю» (там же, с. 600; 605). Все три типа жилища обладают одним общим качеством: они обеспечивают нормальное развитие личности, создают условия для полноценной духовной жизни семьи, дают возможность реализовать творческие устремления человека. В пространстве дома крепкой остается взаимосвязь между всеми членами семьи: кровная — между родителями и детьми, духовная — между всеми, даже не родными, жителями дома. Кроме того, дом является сакральным пространством,
соединяющим небо и землю: «Он крепко стоит на земле и является для его жителя центром посюстороннего, горизонтального мира. С другой стороны, он возвышается над землей, стремится к небу» (Щукин 2000, с. 590).
Эта гармоничная модель мироздания, реализовавшаяся в трех типах дома и сохранявшаяся в русской культуре на протяжении нескольких столетий, в прошлом веке была разрушена. Ее деформация, начавшись еще в последние годы XIX столетия, вызвала тревогу русской интеллигенции, усилившуюся после первой революции - 1905 года. Не случайно лейтмотивом сборника статей русских философов и социологов «Вехи», вышедшего в 1909 году, стала мысль об извращении личности, ложности «самого идеала для ее развития» (Вехи 1991, с. 53). Авторы сборника, пытаясь найти причины деформации идеала бытия и основу для возрождения нормального развития личности, актуализировали идею семьи и дома. Тема семейной преемственности появляется в статье А. Изгоева «Об интеллигентской молодежи. (Заметки об ее быте и настроениях)», автор которой говорит о необходимости восстановления утраченных связей между родителями и детьми: «Настоящей, истинной связи между родителями и детьми не устанавливается, и даже очень часто наблюдается более или менее скрытая враждебность: душа ребенка развивается "от противного", отталкиваясь от души своих родителей. Русская интеллигенция бессильна создать свою семейную традицию, она не в состоянии построить свою семью» (Вехи 1991, с. 98).
Восстановление утраченной преемственности поколений и возвращение к традиционному для русской культуры семейному, домашнему идеалу человеческого бытия является лейтмотивом работ М. Гершензона. В статье «П.В. Киреевский» (1910) он говорит о той цельности, уравновешенности и последовательности развития, которые представляются необходимыми для человека и становятся возможными только в атмосфере дома-гнезда. Для автора статьи очевидно разрушение этого идеала в XX веке, М. Гершензон в своей работе определяет современное ему состояние человека и общества
10 как болезненное и ставит диагноз: «мы вырастаем <...> катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно: каждый из нас не вырастает естественно из культуры родительского дома, но совершает из нее головокружительный скачок, или движется многими такими скачками. <...> мы, как растения, пересаженные и, может быть, даже не раз — на новую почву, даем и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу!» (Гершензон 2000, с. 78-79).
Катастрофа, против которой в 1909 году предостерегали С. Булгаков, Н. Бердяев, М. Гершензон, П. Струве, С. Франк, произошла в 1917 году. Тот же П. Струве в статье «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», вошедшей в сборник «Из глубины» (1918), констатировал: «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором — таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий [выделено автором- Н.П.]» (Вехи 1991, с. 459). Новая, пореволюционная Россия декларировала отказ от ценностей прошлого, в том числе и от дома в его традиционном понимании как не только вещного мира, но и метафизического пространства. Заменив дом коммуной, советские люди разрушили уникальное, животворящее пространство человеческого бытия. Не случайно в пореволюционной литературе очень немного образов дома и семьи, доминирует мотив бездомья. Традиционное толкование дома и семейной темы сохраняется только в литературе русского зарубежья, в творчестве таких писателей, как И.С. Шмелев и Б.К. Зайцев, но и у них образ дома существует в ретроспективном плане, не находя своего воплощения в современной действительности. В России одним из немногих писателей, в произведениях которого образ дома оставался центральным и во многом структурообразующим, был М. Булгаков.
М. Булгаков принадлежит к тому поколению писателей, которое, по замечанию М.О. Чудаковой, пережив разрушение старых установлений,
участвовало в работе «по вычленению — хотя бы первоначально — каких-то безусловных ценностей и противопоставлению всему описываемому необходимых точек отсчета» (Чудакова 2001, с. 299). М. Булгаков в поисках этих безусловных ценностей обращается к классической русской культуре, осознавая самого себя ее законным преемником и соответствующим образом выстраивая собственную творческую историю. По словам Т.М. Вахитовой, «революция не затронула внутреннего строя его души, глубинных пластов сознания» (Вахитова 1995, с. 7). Не приемля и отталкиваясь от установлений нового, советского государства, М. Булгаков пытается возродить утраченный идеал человеческого бытия через восстановление традиционного для русской культуры архетипа дома. Вместе с тем духовное содержание этого архетипа накладывается на то представление о человеческом существовании, которое сложилось у писателя под влиянием его семьи. В результате возникает некий идеальный образ дома, где быт и бытие взаимосвязаны и взаимозависимы, где материальный, вещный мир2 одухотворяется человеком.
Оставаясь апологетом дома, который выступает залогом сохранения цельности человеческой личности и мира, М. Булгаков был вынужден наблюдать его неотвратимое разрушение в советской России. В связи с этим в творчестве писателя возникает лейтмотив трагической раздвоенности личности, невозможности ее творческой реализации и достижения гармонии с окружающим миром. Оппозиция идеального дома и современного бездомья во многом определяет структуру, систему образов и мотивов произведений М. Булгакова, как эпических, так и драматургических.
О высокой функциональной нагрузке образа дома в художественном мире М. Булгакова говорили еще современные писателю критики. В 1927 году в журнале «Печать и революция» была опубликована статья Е. Мустанговой «Михаил Булгаков», в которой автор на материале романа
2 Термин «вещный мир» используется в значении, о котором говорит А.П. Чудаков в своей книге «Слово-вещь-мир: От Пушкина до Толстого»: это - «прежде всего носитель качествования художественной системы, воплощающий в себе его главные свойства» (Чудаков 1992, с. 25).
12 «Белая гвардия» и сатирических повестей попыталась определить своеобразие художественного мира и творческого метода писателя. Если отвлечься от ироничного тона советского критика, можно заметить, что Е. Мустанговой удалось выделить некоторые важнейшие составляющие мировоззрения М. Булгакова. В первую очередь автор статьи отметила, что «Булгаков - не бытовик. Быта в его рассказах нет» (Мустангова 1927, с. 84). В то же время подчеркивалась важная роль в романе «Белая гвардия» предметного, вещного мира квартиры Турбиных — обывателей, по словам критика, но обывателей, опоэтизированных писателем. Это несоответствие между замеченным критиком вниманием М. Булгакова к бытовому аспекту человеческой жизни и констатацией «Булгаков — не бытовик» снимается одним наблюдением, зафиксированным автором статьи, но не осмысленным до конца: «Важно, что ощущение бессмертности своей культуры делает временным, преходящим, незначительным в глазах Булгакова "такие мелкие события", как классовая борьба, в которую оказываются втянуты его герои» (там же, с. 84).
Статья Е. Мустанговой была первой в булгаковедении работой, где подчеркивалась значимость в творчестве писателя бытийной, онтологической проблематики и стремления к традициям и культуре дома как норме человеческого существования.
В 60-90-е годы появились исследования, в которых делались попытки осмысления образа дома в отдельных произведениях М. Булгакова. Среди таких работ можно отметить статьи В.Я. Лакшина «О прозе Михаила Булгакова и о нем самом» (1966-1972), «Мир Михаила Булгакова» (1989), «О Доме и Бездомье (Александр Блок и Михаил Булгаков)» (1993); Т.А. Никоновой «"Дом" и "город" в художественной концепции романа М.А. Булгакова "Белая гвардия"» (1987), В.В. Турбина «Катакомбы и перекрестки» (1991), В.В. Бузник «Возвращение к себе. О романе М.А. Булгакова "Белая гвардия"» (1998). Обращали внимание на тему дома в творчестве М. Булгакова и зарубежные исследователи. В книге
американского ученого 3. Гамплиевич-Шварцман «Интеллигент в романах "Доктор Живаго" и "Мастер и Маргарита"» (1988) подчеркивалась значимость «квартирного вопроса» для самих писателей и их героев. Правда, его трактовка была довольно поверхностной: исследователь ограничилась констатацией некой зависимости между бытовым благополучием художника и его творчеством. При этом дом рассматривался лишь как материальное благополучие, бытийная и духовная составляющие этого феномена остались вне поля зрения ученого: «Речь идет о почти прямой зависимости обоих героев-писателей, вернее, их творчества, от физических условий для работы. Одним из таких условий и в романе Булгакова, и в романе Пастернака показано обыкновенное жилое помещение» (Гамплиевич-Шварцман 1988, с. 96).
В 90-е годы стали предприниматься и попытки более глубокого, целостного изучения образа дома в творчестве М. Булгакова, появились работы, в которых подчеркивался концептуальный характер темы дома в произведениях этого автора (см.: Золотусский 1993; Кораблев 1991; Котельников 1994; Кривонос 1994; Скороспелова 1998). Образ дома в таких исследованиях рассматривался на символико-философском уровне в соотнесении с основными понятиями и категориями русской литературы и христианской культуры. Среди всех работ следует отметить статью А.А. Кораблева «Мотив "дома" в творчестве М. Булгакова и традиции русской классической литературы» (1991), в которой впервые был дан анализ образа дома в контексте традиций русской классической литературы. При этом материалом исследования служили как проза (романы «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита»), так и драматургия М. Булгакова (пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира» и «Дон-Кихот»), Автор статьи подчеркивал, что образ дома в творчестве писателя является одним из ключевых, а «"квартирный вопрос" в его произведениях неизменно сопрягается с общей проблемой человеческого существования, причем не только в конкретно-бытовом, но и в философском, бытийном смысле»
14 (Кораблев 1991, с. 240). Была также отмечена биографическая основа образа дома, который возник из детских впечатлений Булгакова и постепенно, на протяжении жизни писателя превратился в некий «символ веры». Кроме того, А.А. Кораблев в своей статье подробно рассмотрел бытовое, бытийное и духовное значения дома, сложившиеся в русской классической литературе, и проследил их функционирование в произведениях М. Булгакова.
За последние пять лет интерес к теме дома в творчестве М. Булгакова не пропал (см.: Малахов 2000; Ребель 2001; Шустова 2000), однако зачастую исследователи ограничиваются общими замечаниями о значимости жизненного пространства для героев писателя. Исключением является статья М. Шнеерсон «Человек и его Дом. (По страницам Михаила Булгакова)» (2002), автор которой делает попытку проследить историю возникновения, формирования и эволюции образа дома в творчестве писателя. Материалом исследования служит вся проза М. Булгакова, начиная очерками и заканчивая «Мастером и Маргаритой». При этом работа М. Шнеерсон носит скорее обзорный характер: автор перечисляет основные особенности образа дома и важнейшие этапы его развития, но не рассматривает их более подробно, по-видимому, ограниченная рамками небольшой статьи.
Во всех исследованиях последних лет признается центральное, структурообразующее положение образа дома в художественном мире М. Булгакова. В статье Е.Н. Шустовой «Образы дома и дороги в пьесе М. Булгакова "Дон-Кихот"» дом трактуется как «определенная точка отсчета постижения мироздания. <...> Дом становится своеобразной константой в постоянно меняющемся внешнем мире» (Шустова 2000, с. 43). Интересна в этом смысле статья самарского исследователя Е.Е. Бирюковой «Человек и мир в ранней прозе М. Булгакова» (2002). Материалом исследования служат «Записки юного врача», а образ дома трактуется в контексте экзистенциальной проблематики произведения. Е.Е. Бирюкова
15 рассматривает «Записки» в свете конфликта главного героя — «интеллигента, следующего за своим предназначением, несущего миру свет и жизнь» (Бирюкова 2002, с. 154) - и внешнего мира, где царят смерть, болезнь, невежество и хаос. При этом дом врача представлен как центр жизненного пространства: «В этой точке оказывается сконцентрирована жизненная сила всего пространства, изображенного в цикле» (там же, с. 155). Более того, «дом — центр не только физического, но и этического лространства. Это место спасения людей» (там же, с. 156). Подчеркивая не только этические, но и сакральные функции дома как места, где происходит борьба жизни и смерти, исследователь рассматривает «единую модель времени-пространства, сближенную с мифологической моделью» (там же, с. 158) и вписывает образ дома в мифологическую картину мира.
Несмотря на то, что за все время литературоведческого изучения творчества М. Булгакова появилось значительное число работ, в которых более или менее глубоко рассматриваются образ дома и круг связанных с ним проблем, комплексного исследования этого явления не проводилось. Кроме того, в булгаковедении до сих пор не предпринимались попытки освещения истории данного вопроса, поэтому сделанные исследователями наблюдения остаются фрагментарными.
Необходимость целостного рассмотрения образа дома в произведениях М. Булгакова и определяет актуальность диссертационного исследования.
Целью работы является изучение булгаковской модели мироустройства, воплощенной в прозе писателя в образе дома.
Данная цель обусловила постановку следующих задач:
Проанализировать существующие работы, посвященные феномену дома в творчестве М. Булгакова и определить возможные направления исследования.
Рассмотреть типологию и символику образа дома в прозе М. Булгакова в контексте духовно-нравственных традиций русской
культуры, с учетом мировоззренческих особенностей творчества писателя.
Исследовать характерную для прозы М. Булгакова 20-х годов ситуацию онтологического кризиса личности в связи с темой разрушения традиционного миропорядка.
Проследить эволюцию образа дома в произведениях М. Булгакова 30-х годов в контексте проблемы искажения идеала человеческого бытия в пореволюционном мире.
Эти задачи решаются на материале прозы М. Булгакова, писем и дневников писателя, воспоминаний о нем близких и современников.
Методологической основой исследования послужили труды русских философов рубежа XIX-XX веков Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Ильина, М. Гершензона, Н. Трубецкого, П. Струве, П. Флоренского. Литературоведческой базой являются теоретические положения М.М. Бахтина, Е.М. Мелетинского, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.М. Гаспарова, В.Е. Хализева, Е.Б. Скороспеловой. В исследовании использовались биографический, системно-целостный методы, элементы мотивного, мифопоэтического, интертекстуального анализа, метод религиозно-философской интерпретации текстов.
Научная новизна данного исследования обусловлена недостаточной изученностью темы и заключается в следующем:
впервые предпринимается попытка систематизировать результаты отечественных исследований феномена дома в творчестве М. Булгакова;
уточняется классификация представленных в произведениях М. Булгакова моделей дома, раскрываются символическое и функциональное значения каждой из них;
рассматриваются очерки и фельетоны М. Булгакова как части единого метатекста в свете онтологической проблематики творчества писателя;
характеризуются «Записки покойника» М. Булгакова как «лжесемейный» роман.
17 На защиту выносятся следующие положения:
Дом как идеальная модель мироустройства является в прозе М. Булгакова залогом полноценной духовной жизни человека, творческой реализации личности.
В произведениях писателя гармоничная модель дома как единство трех ипостасей (бытовой, бытийной и духовной) находит свое воплощение в романе «Белая гвардия» (квартира Турбиных). В целом же в творчестве М. Булгакова нашла отражение тенденция к разрушению традиционной нормы бытия и идеального образа дома.
Потеря опоры в виде морально-нравственных правил и законов, религиозной веры приводит к онтологическому кризису личности и установлению новых, враждебных отношений человека и внешнего мира.
В прозе М. Булгакова 30-х годов доминирует модель «мертвого» дома, представленная двумя своими разновидностями -коммуной и «роскошной квартирой»; она наиболее адекватно отражает ценности пореволюционного мира и воплощает тему «духовного пепелища».
Лейтмотивом творчества М. Булгакова является стремление восстановить разрушенный идеал человеческого бытия. Возможность возрождения гармоничного мироустройства связана в произведениях писателя с образами героев-творцов и мотивом ученичества.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что целостное исследование феномена дома позволяет скорректировать представление о структуре художественного мира М. Булгакова, а также выявить мировоззренческие основы творчества этого писателя.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов для подготовки лекций по истории русской литературы XX века, а также спецкурсов и спецсеминаров.
Апробация работы. Основные результаты работы отражены в публикациях, докладах на конференциях.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
Типология дома в творчестве М.А. Булгакова
Исследователи творчества М. Булгакова обратили внимание на образ дома в первую очередь в связи с проблематикой романа «Белая гвардия». В работах конца 80 - начала 90-х годов, посвященных этому произведению, акцентировалась тема сохранения в революционных условиях старой модели отношений человека и мира, установлений и традиций русского общества до 1917 года. В.В. Бузник в статье «Возвращение к себе: О романе М.А. Булгакова "Белая гвардия"» отметила, что «тема сбережения духовных, нравственных, культурных традиций проходит через весь роман, но, пожалуй, наиболее осязаемо, "вещественно" претворена она в образе Дома, как видно, чрезвычайно дорогом и важном для автора» (Бузник 1998, с. 50). Статья построена как исследование антиномичных пространств - квартиры Турбиных, своеобразной «крепости, которая находится в осаде» (там же, с. 50), и внешнего мира, в котором ценности семьи главных героев романа не принимаются. О доминировании в послереволюционной литературе темы сохранения нормы, традиций, привычного образа жизни и темы бесприютности, разрушения общих устоев, воплотившихся, соответственно, в двух архетипических образах — Дом и Бездомье, говорил В.Я. Лакшин на примере творчества М. Булгакова и А. Блока. Он в статье «О Доме и Бездомье: Александр Блок и Михаил Булгаков» (1993) противопоставил уютный мир Турбиных, существующий в стенах квартиры на Алексеевском спуске, и враждебный героям романа мир гражданской войны.
Постепенно в булгаковедении оформилось представление о функционировании не только в «Белой гвардии», но и во всем художественном мире М. Булгакова двух моделей жилища: в пространстве первого торжествует норма жизни, в пространстве второго — смерть, разрушение. Здесь необходимо отметить работу Ю.М. Лотмана «Дом в "Мастере и Маргарите"», включенную в его исследование «Внутри мыслящих миров» (1999). Автор статьи рассматривает модели дом и антидом преимущественно на материале последнего романа М. Булгакова, но при этом обращается и к его первому роману. Антиномичность двух этих моделей основана, по мнению исследователя, на существовании или отсутствии в пространстве жилища духовности. Ю.М. Лотман отмечает своеобразную иерархию духовности: «на нижней ступени находится мертвенная бездуховность, на высшей — абсолютная духовность. Первой нужна жилая площадь, а не дом, второй не нужен дом: он не нужен Иешуа, земная жизнь которого — вечная дорога. ...
Но между этими полюсами находится широкий и неоднозначный мир жизни» (Лотман 20016, с. 317-318). В соответствии с иерархией духовности выстраивается иерархия пространства: антидом — дом — отсутствие земного воплощения дома как проявление высшей духовности.
Исследователь указывает на закрепленность в русской культуре оппозиции дом/антидом, которую рассматривает в свете традиций фольклора и русской классической литературы XIX века, в частности творчества А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. В контексте прозы М. Булгакова дом трактуется автором работы как «внутреннее, замкнутое пространство, носитель значений безопасности, гармонии, культуры, творчества» (Лотман 20016, с. 320). Антидом, к которому исследователь относит коммунальные квартиры, Дом Грибоедова, сумасшедший дом, выступает как сосредоточение аномального мира и оказывается связан с темой смерти, хаоса, разрушения: «Квартира — хаос, принявший вид дома и вытеснивший его из жизни» (там же, с. 320). Признаками этого жилища являются неухоженность, запущенность, инфернальная природа, но «главное свойство антидомов ... состоит в том, что в них не живут — из них исчезают (убегают, улетают, уходят, чтобы пропасть без следа)» (там же, с. 315). Если воспользоваться терминологией В.Н. Топорова, то можно говорить о доме как о мифопоэтическом пространстве, восходящем к архетипу Космоса, и об антидоме как не-пространстве, «воплощением которого является хаос, состояние, предшествующее творению» (Топоров 2003, с. 234).
По мнению Ю.М. Лотмана, «то, что дом и квартира (разумеется, особенно коммунальная) предстают как антиподы, приводит к тому, что основной бытовой признак дома — быть жилищем, жилым помещением — снимается как незначимый: остаются лишь семиотические признаки. Дом превращается в знаковый элемент культурного пространства [подчеркнуто нами.- Н.П.]» (Лотман 20016, с. 320).
Сегодня существует множество классификаций жилища в художественном мире М. Булгакова, в основе которых лежит противопоставление архетипических образов дома и антидома. Одна из последних содержится в статье В.А. Ждановой «Тема дома в творчестве М. Булгакова» (2003), где речь идет о пяти видах жилища в прозе писателя: дом Турбиных и вечный дом мастера как «воплощения потерянного рая и дарованного в загробном мире покоя» (Жданова 2003, с. 139); дом-корабль, «стремящийся настигнуть мечту,- гимназия в «Белой гвардии» и дом Максудова в «Театральном романе» (там же, с. 139); мнимый дом — «манящая покоем дьявольская ловушка для мечтателя» (там же, с. 140) - Независимый Театр в «Театральном романе», ресторан Дома Грибоедова в «Мастере и Маргарите»; тайный приют (домик Юлии Рейсе в «Белой гвардии» и подвальчик мастера) — «миниатюрный, почти игрушечный дом, для героев, не достойных дома настоящего ... » (там же, с. 140); московские квартиры («Собачье сердце», «№13.
Символика Дома в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»
«Хорошая квартира», предполагающая материальное воплощение, имеет в произведениях М. Булгакова свою символику, элементы которой восходят к традициям классической русской литературы и православной культуры. «Дом имеет свое пространство, свой запах, свое лицо, свои голоса. Всякий дом имеет типичные и в культуре множество раз отрефлектированные и опоэтизированные атрибуции»,— эти размышления о. Бориса Ничипорова (Ничипоров 1994, с. 118), священника-психолога, в полной мере можно соотнести и с образом Дома в «Белой гвардии». Каждая деталь здесь несет определенную идею и становится составной частью дома-«приюта» в его идеализированной, вневременной, метафизической ипостаси. По мнению Ю.М. Лотмана, в доме как определенном культурном пространстве, возникшем в результате накопления семьей, родом духовного опыта, происходит символизация быта. Это выражается в том, что быт начинает восприниматься не только как «обычное протекание жизни в ее реально-практических формах», но и в символическом его значении, когда «все [выделено автором.— Н.П.] окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становятся как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер» (Лотман 1998, с. 10-11). В пространстве же квартиры Турбиных детали обстановки, вещный мир включаются и в общественную, и в духовную практику жизни героев, размыкая локус Дома в пространстве (квартира Турбиных как модель дореволюционного мира) и во времени (бессмертная, вечная природа Дома).
Для характеристики вневременной природы Дома чрезвычайно важно в романе вертикальное строение квартиры Турбиных, которая расположена в двух этажах: «Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под верандой Турбиных — подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем — сильно и весело загорелись турбинские окна» (Булгаков 1996, т. 1, с. 442). По мнению Е.А. Яблокова, вертикальное строение Дома указывает на «вознесенность» помещения над историческим временем — в противоположность помещениям, распространяющимся по горизонтали — «оси истории». Верность данной теории подтверждается жанровыми особенностями «Белой гвардии», оказавшими влияние на хронотоп дома Турбиных. В жанровом отношении первый роман М. Булгакова вмещает элементы семейной идиллии, для которой характерна особая «цикличная ритмичность времени»6. «Единство места жизни поколений ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни. Единство места сближает и сливает колыбель и могилу, детство и старость, жизнь различных поколений» (Бахтин 1975, с. 374). «Цикличная ритмичность времени» делает возможным особое восприятие членами рода, семьи материального мира, окружающего их, как вечного. Не случайно уже в первом описании квартиры Турбиных часто повторяется слово «бессмертие»: «часы ... совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий» (Булгаков 1996, т. 1, с. 440). Даже «мерзавец» Тальберг осознает бессмертие дома: «Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истерзанные страницы "Фауста". ... Все же, когда Турбиных и Талъберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши ... , потому что «Фауст», как и «Саардамский Плотник»,- совершенно бессмертен» (там же, с. 459).
Заметим, эпитеты «бессмертный», «вечный» М. Булгаков относит либо к вещам, дорогим человеку как память о прошлых поколениях, либо к произведениям искусства. Таким образом, основанием Дома служат родовая память и культурные ценности. Первое связывает между собой членов одной семьи, одного рода; второе объединяет людей разных семей и поколений в некое духовное единство. В булгаковском творчестве духовное единство и нравственные начала постепенно вытесняют единство рода и начала идиллические, так как последние, начав разрушаться еще в первом романе писателя, в следующих произведениях исчезают вовсе, «циклическая ритмичность времени» прерывается вместе с распадом семьи в послереволюционном мире.
Одним из нравственных оснований дома-«приюта» является христианское представление о человеческом бытии как духовном восхождении и очищении. В «Белой гвардии» символом такого восхождения стало возвращение Турбиных в свою квартиру, частично расположенную на втором этаже. В христианской культуре существует традиционное понимание духовного верха — чистоты и душевного низа — греха. Это представление нашло свое символическое воплощение в народном искусстве, в частности, в народных театрализованных представлениях, связанных с религиозными праздниками и в первую очередь с празднованием Рождества Христова. На рождественские праздники эпизоды новозаветной истории традиционно демонстрировались в вертепном театре, двухэтажная сцена которого создавала особый хронотоп добра и зла. В произведениях М. Булгакова часто использовались элементы народного театра.
Мифологема Москвы в фельетонах и повестях М.А. Булгакова
Москва, как и Киев, и Петербург, сыгравших, каждый в свою эпоху, роль политического, экономического, культурного и духовного центра российского государства, принадлежит к особому роду мифопорождающих пространств. К ней в полной мере относятся слова В.Н. Топорова о существовании «сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического» (Топоров 1995, с. 259).
В середине 20-х годов прошлого столетия философ Г. Федотов попытался определить культурные и духовные составляющие трех городов, бывших когда-то столицами,- Киева, Петербурга и Москвы. Значение Киева виделось ему в том, что именно этот город стал наследником Византии и центром православия, величайшей святыней: «Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славянско-варяжские терема золотое небо святой Софии» (Федотов 1988, т. 1, с. 67). Доминантами киевского пространственно-временного континуума, центром которого служит собор св. Софии, по мысли Г. Федотова, являются идея включенности исторического времени в сферу вечности («Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!» (там же, с. 67)), идея взаимосвязи земного бытия человека и его духовной жизни, выраженная в структурировании городского пространства вдоль вертикальной оси («Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемля крылами парусов своих» (Федотов 1988, т. 1, с. 67)), и, наконец, идея гармонии, уравновешенности природного и сверхприродного, залогом которых служит религиозная вера («Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. ... кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия» (там же, с. 67)). Характерно, что Г. Федотов напрямую соотносит городское пространство с пространством храма, Киев у него, если воспользоваться терминологией Ю.М. Лотмана,— город на горе, или вечный город (Лотман 2001 в, с. 321).
Петербург и Москва противопоставляются философом как воплощение западного (европейского) и восточного (азиатского) начал. Город Петра — это «все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России» (Федотов 1988, т. 1, с. 51). Он наделяет человека творческой энергией, но взамен требует «жизни аскета и смерти мученика». Женское начало России представляла провинциальная, дореволюционная Москва. Лишенная Петром I бремени политической власти, она, «как старая, добрая няня», жалела Россию, дарила «истерзанному россиянину» возможность вольной,неторопливой, спокойной жизни.
Однако, как отмечает философ, после Октября 1917 года и перенесения столицы в Москву, оба города изменились неузнаваемо и необратимо. С Петербурга революция сняла все «наносное», «пришлое», сделав его «обителью русской мысли», судьба Москвы оказалась драматичнее: «Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив,- и ничего не создав в ней. Она лишь исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом» (там же, с. 57). Перемена статуса города вызвала изменения его сущности и, не согласимся с Г. Федотовым, облика, а также повлекла за собой осмысление этого процесса в работах историков, философов, художников того времени.
В литературе послереволюционной России осмысление новой роли Москвы происходит в произведениях таких разных и по своим взглядам и по художественной манере авторов, как А. Белый, А. Платонов, Б. Пильняк, В. Маяковский и пр. Ко второй половине 20-х годов в общих чертах складываются два основных мифа об этом городе: в первом московское пространство наделяется чертами «петербургского мифа» (например, в романе «Вор» Л. Леонова, в «Третьей столице» и «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка), во втором Москва представлена как цветущая столица социалистического государства. Постепенно, главным образом в связи с изменением общественно-политического климата в советской России, первая мифологема в послереволюционной литературе вытесняется на периферию. В 1933 году советское правительство сделало попытку направить творческие искания писателей, художников, кинематографистов в нужное, соответствующее официальной советской идеологии русло, организовав акцию под лозунгом «Пролетарская Москва ждет своего художника».17 С этого момента «узаконенной» становится именно вторая мифологема, в советской литературе закрепляется радостный, светлый образ Москвы — столицы нового государства, который с различными вариациями и реализуется в произведениях писателей социалистического реализма.
Среди авторов, обратившихся к теме новой Москвы еще в начале 20-х годов, то есть до утверждения соцреалистического образа столицы в советской литературе, был и М. Булгаков, действие большей части произведений которого происходит именно в этом городе. Образ Москвы, созданный М. Булгаковым в этот период, возникает на пересечении нескольких мифологем:
Модель «мертвого» дома в художественном мире М.А. Булгакова
Образ «мертвого» дома, связанный прежде всего с темой духовного умирания, противопоставлен в произведениях М. Булгакова образу дома-«приюта». Занимая значительное место во всей прозе, особенно важную роль модель «нехорошей квартиры» играет в романах «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита», действие которых относится к послереволюционному времени и происходит в мире, довольно далеко отошедшем от потрясений гражданской войны. Октябрьская революция, утвердившая атеизм и материализм в качестве идеологической основы «нового мира» (Булгаков 1996, т. 2, с. 201), привела к утрате или деформации целого ряда духовно-нравственных категорий, входивших в традиционную систему ценностей старой России, поставила временное выше вечного, превратив средства к существованию в цель человеческой жизни. Н. Бердяев, оценивая современное ему состояние общества, писал: «Но в нашем мире иерархия ценностей опрокинута, низшее стало высшим, высшее задавлено. ... Иерархия ценностей определяется по принципу пользы, при совершенном равнодушии к истине. Духовная культура задавлена. Ставится вопрос даже не о ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой жизни померкли. Человек перестал понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Жизнь человека заполнена средствами к жизни, которые стали самоцелью» (Бердяев 19906, с. 271).
«Мертвый» дом в творчестве М. Булгакова — это фактически бытовая ипостась дома-«приюта», существующая отдельно и лишенная идеального начала. По своей сущности модель «нехорошей квартиры» полностью соответствует принципам построения «нового мира». Оставаясь статичным, в отличие от эволюционирующего образа дома-«приюта», «мертвый» дом в булгаковских произведениях изменяется в количественном отношении: лейтмотивом романов 30-х годов становится тотальное распространение «нехороших квартир» в послереволюционном мире. Все же, несмотря на невозможность качественного изменения, эта модель имеет две реализации, которые отличаются не глубинным, внутренним содержанием, а внешним оформлением: «роскошная квартира» (дом Лисовича и дворец гетмана в «Белой гвардии», квартиры литераторов и квартира Ивана Васильевича в «Записках покойника») и коммунальная квартира (дом № 13 в рассказе «№13. Дом Эльпит-Рабкоммуна» и романе «Мастер и Маргарита»).
Особенность первой разновидности «мертвого» дома в том, что она претендует на жизнь, обладая, казалось бы, всеми характеристиками метафизического Дома: квартире Лисовича свойственны, на первый взгляд, такие категории, как покой («В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина» (Булгаков 1996, т. 1, с. 461)), свет (Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно...» (там же)), защищенность от внешнего мира («Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей» (там же)). Почти все «мертвые» дома в произведениях М. Булгакова заполнены красивыми, старинными вещами, которые в доме Турбиных служили внешними составляющими уюта. Так, в описании квартиры Ивана Васильевича встречаются «драгоценная мебель карельской березы с золотыми украшениями», пылающая люстра, портреты в рамах, белоснежная скатерть, хрусталь. На уют претендуют и квартира Маргариты, и ресторан в Доме Грибоедова с лампой, накрытой шалью, на каждом столике, и даже жилище Воланда. Однако богатая обстановка, старинные вещи не создают настоящего уюта, не возможного вне атмосферы духовного родства — всего того, чем обладает «хорошая квартира» и чего лишены «мертвые» дома. В то же время роскошь, свойственная этому типу «нехорошей квартиры», в первый момент может соблазнить и скрыть истинное содержание таких помещений. В романе «Записки покойника» при виде жилища одного из литераторов впадает в соблазн Максудов: «Я оглянулся — новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол накрыт на двадцать пять примерно кувертов; хрусталь играл огнями; даже в черной икре сверкали искры ... » (Булгаков 1996, т. 2, с. 201). Интересно, что при описании внешней роскоши М. Булгаков использует такую деталь, как «игра огнями». «Нехорошие квартиры» буквально ослепляют сверканием хрусталя, золоченых рам, зеркал. Однако у человека, сохраняющего традиции дома-«приюта», ослепление быстро проходит, и очевидна становится пустота, скрытая за всей роскошью такого жилища. «Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Он чужой мир. Отвратительный мир!»— признается сам себе Максудов после посещения собрания литераторов (там же, с. 207).
Реальным содержанием «нового мира» являются материальные блага, слава, власть. Именно эти категории лежат в основе большей части домов булгаковской прозы: роскошный дом Драмлита населен людьми, жаждущими славы, огромная квартира Маргариты держится благодаря общественному положению мужа героини — «очень крупного специалиста». В связи с материальной основой «мертвых» домов в булгаковских произведениях возникает мотив тайника, подземелья, в котором хранятся ценности. Тайник имеет в своем жилище Лисович, который материальное благополучие считает целью и фундаментом человеческой жизни: «Дело в том, что исчезло самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли» (Булгаков 1996, т. 1, с. 638).