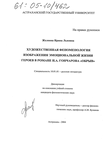Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мир античности в творчестве И.А. Гончарова 37
1.1. Античная тема в произведениях И.А. Гончарова 1840-х — 50-х г.г. .
1.2. Античные мотивы в романе «Обрыв» 67
Глава 2. Христианские мотивы в романе И.А. Гончарова «Обрыв» 99
2.1. Тема искушения в романе 99
2.2. Мотив грехопадения как основной библейский мотив романа 131
Заключение 160
Список литературы 170
- Античная тема в произведениях И.А. Гончарова 1840-х — 50-х г.г.
- Античные мотивы в романе «Обрыв»
- Тема искушения в романе
- Мотив грехопадения как основной библейский мотив романа
Введение к работе
В истории русской литературы XIX века главным романом И. А. Гончарова традиционно считается «Обломов» (1859). Признавая безусловную художественную ценность данного произведения, отметим, что ни в коей мере нельзя умалять и значимости последнего гончаровского романа - «Обрыв» (1869) - как для творчества писателя, так и для всей русской литературы в целом.
Пожалуй, ни одно из классических произведений XIX века не писалось так долго и трудно, как «Обрыв», и уж точно ни в одном другом произведении авторская концепция не претерпела таких кардинальных изменений, как в последнем гончаровском романе. Сегодня, чтобы постичь всю глубину содержания «Обрыва», необходимо обратиться к творческой истории романа и проследить, как постепенно менялось мировоззрение Гончарова, как писатель шаг за шагом шёл к окончательному варианту произведения, во многом противоположному первоначальному замыслу.
С того времени, как у Гончарова появились первые мысли о романе, и до момента публикации прошло двадцать лет, наполненных важными для Гончарова и страны событиями. Писатель вспоминал: «План романа «Обрыв» родился у меня в 1849 году на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни - всё это расшевелило мою фантазию, -и я тогда же начертил программу всего романа...» (8, 6, 522)
«Обрыв» сначала записывался фрагментами, мелкими лоскутками «программы», почти параллельно «Обломову». Но постепенно завершение «Обломова», кругосветная экспедиция, работа над книгой очерков «Фрегат «Паллада» отвлекли Гончарова, всё дальше уводя его от воспоминаний симбирской поры. Лишь в 1859 году писатель снова принимается за работу, о чём свидетельствует письмо его к И. С. Тургеневу от 28 марта 1859 года:
«теперь произошли значительные перемены в плане, много прибавилось, даже написалось картин, сцен, новых лиц всё прибавляется. Тем, что сделано, я доволен. Бог даст и прочее пойдёт на лад» (9, 8, 317). Вскоре Гончаров публикует первые отрывки из романа: «Софья Николаевна Беловодова» («Современник», 1860), «Бабушка» и «Портрет» («Отечественные записки», 1861). Но дальнейшая работа над романом приостановилась до 1866 года. Творческие затруднения писателя были настолько велики, что Гончаров хотел даже бросить роман. Эти затруднения писателя объясняются как обстоятельствами его собственной жизни, так и событиями, происходившими в России во второй половине 50-х и в 60-е годы. Одной из причин остановки работы над «Обрывом» была служба Гончарова: он был назначен редактором официальной газеты министерства внутренних дел «Северная почта», затем (в июле 1863 г.) - членом совета по делам книгопечатания, а в апреле 1865 -членом главного управления по делам печати. Гончаров, таким образом, стал одним из тех, кто руководил всей русской цензурой. Вполне понятно, что государственная служба отнимала у писателя много сил и времени. В замедлении работы над «Обрывом» сыграл свою отрицательную роль и конфликт писателя с И. С. Тургеневым, вызвавший у Гончарова весьма серьёзные переживания и наложивший отпечаток на всю его последующую жизнь.
Но главной причиной, затруднявшей процесс создания «Обрыва», на наш взгляд, явилась нестабильность, неопределённость русской жизни того периода. Середина XIX столетия стала переломным моментом в русской истории, бурным и противоречивым временем. Отмена крепостного права, появление новых социальных слоев, стремительное развитие капиталистических отношений, распространение революционных настроений, ожесточённая борьба между различными общественными силами - всё это породило массу крайностей и уродливых явлений в жизни русского общества, среди которых первые террористические акты, ломка моральных барьеров, распространение атеистических взглядов, падение уровня нравственности... Всё это обрушилось
на Россию подобно страшному громовому разряду. История страны буквально на глазах современников раскололась на две эпохи - Россию старую, патриархальную и Россию новую, молодую, непредсказуемую и потому пугающую.
Все происходящие события осмысливались и переживались в литературе. Содержание действительности наполняло произведения тех, кто творил в эти десятилетия: А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Н. Г. Чернышевского, Г. И. Успенского, А. Ф. Писемского и др. В их романах, рассказах, стихах и статьях бился живой пульс жизни, ощущался новый ток крови. Здесь запечатлевалось то, чем жило русское общество, о чём писалось в газетных и журнальных статьях, что обсуждалось с одинаковой горячностью в аристократических салонах и кружках разночинцев. На смену «лишним людям» в 60-е годы в литературе и жизни приходит новый тип современного героя -нигилист, человек, отрицающий все сложившиеся нормы жизни. Как сильные, так и слабые стороны русской литературы той поры были обусловлены неустойчивостью, изменчивостью общественной жизни, страстными поисками, свойственными переходному, времени.
В отличие от коллег, писателей-современников, Гончаров намеренно не спешит отразить «взбаламученное море» (А. Ф. Писемский) жизни. Это связано с особенностями его мировосприятия как художника. Процесс осмысления действительности у Гончарова был столь длительным, что в пёстром многообразии окружающей жизни писатель выбирал лишь то, что приходило в её бытие и оставалось уже навсегда, прирастало, а прирастание - процесс органический и требующий времени. Именно так понимал это он сам. «Творчество требует спокойного наблюдения уже установившихся и успокоившихся форм жизни, а новая жизнь слишком нова, она трепещет в процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра, и видоизменяется не по дням, а по часам, - писал Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда». -Рисовать ... трудно и, по-моему, просто нельзя с жизни, ещё не сложившейся,
где формы её не устоялись, лица не наслоились в типы. Никто не знает, в какие формы деятельности и жизни отольются молодые силы юных поколений, так как сама новая жизнь окончательно не выработала новых окрепших направлений и форм. ...писать самый процесс брожения нельзя: в нём личности видоизменяются почти каждый день - и будут неуловимы для пера» (8, 6, 479). А в статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»», написанной предположительно в 1876 году, писатель, сам объясняя медленную работу над последним романом, вновь декларирует свою приверженность к устоявшемуся, определившемуся в жизни: «...я отнюдь не согласен с теми эстетиками из новых поколений, которые ограничивают цель искусства одними крайне утилитарными целями, требуя, чтобы оно отражало только жизнь, кишащую заботами нынешнего дня, изображало вчера родившихся и завтра умирающих героев и героинь, и чтобы несло в свои пределы всякую мелочь, все подробные черты, не успевшие сложиться в какой-нибудь более или менее определённый порядок, то есть образ. Искусство серьёзное и строгое не может изображать хаоса, разложения, всех микроскопических явлений жизни; это дело низшего рода искусства: карикатуры, эпиграммы, летучей сатиры. Истинное произведение искусства может изображать только устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, физиономии, чтобы и самые люди повторились в многочисленных типах под влиянием тех или других начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-нибудь постоянный и определённый образ формы жизни и чтобы люди в этой форме явились в множестве видов или экземпляров с известными правилами, привычками. А для этого нужно, конечно, время. Только то, что оставляет заметную черту в жизни, что поступает, так сказать, в её капитал, будущую основу, то и входит в художественное произведение, оставляющее прочный след в литературе» (8, 6, 526 - 527).
В ходе постижения и осмысления стремительно меняющейся картины современной действительности менялось и мировоззрение писателя, а вслед за
этим претерпевал эволюцию и замысел гончаровского романа. Так время властно вмешивалось в процесс создания «Обрыва».
По * первоначальному замыслу писателя, основной конфликт третьего романа должен был строиться на столкновении двух эпох в жизни России -старой и новой. «Борьба с всероссийским застоем» - так, на наш взгляд, выражаясь словами самого Гончарова, можно' определить главную идею «Обрыва» в его начальном варианте. Та же проблематика была характерна и для двух предыдущих романов писателя, и так же симпатии автора склонялись к новой, деловой России. Центральной фигурой задуманного романа должен был стать Борис Райский. Художник-дилетант, музыкант-дилетант, писатель-дилетант, он призван был, по замыслу автора, олицетворять собой ту силу, которая, проснувшись от обломовского сна, не может ещё найти себе места в ломающейся действительности. Человек 40-х годов, потомственный дворянин, один из типичных представителей дворянской интеллигенции, Райский, пройдя через искушение словами, должен был найти подлинное дело своей жизни в идеале служения искусству, потому и варьировалось первоначальное название романа, не отделяясь тем не менее от фигуры главного героя: сначала «Художник», затем «Художник Райский», затем просто «Райский».
Образ Марка Волохова мог бы предстать перед читателем в более привлекательном виде, если бы писатель остался верен первоначальной идее. «В первоначальном плане романа, - рассказывает Гончаров, - на месте Волохова у меня предполагалась другая личность - так же сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным идеям, в службе и в петербургском обществе, и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов» (8, 6, 532-533). Предыстория поселения Марка в провинциальном городе долженствовала вызвать сочувствие и уважение читателя: он, дворянин-протестант 40-х годов, не закончив университета (не хотел принять консервативной науки), определился в полк. В полку он не угодил начальству, подав рапорт, что солдат скверно кормят, что фураж стоит дешевле. Это и послужило причиной ссылки. Волохов
в начальном варианте весьма образован: при последнем свидании с Марком, когда тот укладывал вещи, Райский видел среди множества разбросанных книг немецкие и французские заголовки. Значит, Волохов владел двумя иностранными языками. Гончаров упоминает, что Марк знаком с учением Прудона, с различной вольнодумной литературой. Таким образом, в ранней концепции перед читателем должен был предстать либерально настроенный интеллигент, сочувствующий крепостному народу и намеревающийся заняться пропагандой новых идей.
Но если в обрисовке Волохова в ранней редакции было гораздо меньше острых углов, чем в окончательной, то Вера, напротив, задумывалась более радикально. В рукописи (гл. 15 третьей части) рекомендованную бабушкой «нравоучительную» книгу о Кунигунде Вера называет «дичью» и удивляется, как молодые лица «терпели такую пытку над собой». Бабушка обвиняет их за непослушание родителям: «Нажили беду - и терпи: делать-то нечего». «Как нечего? А бежать?» - вдруг сказала Вера. Бабушка окаменела». Вера, хлопнув дверью, выбежала из комнаты» (145, 59).
Характерно, как переработан Гончаровым текст для печати. Слов «дичь», «пытка», «бежать» Вера не произносит, бабушка её целует, а Вера в ответ: «Перекрестите меня», - сказала потом, и когда бабушка перекрестила её, она поцеловала у неё руку и ушла» (8, 5, 488).
В соответствии с ранним вариантом образов Веры и Марка Гончаров строил и финал их романа:. «Вера так же, вопреки воле бабушки и целого общества, увлеклась страстью к нему и потом, вышедши за него замуж, уехала с ним в Сибирь, куда послали его на житьё за его политические убеждения» (8, 6, 533). Н. К. Пиксанов предполагал, что такой исход романа навеян Гончарову общением с декабристами в Иркутске в 1854 году (145, 59).
Иным задумывался и образ бабушки. На волне общественного подъёма 50-х годов в её образе заострялись черты типичной помещицы-крепостницы: самодурство, своеволие, гордыня. Конечно, и в окончательном варианте романа
Татьяна Марковна не совсем лишена этих качеств, однако они значительно сглажены.
К реализации такого замысла романа Гончаров приступает в 1859 г., сразу после окончания «Обломова», и к 1862 г. вчерне завершает три части будущего «Обрыва». После этого работа и остановилась. Первоначальный замысел уже не удовлетворял писателя в свете окружавших его событий.
Прежде всего дыхание времени не могло не коснуться образа Райского. Как свидетельствуют письма тех лет, чем дальше продвигалась работа над произведением, тем более туманной становилась для писателя фигура этого персонажа - человека 40-х годов, помещённого в атмосферу 60-х. Позднее Гончаров признавался: «В «Обрыве» больше и прежде всего меня занимали три лица: Райский, Бабушка и Вера, но особенно Райский. Труднее всего было мне вдумываться в этот неопределённый, туманный ещё тогда для меня образ, сложный; изменчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшийся постепенно, с ходом времени, которое отражало на нём все переливы света и красок...» (8, 6, 448). С течением времени проявлялись всё новые, неожиданные порой черты в тех, кто представительствовал от имени уходящей эпохи. «Обломовщина» Райского, его дилетантизм воспринимаются Гончаровым как особые приметы времени.
Бурные 60-е не могли оставить без изменений и образ другого представителя эпохи - Марка Волохова. Гончаров писал: «Но посетив в 1862 году провинцию, я встретил и там, и в Москве несколько экземпляров типа, подобного Волохову. Тогда уже признаки отрицания и нигилизма стали являться чаще и чаще, в обществе обнаружились практические последствия: послышались истории увлечений девиц, женщин, из которых последние нередко почти публично объявляли себя за новое учение, как они это называли» (8, 6, 533).
Не последнюю роль в окончательном оформлении повествования «Обрыва», как показала О. М. Чемена (177), сыграла драма, произошедшая в семействе Владимира Майкова, близкого друга и в прошлом ученика
Гончарова. Жена Майкова Екатерина Павловна пережила горячее увлечение романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и личностью его автора. Ей казалось, что дорога жизни указана и надо только найти силы порвать с прежним бытием. Возвращаясь по Волге с лечения, Майкова познакомилась с недоучившимся студентом Фёдором Любимовым, ввела его в дом на правах домашнего учителя, а в 1866 году навсегда покинула семью и, оставив мужу троих детей, ушла с Любимовым, как ей тогда представлялось, по указанной Чернышевским светлой дороге в будущее. Жизнь Майковой сложилась совсем не так радужно, как ей думалось. Подобно многим дворянкам, она оказалась не приспособленной к лишениям, физическому труду и прочим атрибутам коммунной жизни на Северном Кавказе. Из коммуны она вскоре ушла и до конца жизни прожила в окрестностях Сочи, став свидетелем многих потрясений времени, дожив до Октябрьской революции. До последних дней Майкова сохранила убеждение, что именно 60-е годы пробудили её к истинному существованию.
Майкова была не одинока. История оставила нам имена многих женщин, подобно Екатерине Павловне расставшихся с домом, с детьми, с прежним образом мышления. Некоторые из них ещё не успели к тому времени обзавестись житейской биографией. Но они пожертвовали всем, что у них было, ради новых убеждений, манящих, хоть и туманных идеалов. Время создало женщин, вдруг решивших, что семейным кругом и благотворительной деятельностью жизнь их не может и не должна ограничиваться. Общественное поприще звало их. И как бы по-разному ни сложилась их судьба дальше, 60-е годы действительно ознаменовали явление нового типа женщины.
Могло ли это явление не отразиться в романе Гончарова? Мог ли крупный русский писатель, обойти молчанием столь злободневную тему? Разумеется, нет. Фигуры Марка Волохова и Веры рельефнее очерчивались именно под знаком «животрепещущих проблем текущего», если воспользоваться выражением Ф. М. Достоевского. Но и позиция самого Гончарова вырисовывалась отчётливее. Известно, что поступок Е. П. Майковой
буквально потряс Гончарова. Может быть, именно семейная драма Майковых, так глубоко пережитая Гончаровым, увела писателя от первоначального замысла. Возможно, отчасти предвидя основные вехи пути Майковой, стареющий писатель попытается пристальнее всмотреться в судьбу, уготованную Марком Волоховым его Вере. Вот тогда в творческой истории «Обрыва» и произошёл ещё один - последний -поворот событий, оправданный для Гончарова глубоким нравственным убеждением, вынесенным из драмы близких ему людей. Не случайно в 1868 г. появляется новое название романа -«Вера», а вскоре писатель находит окончательный вариант- «Обрыв».
Сложная, противоречивая ситуация в современной Гончарову жизни приводит к тому, что в «Обрыве», по сравнению с предыдущими его романами, меняется (скорее всего, незаметно для самого писателя) и авторская позиция.
Обратимся к началу творческого пути' Гончарова - к роману «Обыкновенная история». В основе конфликта первого крупного произведения писателя лежит также столкновение двух взглядов на жизнь - старого и нового. В борьбе дяди с племянником отразилась тогдашняя, только что начинавшаяся ломка старых понятий и нравов: сентиментальности, карикатурного преувеличения дружбы и любви, поэзии и праздности, семейной и домашней лжи, напускных, в сущности, небывалых чувств. Всё это отживало, уходило, являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного. Но на чьей стороне симпатии автора «Обыкновенной истории»? На этот вопрос однозначно ответить, думается, нельзя. Неслучайно В. Г. Белинский отмечал, что Гончаров «не даёт никаких нравственных уроков. Он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а моё дело сторона» (29, 8, 382).
Такова, по мнению многих исследователей, писательская манера раннего Гончарова. Напрасно мы будем и в «Обломове» искать нравственные уроки. Пожалуй, эту особенность Гончарова точнее других подметил Л. Н. Толстой. В декабре 1856 года он писал о романе «Обыкновенная история» Арсеньевой: «Прочтите эту прелесть! Вот где учиться жить: видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми не можешь ни с одним согласиться, но зато свой
собственный становится умнее, яснее» (16, 60, 140). Исключительная объективность - вот черта, принципиально отличающая раннего Гончарова от писателей-современников, и выразилась она со всей отчётливостью в двух первых романах писателя. Возможно ли такое у Достоевского, Л. Толстого, даже Тургенева, не говоря уже о Герцене, которого Белинский противопоставил Гончарову? Столь же убедительно можно противопоставить «Обыкновенную историю» и «Обломова» «Запискам охотника» Тургенева, «Бедным людям» Достоевского, «Севастопольским рассказам» Л. Толстого. Основные тенденции, направлявшие мысль этих произведений, были выражены ясно и чётко, не допускали разночтений, и вряд ли пришло бы кому-нибудь на ум доискиваться, на чьей стороне симпатии и сочувствие писателя. У раннего Гончарова определённость тенденций скрыта беспристрастной объективностью изображения и выступает именно так, как понял это Л. Н. Толстой: подлинный смысл повествования раскрывается через читательское восприятие, круг ассоциаций служит выработке собственного мировоззрения, собственных оценок. Может быть, в этом и сказалась с особой наглядностью непохожесть Гончарова на тех, с кем одновременно он вступил в литературу. Каждый из них более или менее открыто декларировал свои пристрастия и антипатии. Гончаров же в первых двух своих романах предстаёт перед нами прежде всего как летописец. И нельзя сказать при этом, что общественные вопросы не волновали его: за внешней беспристрастностью повествования бьётся пульс действительности, породившей эти произведения. Но свои волнения, тревоги, ранний Гончаров выражал иначе, чем мы привыкли видеть в романах русских писателей XIX века. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» пишет: «Он вам не даёт и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов. Жизнь, им избранная, служит для него не средством к отвлечённой философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибётесь, - пеняйте на свою близорукость, и никак не на автора. Он представляет нам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью, а там уже ваше дело определить степень
достоинства изображаемых предметов: он к этому совершенно равнодушен...» (55, 176) Как видим, критик почти повторяет оценку Белинского.
Многие исследователи творчества Гончарова (Н. Старосельская, Н. К. Пиксанов и др.) склонны и в «Обрыве» видеть всё то же отсутствие нравственных уроков. Однако в работах последних лет (В. А. Котельникова, Ю. В. Лебедева и др.) прозвучала противоположная точка зрения. Думается, можно согласиться с В. А. Котельниковым, который пишет: «В «Обрыве» предстояло уже не только показать человека, жизнь, но и доказать некую истину, в которую незыблемо верил писатель, но которая, видел он, пошатнулась в последнее время. А для того эту истину надо было привести к очевидности. Создавая «Обрыв», Гончаров уже не только самозабвенно рисовал являющийся его воображению характер, а вступал в борьбу с действительностью, её дисгармонией, разрушительными тенденциями. Её ложным понятиям он должен был противопоставить истинные понятия, положительные устремления, разумно обоснованную гармонию» (82,160).
Сам же Гончаров во время и после написания своего последнего романа продолжает декларировать объективное изображение жизни без какой-либо тенденциозности. Так, в письме к Е. П. Майковой в мае 1869 г. он признаётся: «...моя главная и почти единственная цель в романе - есть рисовка жизни, простой, вседневной, как она есть или была... Доказывать, натягивать - я ничего не хотел, а хотел прежде всего рисовать. Произведение искусства - не есть ни защитительная, ни обвинительная речь и не математическое доказательство. Оно не обвиняет, не оправдывает и не доказывает, а изображает» (9, 8, 353). И тем не менее сквозь убедительно срисованные с действительности художественные образы в «Обрыве» ощутимо пробивается авторская позиция. Сама жизнь требовала вводить в поэтическую форму романа точные, рационалистические величины, требовала от романиста философского и исторического мышления. Крупный русский писатель не мог не отозваться на это требование. Поэтому от чисто художественного синтеза в прежних романах Гончаров переходит в «Обрыве» к анализу, к строгим
этическим оценкам, к осознанию исторической диалектики в отношениях старого и нового. Е. А. Краснощёкова (правда, по поводу «Фрегата «Паллада», но эти слова в полной мере применимы и к «Обрыву») пишет: «Он (Гончаров -Н.Т.) ориентирован на раскрытие человеческого элемента в двух проекциях: жизнь целого народа и одной личности. Отсюда и два урока: частный (непосредственно связанный с местом - Географией и временем - Историей) и общечеловеческий (всемирный и всевременной)» (87, 67).
Видимо, около 1866 и 1867 гг. совершался этот существенный поворот в творческом сознании Гончарова. В ту пору его мысль ищет прочных мировоззренческих и психологических опор. Котельников пишет: «Под «взбаламученным морем» современности он хотел нащупать твёрдый, донный рельеф жизни, чтобы на нём основать свою социально-этическую программу и всю капитальную постройку «Обрыва» (82, 160). В этих поисках главным пунктом для Гончарова становится вопрос: что движет миром? Каков источник идеалов и устремлений человеческих? От того, как ответить на него, зависит решение всех остальных социальных и нравственных вопросов жизни. Безотчётно Гончаров давно уже дал себе ответ. Теперь он высказывает его в ёмких и связных понятиях и, логически развивая их, рисует в письме к С. А. Никитенко своеобразную картину бытия, развёртывает целую теорию чувств, влечений и страстей человека. Он убеждён, что господствующим началом в человеке, в природе, в мироздании является «всеобщая, всеобъемлющая любовь» "и что именно она «может двигать миром, управлять волей людской и направлять её к действительности» (9, 8, 347). По наблюдению В. И. Мельника, «интеллигентское отторжение Церкви и «грубых попов» Гончаров в конце жизни сознаёт как болезнь времени и личности. Романист прежде всего сам уже живёт иной религиозной жизнью, более непосредственной, с некоторыми максималистскими запросами, присущими сугубо русскому Православию. Изменится и религиозная жизнь его героев в последнем романе» (118, 67). Вера в Бога, полагает Гончаров, есть высшее выражение любви, связь земного существа с «мировой силой» и «мы, несмотря ни на какой разврат мысли и
сердца, не потеряем никогда этого таинственного влечения» (9, 8, 348). То же начало - и в земной, прекрасной любви, «где взаимная симпатия даёт жизни свет и тепло» (9, 8, 348).
В свете этих взглядов Гончарова вполне естественно, что категория любви занимает центральное положение в романе «Обрыв». Любовь предстаёт здесь во всех своих ипостасях - от святых, самых возвышенных до самых обыденных, даже низменных своих проявлений. Любовь к Богу, любовь к родине, любовь к ближнему, любовь к своему делу, любовь материнская (в данном случае у Бабушки), любовь дочерняя и сыновняя, любовь-дружба, половая любовь - все эти разновидности любви составляют спектр значений, включаемых ёмким понятием «любовь». По наблюдениям В. И. Мельника, «испытание любовью - самое сильное испытание в системе нравственных ценностей Гончарова» (123, 65).
Закон любви, по Гончарову, един и всеобщ, он действует и на высших ступенях^ духовности, и в обыденных отношениях. Отклонения от него, которыми полна жизнь, не отменяют самого закона, а свидетельствуют лишь о несовершенстве человека. Где нет любви, там есть неразвитость сердца и ума, что порождает в людях безразличие к ближнему, или ненависть, или безудержную эгоистическую страсть, а следствие всех этих отклонений от закона любви - бесчисленные уродства в личности и ненормальности в обществе. Следование закону - естественная норма и залог приближения человека и общества к идеалу совершенства, который писатель неизменно связывает с приближением к евангельскому эталону человека. В «Предисловии к роману «Обрыв»» Гончаров пишет: «Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания» (8, 6, 509 ).
Вот, собственно, основная мысль «Обрыва», которую Гончаров стремится утвердить и доказать средствами романа, отстоять в споре с «отрицательным направлением», с поборниками «разумного эгоизма», с вульгарно-материалистическим подходом к человеку. Как пишет В. И. Мельник, «Гончаров первым в русской литературе открыл тему позитивистского сознания и первым же вынес этому одновременному сознанию свой приговор, противопоставив ему любовь, которая даже в «Обыкновенной истории» понимается не только как отношения полов, но и как универсальное мироотношение, что получит развитие в «Обрыве» (123, 63). Кстати, Тургенев в «Отцах и детях» пойдёт по тому же пути, да и вся русская литература противопоставляла позитивистскому рационализму одно и то же - любовь как принцип жизни.
Роль важнейших аргументов в споре Гончарова с этикой позитивизма исполняют два образа - Вера и Волохов. За этими фигурами у Гончарова скрываются, с одной стороны, частные лица, а с другой - в какой-то мере типичные представители определённых групп общества, то есть за каждым из героев в романе встаёт духовная вертикаль.
Марк - нигилист-шестидесятник, «представитель ... новой лжи» (8, 6, 471), которая, по словам Гончарова, «к несчастью, гнездится» (8, 6, 471) рядом с новой правдой. Современная писателю критика обвиняла романиста в анахронизме, проявившемся в образе Марка. Действительно, Волохов -революционер-демократ 60-х годов, а между тем действие романа происходит ещё при крепостном праве, в начале 50-х. Но Гончаров допускает это совмещение несовместимого с определённой художественной задачей: «чтобы показать глубину отклонения современной ему русской действительности от основного русла, Гончарову пришлось в романе уплотнить времена, столкнуть новое явление, свойственное эпохе 60-х годов, с такими старыми формами жизни, которые ещё не расшатались, а были сравнительно самодостаточными и устойчивыми. Такое старое помогало писателю отчётливее и яснее оттенить в
современной жизни катастрофическое отклонение её от корневых национальных основ, обнажить все опасные разрывы и обрывы» (100, 33).
Нападки радикальной критики на Гончарова были связаны также с тем, что революционеры-демократы не хотели признать в Волохове себе подобного, видя в нём злобную карикатуру на молодое поколение. Несоответствие Марка типу радикала 60-х годов тоже художественно мотивировано: оно предусматривалось самим замыслом романа. Гончаров принципиально не конкретизировал тип своего нигилиста, не привязывал его к той или иной партийной доктрине. Писателю гораздо важнее было уловить в Волохове родовую черту радикала, типичную для всех эпох русской жизни и обращенную не только в прошлое, но и в грядущее. В «Предисловии к роману «Обрыв» Гончаров подчёркивает вневременной характер образа Марка: «Такие личности были и будут всегда, такие вожди появляются по временам и в другой среде, именно в народе. Одни из них фанатики, другие плуты. Не поняв или исказив умышленно смысл Священного писания, они создают какой-нибудь догмат и несут свою проповедь в тёмные углы, первые - руководствуясь горячечным порождением своей фантазии, а вторые - для эксплуатации народной простоты, и часто успевают. В о лохов не лжёт умышленно у меня в романе, а сам грубо обманывается на свой счёт, считая себя борцом, жертвою, важным агитатором, намекая таинственно на какое-то дело, какой-то легион новой силы, которого не было, искренне воображая, что за ним вслед его пропаганде идут целые толпы» (8, 6, 499).
Вера воплощает в «Обрыве» всё молодое поколение русских людей, знаменуя историей своего увлечения и «падения» трудный и извилистый путь молодой России, подверженной множеству ошибок и искушений в переломные моменты своей истории. Д. С. Мережковский назвал Веру «идеальным воплощением души современного человека» (127,). И сам Гончаров, настаивая на обобщённом звучании этого образа, пишет: «пала не Вера, не личность, пала русская девушка, русская женщина жертвой в борьбе старой жизни с новою...» (8, 6, 474).
Однако образ Веры - не просто идея. Фигура её убедительна психологически, полнокровна, жива. Образ Веры Гончаров считал главной задачей и душой своего романа, без которой он не мог бы состояться. В иерархически выстроенной романистом экспозиции видов любви и женской красоты 'одухотворённому облику христианки Веры отведено вершинное положение. Характер Веры окончательно раскрывается и завершается в напряжённых перипетиях её взаимоотношений с Марком, обретающих в соответствии с гончаровской концепцией любви и семьи смысл мировоззренческого поединка двух правд - подлинной и мнимой. Для Веры (и для самого Гончарова) любовь - прежде всего долг, духовно-нравственный и взаимно ответственный союз мужчины и женщины, а не животная страсть, как для нигилиста Волохова. Это обстоятельство и позволяет писателю естественно сочетать в облике своей героини черты вполне реальные с идеальными, даже символическими, предопределёнными вторым значением её имени: вера в совершенство евангельских заветов, вообще христианского миропонимания. И это метафорическое звучание имени главной героини не случайно, ведь весь роман «Обрыв» посвящен «защите морального кодекса христианства» (124, 52). В последнем гончаровском романе мы наблюдаем не ведомый ранее автору драматизм. Тема любви трагически переплетается с темой бездуховности и религиозной веры. Слишком явной была для Гончарова угроза разрушения многовековой русской цивилизации и культуры, слишком очевидно в 60-е годы зашатались основы всей русской жизни.
Хранительницей этих основ в «Обрыве» является Бабушка. Родство её фамилии - Бережкова - с глаголом «беречь» указывает на основную функцию этого образа в романе - хранить многовековые основы христианской нравственности, и одновременно это намёк на устойчивые жизненные берега. Не случайно и имя героини: в переводе с греческого Татьяна означает «устроительница». Татьяна Марковна - рачительная и радушная хозяйка. Под её присмотром усадьба Малиновка превращается в райский уголок, напоминающий о ветхозаветном Эдеме. Так же, как и в Вере, в этой героине
конкретные черты совмещены с обобщёнными: Бабушка олицетворяет собой патриархальную Россию, её православно-христианскую нравственность. В знак этого Татьяна Марковна у Гончарова - настоящий кладезь тысячелетней народной мудрости. Она «говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости» (8, 6, 467), ссорится за них с Райским, и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам. Кажется, что жизнь для бабушки проста, ответы на все вопросы она черпает в проверенной веками мудрости предков. Она не набожна, но нормы православной морали для неё святы, непререкаемы. С первых же страниц знакомства с Бабушкой читатель ощущает, что за соблюдением внешнего ритуала жизни, за готовой народной мудростью в этой женщине скрывается собственная, усвоенная годами и опытом мудрость, какая-то недюжинная внутренняя сила. Эта-то сила и позволяет Бабушке вынести обрушившуюся на Малиновку беду и извлечь отчаявшуюся Веру из бездны на свет божий, для новой, счастливой жизни.
В 1869 году в «Вестнике Европы» началось печатание «Обрыва». С января по май в каждом номере появлялась очередная часть романа, вызвавшего восхищение, недоумение, раздражение, гнев, насмешки.
Читавшая роман публика не писала статей и рецензий, о её отношении к «Обрыву» приходится судить по разбросанным в письмах и воспоминаниях откликам да ещё по знаменательному, редкому в журнальной практике факту -стремительному росту числа подписчиков у «Вестника Европы»: за весь предыдущий год их число составило 3700, а в 1869 г. уже к маю набралось 5200. Так наглядно выразился острый и широкий интерес читателей к «Обрыву». Его не объяснить антинигилистической направленностью романа (она была давно уже не новость для публики). Никак нельзя сказать и того, что не было тогда других достойных такого же внимания произведений: ещё свеж был в памяти и продолжал обсуждаться «Дым» Тургенева, не успело забыться «Преступление и наказание», а следом, в 1868 г., вышел «Идиот», несколько
глав которого допечатывались в феврале 1869 г.; появилась «Жертва вечерняя» П. Д. Боборыкина, новые вещи А. К. Толстого, А. Н. Островского; наконец, продолжал публиковаться роман «Война и мир» - одно из главных литературных событий конца 60-х гг.
И тем не менее на «Обрыв» накинулись с жадностью. М. М. Стасюлевич рассказывал Гончарову, что едва наступит первое число, как за книжкой «Вестника Европы» с раннего утра, «как в булочную», толпами ходят посланные от подписчиков.
Столь нетерпеливое любопытство объяснялось не в последнюю очередь занимательностью романа. Гончаров на этот раз намеренно строил повествование так, чтобы заинтриговать читателя, привлечь внимание к главной героине, связав с ней ряд неожиданных событий, резких, внезапных перемен в ходе действия и в судьбах персонажей.
Однако критика встретила появление «Обрыва» далеко не так восторженно, как читательская публика. Здесь следует оговориться, что на момент выхода в свет «Обрыва» общественное состояние было уже не то, с каким совпало триумфальное появление в печати «Обломова», когда огульного отрицания прекрасного в искусстве ещё не было высказано. «Но именно с 1858 г., - отмечает В. Азбукин, - общество наше стало жить жизнью лихорадочною, типы старого времени стушевались, на сцену выступили явления более болезненного характера, нежели типично-нормального. Жизнь шла шибко, и писатели нарождались целыми массами, но всё более мрачные, озлобленные обличители, которые требовали для своих мрачных героев не критики, а прямого уголовного суда для. воздаяния за претерпленные от них народом муки и вековые оскорбления. Так же смотрела на свои задачи и тогдашняя публицистическая боевая критика. Самое слово «искусство» было проклято как занятие аристократов и сытых людей ...»(19,139)
На романе Гончарова сполна отразились все приметы тогдашней неблагоприятной для творчества обстановки. Он сразу же по выходе подвергся ярым нападкам со стороны радикально настроенной части критиков и
литераторов, прежде всего за попытку обличить новых людей и «сопоставить мыслящего разночинца как духовного и нравственного банкрота с консервативной мощью и красотою дворянской семьи» (19, 139).
Образ Волохова был расценен как злонамеренная карикатура на прогрессивных деятелей, как умышленное искажение новой правды, пасквиль на молодое поколение. Нанести удар по роману счёл необходимым М. Е. Салтыков-Щедрин и сделал это в статье «Уличная философия» сразу же по выходе последней части. Он решительно встал на защиту Волохова, признав его без всяких оговорок «образцовым представителем современного прогресса».
С высот того же «прогресса» и новейшего знания взглянул на «Обрыв» и Н. В. Шелгунов в статье «Талантливая бесталанность»: «Нам в 1869 г. рисуют людей, живших в 1837 году. К чему эти китайские тени? Детям они не нужны, взрослым - ещё менее. Никакой связи с современной действительностью, ни одного живого человека...» (43, 237). Далее критик делает ещё более резкий выпад в адрес писателя: «Гончарову кто-то наговорил, что завелись в России злодеи, и попросил принять против них литературные меры. И вот г. Гончаров уподобился молодому неразумному петуху, прыгающему со страху на стену. Страх большой, но действительной опасности не имеется: данных нет, факта нет, типа не существует. Для такого поверхностного таланта, как Гончаров, нужно, чтобы перед его глазами стояла готовая картина, а он её опишет действительно мастерски, во всех малейших подробностях. Но чтобы прозреть в будущее, чтобы заглянуть в самую глубину того, что шевелится на дне человеческой души, что происходит в его уме, что управляет его желаниями и стремлениями, - у Гончарова никогда не бывало силы» (43, 251).
Сто.ль же отрицательно восприняла революционно-демократическая критика и образ Веры. Придирчивые рецензенты не могли простить Вере то, что она пошла на компромисс со старой правдой, что она не подошла под идеалы эмансипированной женщины. Усилия критиков радикального лагеря были направлены на то, чтобы доказать фальшь, тенденциозность этого типа в
сторону старой правды и полное несоответствие его идеалу настоящей новой женщины. Тот же Шелгунов упрекает Гончарова в противоречивости этого образа: с одной стороны - Вера, «которую никто не понимает (даже бабушка, живущая с ней двадцать два года), Вера порыва, сосредоточенности, быстрых способностей, Вера сильного и самостоятельного характера, свободолюбивая и независимая»; с другой стороны - Вера «робкая, нерешительная, ищущая внешней поддержки и покровительства, спасающаяся в религиозном чувстве, боящаяся общественного мнения...». Весь ключ к объяснению этой раздвоенности критик видит в тенденции старой правды, старой морали. Под влиянием этой тенденции Гончаров «соткал Веру из газа, облаков, аромата цветов, красок радуги...» В такой интерпретации романа Вера признаётся чем-то средним между кисейной барышней и стриженой нигилисткой, псевдоновой героиней. Шелгунов пишет далее, что «она вовсе не умна», что «в ней преобладает в сильнейшей степени сердечный элемент, сентиментализм и въелись до мозга костей законы и правила степенного провинциального мира». Наконец, критик прямо называет Веру «зрелой девушкой, изнывающей в любовном мистицизме», и объясняет её падение тем, что она «находилась в аффектированном моменте непреодолимого намерения, вызванного физиологическими требованиями организма» (43, 259).
Выдумкой признал Веру, и А. М. Скабичевский. «Неужели, - возмущался критик, - наши Малиновки времён печальной памяти крепостного права производили такие удивительные нравственные продукты? И разве так относились наши барышни с развитием к новым учениям новых людей? Что же в этом сколько-нибудь схожего с действительностью? В Веру у Гончарова не перешло ни одной черты нашей русской жизни». Скабичевский склонен был поверить в какой угодно исход драмы Веры (до затворничества в монастырь и самоубийства включительно), только не в тот, который изображён в романе, где в конце концов «из Веры получается какая-то слюнявая девчонка, сблудившая по глупости и перепугавшаяся того, что она наделала» (43, 288).
Признав талантливой, эстетически совершенной форму «Обрыва», критики радикального направления отделяют её от содержания, то есть оставляют от романа ряд разрозненных описаний внешности, поступков, чувств людей, описаний вещей, природы, событий. Так, Шелгунов назвал свою статью об «Обрыве» и его авторе «Талантливая бесталанность», отметив, что со времён «Обыкновенной истории» «он (Гончаров - Н.Т.) ещё больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на почве сознательной мысли» (43, 236). «Все нынешние писатели, - продолжает Шелгунов, - имеют ещё нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу. У Гончарова нет ничего, кроме таланта. Он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник» (43, 235). И далее: «Главная сила таланта Гончарова - всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка. Он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств... В таланте г. Гончарова поэзия - агент первый, главный и единственный» (43, 236).
На талант Гончарова в изображении отдельных деталей указывал и А. М. Скабичевский, не видя в «Обрыве» единого целого: «Подражая герою романа Гончарова, Райскому, которому ежеминутно мерещились женские статуи, мы можем сравнить роман Гончарова с Венерою весьма оригинального свойства. Представьте себе статую, в которой художник обратил всё своё внимание на тщательное выполнение отдельных частей. Посмотрите, как нежно отделаны пальчики, обратите внимание на этот мизинчик: художник не забыл в нём каждой тончайшей жилочки,' каждая такая жилочка дышит, трепещет, и вы как будто видите кровь, переливающуюся под тонкой кожицею; а этот артистический носик, а смелый взмах высокого лба, - одним словом, на что ни взглянете, так и остаётесь прикованные к месту, словно каким-то волшебством. Но ведь искусство ваяния заключается не в одном художественном исполнении частей; а потому отойдём от статуи подальше и посмотрим, как соединяются части в одно целое. Отошли, посмотрели, и нам остаётся только вскрикнуть, -но не от эстетического восторга, а от ужаса: вместо лёгкой, грациозной Венеры
перед нами безобразное чудовище, в котором мы не можем разобрать, где руки, где ноги, где волосы; перед нами что-то несоразмерное, тяжёлое, как кошмар, и ежеминутно готовое повалиться всею своею массою. А между тем сквозь это безобразие не перестаёт мерещиться нечто совершенно иное. Вам постоянно чудится, что задумана была художником прелестная Венера, но впоследствии она была умышленно обезображена и обращена в чучело для того, чтобы охранять от хищных воробьев огороды, на которых произрастают невинные российские девы» (43, 277 - 278).
Но роман был не понят и критикой, близкой по мировоззрению самому Гончарову. Критики умеренно-либерального и консервативного направлений превозносили Гончарова как певца патриархальной жизни, талантливого бытописателя помещичьего уклада, прекрасного живописца, не видя глубинной авторской мысли, скрытой за его художественными образами.
Как ни странно, но современная Гончарову критика, наверное, и не могла воспринять его последний роман иначе, потому что «русская общественная мысль к концу 1860-х гг. в магистральном своём русле двигалась в направлении, диаметрально противоположном тому, по которому устремилась художественная мысль Гончарова. Дух «Обрыва», просвеченный насквозь христианской символикой, был просто неуловим для утратившей религиозный фундамент русской общественной мысли. ... Грандиозный храм, возведённый Гончаровым, можно было окинуть взглядом лишь с высоты православно-христианского миросозерцания. Критика, упавшая с этой высоты, способна была разглядеть лишь отдельные фрагменты его вне их связи с архитектурной идеей целого» (100, 7).
Однако приземлённо-бытовое понимание реализма Гончарова, хотя и изредка, но всё же перебивалось иными голосами. Пожалуй, одним из первых на символическую, философско-синтезирующую природу гончаровского таланта обратил внимание современник писателя, талантливый критик и литературовед В. В. Чуйко. Хотя первоначальным, исходным пунктом художественного осмысления жизни у Гончарова является непосредственное
наблюдение, писатель неизменно поднимается над ним к высотам творческого синтеза. И нельзя «не удивляться чрезвычайной, почти небывалой мощи этого синтеза, позволившего Гончарову соединять в одно все разнообразные явления, все видимые и неизбежные противоречия общества, находящегося в процессе развития» (177, 288).
Чуйко сравнивает роман Гончарова «Обрыв» с «Божественной комедией» Данте. Если поэма Данте - «величайший эпос средних веков», то «Обрыв» Гончарова - «эпос XIX столетия, в котором писателю удалось свести к одному окончательному синтезу всю историческую, государственную и общественную жизнь» своего времени. «Будучи оба символистами, они оба в то же время обладали всеми свойствами великих художников-портретистов: фигуры Данте, точно бронзовые статуи, до такой степени врезываются в память, что их невозможно забыть; это великий знаток души человеческой и великий изобретатель людей. Но разве не подобное же впечатление оставляет Гончаров?.. И гончаровские фигуры стоят перед нами, как бронзовые статуи, несмотря на неподвижность, в них кипит жизнь, совершаются душевные процессы. Но в гончаровском творчестве всё-таки поразительнее всего символизм. Благодаря этому символизму индивидуальные черты его фигур мало-помалу сглаживаются, теряют свои очертания, и, вместо живой картины, является какое-то туманное, выдвинувшееся вперёд, аллегорическое изображение философских взглядов автора на смысл русской жизни, на характер её логики; и эту логику, этот смысл он усматривает в одной и той же фигуре, которая, различно освещаемая жизнью, принимает различные формы». Символизация и аллегория у Гончарова «касается не отвлечённых понятий, а живых явлений». И когда приём аллегории встречается с таким «высокохудожественным анализом подробностей, с таким редким талантом тонкой и проницательной наблюдательности, с таким чарующим чувством пластической красоты, с таким благородством воззрений и, в то же время, с такой твёрдостию понимания», то этот приём превращается в явление «чрезвычайно замечательное и остающееся на вечные времена украшением
истории всемирной литературы. Гончаров догматизирует и морализирует, но в то же время и отражает жизнь глубоким проникновением в её тайны, глубоким пониманием её смысла» (179, 289).
На синтезирующую природу реализма Гончарова вслед за Чуйко обратил внимание Д. С. Мережковский. В известной статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» он писал: «Каждое его произведение - художественная система образов, под которыми скрыта вдохновенная мысль. Читая их, вы испытываете то же особенное, ни с чем не сравнимое чувство широты и простора, которое возбуждает грандиозная архитектура, - как будто входите в огромное, светлое и прекрасное здание. Характеры - только часть целого, как отдельные статуи и барельефы, размещённые в здании, - только ряд символов, нужных поэту, чтобы возвысить читателя от созерцания частного явления к созерцанию вечного. Способность философского обобщения характеров чрезмерно сильна в Гончарове; иногда она прорывает, как острие, живую художественную ткань романа и является в совершенной наготе: например, Штольц - уже не символ, а мёртвая аллегория. Противоположность таких типов, как практическая Марфенька и поэтическая Вера, как эстетик Райский и нигилист Волохов, как мечтательный Обломов и деятельный Штольц, - разве это не чистейший и притом непроизвольный, глубоко реальный символизм. Сам Гончаров в одной критической статье признаётся, что бабушка в «Обрыве» была для него не только характером живого человека, но и воплощением России. Вспомним ту гениальную сцену, когда Вера останавливается на минуту перед образом Спасителя в деревянной часовне и тропинкой, ведущей к обрыву, к беседке, где ждёт её Марк Волохов. Вера, как идеальное воплощение души современного человека, колеблется и недоумевает, где же правда - здесь, в кротких, строгих очах Спасителя, в древней часовне, или там, за обрывом, в злобной, страшной и обаятельной проповеди нового человека? И такого поэта наши литературные судьи считали отживающим типом эстетика, точным, но неглубоким бытописателем помещичьих нравов! Но когда от реалистической критики, от столь
прославленных ею бытовых комедий и романов не останется ни следа, произведения Гончарова, мало понятные в наш век, возродятся в полной, идеальной красоте» (127, 18, 221-222).
Интерес к «Обрыву» снова вспыхивает к 1912 году, когда отмечалось столетие со дня рождения И. А. Гончарова. И вновь возникли те же точки зрения на роман, что и сорок с лишним лет назад, сразу по выходе его из печати: левое крыло критики категорически не приняло образов Марка и Веры, а более умеренные круги продолжали видеть в произведении лишь летопись русской патриархальной жизни. Так, К. Головин прямо называет «Обрыв» «бытовым романом».
В. Азбукин, обобщая критические отзывы об «Обрыве» к моменту столетия Гончарова, пишет: «Из этого обзора современных мнений об «Обрыве», так же как и из обзора старой критики, получается тот же самый вывод о недостаточной критической оценке романа, об отсутствии всесторонней, исчерпывающей историко-литературной характеристики произведения, соответствующей его высокому общественно-историческому и художественному значению» (19, 49).
В советском литературоведении последний роман Гончарова долгое время преимущественно ' замалчивался. Это вполне объяснимо идеологическими причинами. Роман признавался реакционным, считался плодом мировоззренческого кризиса стареющего писателя, который вдруг повернул назад от прогрессивных взглядов, высказанных им в «Обыкновенной истории» и «Обломове».
С середины XX века взгляд на «Обрыв» несколько меняется: в романе признали произведение, обладающее большой художественной ценностью. Появляются исследования, посвященные «Обрыву» (правда, чаще всего они входят в монографии, освещающие весь творческий путь Гончарова). К числу наиболее авторитетных литературоведов, внёсших больший или меньший вклад в изучение «Обрыва», можно отнести П. С. Когана, Н. К. Пиксанова, А. Г. Цейтлина, Н. И. Пруцкова, Ю. М. Лощица и др. Но литературоведы
ограничиваются, как правило, освещением творческой истории «Обрыва», особенностями мастерства Гончарова как писателя-реалиста, рассмотрением концепции искусства по Гончарову, а также большое внимание уделяется анализу основных образов произведения.
Таким образом, понимание «Обрыва» на протяжении многих десятилетий оставалось весьма ограниченным, как, впрочем, и взгляд на всё художественное наследие Гончарова, писателя и мыслителя. Как в дореволюционном, так и в советском литературоведении Гончарова вообще было не принято относить к категории мыслителей. Причисляя его к писателям-реалистам, литературоведы по преимуществу видели в его произведениях прежде всего отражение вещного мира и человека как продукта социальных отношений. Немногочисленные труды, касающиеся духовных проблем гончаровского творчества, далеко не исчерпывали темы. Здесь можно упомянуть одинокие голоса Р. В. Иванова-Разумника, В. П. Острогорского, Д. Н. Овсянико-Куликовского, Я. Н. Титарева (дореволюционный период), Н. И. Пруцкова (советское литературоведение). Но в работах этих исследователей лишь в самом общем виде затронута проблема отражения в творчестве Гончарова его духовно-нравственных и религиозно-этических воззрений. Следует отметить опубликованную за рубежом статью В. И. Ильина (71), в которой автор поднял ряд вопросов, принципиально важных для понимания художественной мысли писателя. Среди них особое значение'имеет вопрос о недостаточном осмыслении обломовщины - явления более религиозного, нежели социального, по мнению Ильина, отражающего прежде всего духовную болезнь современников романиста.
За последние два десятилетия подход к изучению наследия Гончарова в значительной мере изменился. Всё более возрастает интерес к духовно-нравственной проблематике творчества писателя, кардинально меняются представления о масштабности и глубине его художественного мышления. Значительный вклад в новую трактовку гончаровского творчества внесли Ю. В. Лебедев, Ю. М. Лощиц, В. И. Мельник, В. А. Недзвецкий, Е. А. Краснощёкова, В. Н. Криволапов, В. Н. Тихомиров и др. Компактный, но весьма
содержательный обзор новинок гончарововедения, включающий периферийные и малотиражные издания, представлен в журнале «Новое книжное обозрение» Д. П. Баком (26). Не без сожаления приходится вслед за автором обзора констатировать тот факт, что сегодня исследование гончаровского наследия нельзя отнести к числу процветающих отраслей историко-литературной науки. Круг исследователей, постоянно занимающихся гончарововедением, весьма не широк.
Тем не менее все современные гончарововеды признают важность духовно-нравственного подхода к изучению творчества Гончарова. В этом ключе настоящим открытием стала монография В. И. Мельника «Этический идеал И.А. Гончарова» (123), автор которой утверждает и доказывает следующий тезис: «Главное своеобразие художественного мышления Гончарова определяется его попытками органично совместить христианскую и античную, воспринятую в традициях Просвещения, этику...» (123, 41). Исследователь рассматривает мировоззренческую позицию Гончарова в контексте философско-этических взглядов писателей-современников - Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Так, В. И. Мельник отмечает, что характерный для Гончарова синтез античной и христианской этики был не приемлем для Достоевского и Л. Толстого (123, 39). «В античности, - пишет исследователь, -мы видим принципиальное единство красоты и нравственности - калокагатию. Для Гончарова как наследника просветительской мысли Шефтсбери, Винкельмана и др. это навсегда останется аксиомой. Для Толстого, напротив, понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему. Гончаров привносил в понимание евангельского идеала Толстого и Достоевского мысль о динамике реального его достижения через плавный ход исторических процессов. ... Толстой и Достоевский гораздо более глубоко размышляют о конечном идеале человечества, в то время как Гончаров здесь абсолютно не оригинален и довольствуется традиционными представлениями о евангельских заповедях. Зато конечный идеал, к изображению которого
тяготеют авторы «Сна смешного человека» и «Воскресения», неизбежно утопичен, оторван от реальности» (123, 39).
Большинство исследователей, занимающихся творчеством Гончарова, уделяют внимание рассмотрению литературного и общекультурного контекста, легко угадывающегося в произведениях писателя. В. А. Недзвецкий говорит о целесообразности такого подхода применительно к романам Гончарова: «...результативным способом выявления поэтического подтекста в гончаровской прозе стала едва ли не уникальная по интенсивности оснащённость её повествовательной ткани прямыми или косвенными аналогиями и параллелями с образами и мотивами литературы и искусства русских (от народного эпоса, скульптуры классицизма, стихов Пушкина, Лермонтова до живописи А. Иванова, композиций стихов А. К. Толстого, Ф. Тютчева, романов Л. Толстого) и западноевропейских (от мифологии, философии и пластики античности, легенд и коллизий Нового завета, творчества Шекспира, Гёте, Байрона до романов Жорж Санд, Ж. Жанена, Бальзака, Диккенса). Многообразное взаимодействие персонажей и ситуаций Гончарова с этим историко-литературным контекстом не только высвечивает для читателя их потенциальные смыслы и обертоны (иронические, комические или, напротив, высоко драматические, трагедийные), но и позволяет им раздвинуть свою временную и социальную определённость до общечеловеческой семантики» (133, 108).
В связи с изменением целостного подхода к изучению творчества Гончарова в последние полтора десятилетия изменился и взгляд на роман «Обрыв». Последний роман писателя вызывает всё больший интерес у гончарововедов, выходя из тени незаслуженного забвения. Тенденция такова, что «Обрыв» чаще всего рассматривается в контексте всего гончаровского творчества. Такой подход вполне оправдан, поскольку сходство проблематики, многих тем, мотивов, сюжетов и художественных образов во всех трёх романах писателя сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Да и сам романист признавался, что видит «не три романа, а один. Все они связаны одною общею
нитью, одною последовательною идеею - перехода от одной эпохи русской жизни ... к другой» (8, 6, 449). Однако в исследовании «Обрыва» принимается во внимание и ещё один контекст - литературный. «Этот роман, - отмечают В. И. и Т. В. Мельник, - наиболее литературное произведение романиста. Создаётся впечатление, что вся мировая литература и культура зримо присутствуют в «Обрыве», поясняют авторскую мысль, характеристики героев, придают произведению масштабность и силу художественного обобщения» (123, 48). Действительно, ещё никогда Гончаров не пытался выйти на такой уровень обобщения, на изображение таких идеальных образов, как в своём последнем романе. В этой связи писатель, как за опорой, обращается к двум извечным общечеловеческим архетипам: античной языческой мифологии и христианству, за счёт чего роман приобретает глубокий символический смысл. Постижение этого символического смысла сегодня признаётся одной из главных задач изучения «Обрыва», и гончарововеды, исследуя роман с различных сторон, каждый в отдельности и все вместе решают, в сущности, одну эту задачу.
Но, несмотря на возросший в последние годы интерес к «Обрыву», в исследовании романа до сих пор остаётся немало белых пятен. В частности, таким пробелом всё ещё остаётся мифологический подтекст романа, который вскрывается на уровне выявления в художественной ткани произведения античных и христианских мотивов. Без .тщательного исследования обозначенных мотивов в романе, без выяснения и анализа их роли, их взаимосвязей с другими темами и мотивами «Обрыва», на наш взгляд, невозможно проникновение в тайну последнего гончаровского романа, в сущность авторского замысла, скрытую за внешними бытовыми образами и коллизиями. Решению этой важной задачи и посвящено настоящее исследование.
Гончаров, пожалуй, глубже всех других русских писателей воспринял наследие античности, впитал в себя как в человека и художника некоторые принципы античной этики. Не случайно античные.традиции так ощутимы в его
произведениях, античные сюжеты и образы играют в них не последнюю роль. Особенно сильна античная тема в «Обрыве», итоговом романе Гончарова, создававшемся в переломные для России годы. В последнем романе писатель, ещё любуясь наследием античности, во многом пересматривает и корректирует своё отношение к нему. Звучание античных мотивов в «Обрыве» уже получило некоторое освещение в современной научной литературе. Однако этот аспект романа рассматривался до сих пор фрагментарно, оставляя широкий простор для дальнейшей разработки. Следует здесь назвать монографию В. И. и Т. В. Мельник «И. А. Гончаров в контексте европейской литературы» (123), где авторы некоторым образом касаются звучания античных мотивов в романе «Обрыв» (как, впрочем, и в других романах писателя). Эта же тема фигурирует и в монографии В. И. Мельника «Этический идеал И.А. Гончарова» (122). Античные аллюзии, к которым прибегает автор «Обрыва», эскизно намечены и в статье Ю. В. Лебедева «Художественный мир романа И.А. Гончарова «Обрыв» (100). Но названные работы далеко не исчерпывают темы. Подвергалась рассмотрению и христианская символика «Обрыва». Наиболее полно, думается, она анализируется в упомянутой статье Ю. В. Лебедева (100), но нельзя обойти вниманием и ряд статей В. И. Мельника, опубликованных в журнале «Русская литература» в 90-е годы XX века, а также главы, посвященные «Обрыву», в монографии В. А. Недзвецкого «И. А. Гончаров -романист и художник» (133). Тем не менее перечень христианских образов и мотивов «Обрыва», рассматриваемый в указанных работах, может быть дополнен.
Но если античные и христианские мотивы романа «Обрыв» в отдельности друг от друга и получили некоторую трактовку в гончарововедении, то исследования, сводившего бы воедино две эти категории, две мощные традиции, нет до сих пор. Восполнить этот пробел в осмыслении последнего гончаровского романа призвана настоящая работа.
Цель данного диссертационного исследования, таким образом, -рассмотреть и проанализировать диалог, в который вступают между собой в романе И.А. Гончарова «Обрыв» античные и христианские мотивы.
На пути достижения обозначенной цели нами вычленен ряд задач, позволяющих поэтапно осветить указанную научную проблему:
Рассмотреть античную символику в ранних произведениях Гончарова («Обыкновенная история», «Письма столичного друга к провинциальному жениху», «Сон Обломова», «Фрегат «Паллада», «Обломов»).
Выявить в художественной ткани романа «Обрыв» античные мотивы.
Определить идейный смысл, который несут в себе античные мотивы в «Обрыве».
Проследить, как меняется авторское отношение к Античности в «Обрыве», по сравнению с предыдущим творчеством.
Рассмотреть христианские (библейские) мотивы, сюжеты и образы, используемые в «Обрыве».
Определить функции христианской символики в романе.
Выявить роль христианских мотивов в осмыслении идейно-художественного смысла «Обрыва».
Проанализировать взаимосвязь античных и христианских мотивов в тексте романа.
Выявить художественные функции и задачи обозначенного диалога.
Актуальность данной работы определяется рядом предпосылок, среди которых, исторические, связанные с современным состоянием России и всего человечества в целом, а также собственно научные, касающиеся непосредственно развития истории русской литературы XIX века как отрасли знания.
История России последних десятилетий, представляющая собой бесконечную череду различного рода потрясений, заставляет задуматься о причинах такого положения дел. Сегодня перед мыслящими людьми, населяющими нашу страну, всё острее встаёт вопрос об утраченных за годы
советской власти духовных основах бытия. Следствием этой утраты является низкий уровень нравственности в обществе, отсутствие прочной морали, приоритеты индивидуального над интересами страны, межнациональные конфликты, разгул насилия, бесчеловечности и т. п. В такой ситуации всё более актуальным становится обращение к классической литературе - носительнице и проповеднице духовно-нравственных начал, вечных общечеловеческих и православно-христианских идеалов. В этой сокровищнице духовности не последнее место принадлежит и произведениям И. А. Гончарова. Обращаясь к ним, человек, перешагнувший в третье тысячелетие, может найти для себя причины противоречивости частной и общественной жизни, может быть, уловить пути выхода из кризиса. И в этом смысле роман «Обрыв» занимает совершенно особое положение среди всего классического наследия: пожалуй, трудно найти во всей литературе XIX века другое произведение, столь явно корреспондирующее с современной действительностью. Наш интерес к Гончарову вообще и к роману «Обрыв» в частности объясняется тем, что мы сегодня оказались перед необходимостью решения тех проблем, от которых зависит будущее России. Российский народ стоит перед лицом серьёзнейших угроз самому существованию нашей национальной культуры. Но ведь в подобных условиях и в противостояние им создавался и роман Гончарова «Обрыв». Не надо даже особенно вдумываться в историю, чтобы понять, насколько переломная эпоха середины XIX столетия сходна с сегодняшней ситуацией в России. Проблема поглощения и растворения русской православно-христианской цивилизации в активно наступающей западноевропейской, столь волновавшая писателя, сегодня является в России одной из самых сложных и актуальных.
Гончарова не принято причислять к провидцам и пророкам (как Ф. М. Достоевского), однако его прозрения, выраженные в «Обрыве», обрели полное подтверждение в трагическом опыте русской истории двадцатого столетия.
На наш взгляд, постижение религиозно-символического смысла романа «Обрыв» способно в определённой мере помочь разобраться в проблемах и
противоречиях современности. А постижение этого смысла немыслимо без обращения к античным и христианским параллелям, имеющим место в романе. Этим обстоятельством и может быть обусловлен, с одной стороны, выбор темы данного исследования. С другой же стороны, разработка обозначенной темы имеет и собственно научное значение. Она позволяет в некоторой степени восполнить те пробелы, которых, к сожалению, ещё немало в понимании творчества Гончарова, а через это восполнение будет, бесспорно, обогащаться и сумма знаний о русской литературе в целом.
Объектом настоящего исследования является роман И. А. Гончарова «Обрыв», предметом - античные и христианские мотивы, звучащие на его страницах.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые так детально и пристально анализируются античные и христианские мотивы. На страницах настоящей работы мотивы эти впервые рассматриваются на фоне звучания друг друга. Автором диссертации подробно рассматривается оппозиционный характер античной и библейской мифологии, что до сих пор оставалось вне поля зрения гончарововедов.
Теоретическая значимость данной работы связана прежде всего с теми перспективами, которые открывает разработка обозначенной темы. Анализ античных и христианских мотивов в романе «Обрыв», их противостояния -огромный шаг на пути постижения подлинного смысла последнего гончаровского романа. Кроме того, это выход к пониманию мировоззренческой позиции автора, к философскому характеру его творчества. Эти заключения поднимают статус Гончарова как художника и как мыслителя.
Методологическая сторона работы связана с использованием трёх методов исследования: мифопоэтического, историко-функционального и историко-генетического.
Основным методом научного исследования в работе является мифопоэтический. Именно посредством использования этого метода решаются главные задачи, ведущие к достижению цели исследования. В частности,
реализация мифопоэтического метода в работе связана с выявлением в художественной структуре романа «Обрыв» античных и христианских мотивов, с наблюдением за их развитием, переплетением и противостоянием в произведении. Сам факт использования писателем того или иного мифа уже привносит в произведение определённые смыслы, рождает определённые ассоциации. Вскрыть эти смыслы и их семантические варианты помогает именно мифопоэтический метод, который позволяет изучить поэтику использования мифологических образов в произведении, выявить их содержательный смысл.
Вспомогательными методами исследования в работе являются историко-генетический и историко-функциональный. Реализация историко-генетического метода связана с освещением творческой истории романа. «Обрыв» создавался на протяжении двадцати лет. За это время в русской жизни произошло немало изменений; происходившие вокруг Гончарова противоречивые события влияли на мировоззрение писателя. Таким образом, замысел «Обрыва» постоянно менялся под воздействием меняющихся взглядов автора на жизнь.
Применение историко-функционального метода исследования обусловлено необходимостью рассмотреть отношение критиков и литературоведов к последнему роману Гончарова на протяжении всей истории его существования - с момента первого появления в печати и до наших дней.
Античная тема в произведениях И.А. Гончарова 1840-х — 50-х г.г.
Первый роман И. А. Гончарова - «Обыкновенная история» - писался в середине 40-х годов. Античный фон в нём не слишком заметен, встречаются лишь некоторые общекультурные планы и аллюзии. Так, например, Александр Адуев, поступив служить, отметил про себя как главную черту канцелярского быта строгую иерархичность, которую он иначе как с иронией при его романтических воззрениях воспринимать не может. Отсюда пародийная аллюзия: иерархия канцелярская сравнивается с иерархией богов-олимпийцев: «Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно Юпитер-громовержец; откроет рот - и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет, руку с бумагой - и десять рук тянутся принять её» (8, 1, 115). На этажерке в комнате Александра стоит бюстик Софокла или Эсхила, сделанный из итальянского алебастра.
Есть в «Обыкновенной истории» и ещё один герой - муж Юлии, -который тоже оказался «причастен» к античной культуре. Он вспоминает: «И я когда-то учился. Помню, учили и по латыни, и римскую историю» (8, 1, 261). Его рассуждения о возможности брака с Юлией с опорой на мысль «и я когда-то учился» представляются не совсем натуральными. «Очевидно, - пишут В. И. и Т. В. Мельник, - романист преследовал какую-то свою цель, вставляя их в своё произведение, - и далее высказывают предположение: - Видимо, он часто встречал в своём чиновничьем кругу образованных людей, когда-то, на школьном уровне, изучавших римскую историю, но совершенно не понимающих, зачем нужно античное наследие в нормальной современной жизни» (124, 26). Будущий муж Юлии Тафаевой размышляет так: «Да ведь ей-Богу, затем и учат, чтобы забыть. Ну, вот хоть зарежь меня, а я говорю, что вот и этот, и тот, все эти чиновные умные люди, ни один не скажет, какой это консул там... или в котором году были олимпийские игры, стало быть, учат так... потому что порядок такой! чтоб по глазам только было видно, что учился. Да и как не забыть: ведь в свете об этом уж потом ничего никогда не говорят, а заговори-ка кто, так, я думаю, просто выведут» (8, 1, 261).
Те же ульяновские исследователи, В. И. и Т. В. Мельник, высказывают любопытное мнение: «Гончарова, судя по всему, весьма интересовал вопрос, какое место занимает античность в духовном и интеллектуальном мире современного образованного человека» (124, 26). Недаром писатель возвращается к этому вопросу и в своих воспоминаниях «В университете», и в «Литературном вечере». Но впервые этот вопрос поставлен именно в «Обыкновенной истории», и, думается, не случайно. Сам роман в значительной степени стал ответом писателя на свой вопрос. Нельзя не согласиться с ульяновскими гончарововедами в том, что «...Гончаров ... органично, как, может быть, ни один из его современников в русской литературе, усвоил не столько определённый объём знаний об античности, сколько самые принципы античного мышления, античное мировосприятие» (124, 27).
Один из этих принципов - принцип «золотой середины» - проявился уже в первом романе Гончарова. В своём стремлении осмыслить жизнь через пластическую красоту писатель неизбежно восходит к античным принципам меры, гармонии, равновесия, симметрии, ведь именно античность обозначила идеальную красоту как «удаление от крайностей», как чувство меры во всём: «Требование меры в удовольствиях, в поведении в целом стало одной из нормативных установок античной этики» (124, 27).
Принцип «золотой середины» - пожалуй, важнейший в античной этике. Его провозглашали ещё Солон («Ничего слишком»), Креобул («Умеренность люби») и другие философы из числа «семи мудрецов». Демокрит также говорил, что «прекрасное во всём - середина», ему чужды как изобилие, так и недостаток (цит. по: 124, 37).
Наиболее обстоятельно о принципе «золотой середины», свидетельствующем об эстетическом подходе к этическим проблемам, сказано в «Никомаховой этике» Аристотеля. В этом труде следующим образом определяется нравственная добродетель: «...нравственная добродетель состоит в обладании серединой и... это обладание серединой между двумя пороками, один из которых состоит в избытке, а другой - в недостатке» (1, 4, 92). Философ учит, что «избыток и недостаток гибельны для совершенства, а обладание серединой благотворно» (1, 4, 86).
В персонажах «Обыкновенной истории» (а позднее и двух других гончаровских романов) каждое свойство характера доведено до крайности. Так сказывается на героях дисгармония общества, несовершенство их воспитания и даже национальный характер, о чём романист также, несомненно, размышлял. Елизавета Александровна в «Обыкновенной истории» рассуждает о том, что она является свидетельницей «двух страшных крайностей» в племяннике и в муже: «Один восторжен до сумасбродства, другой ледян до ожесточения» (8, 1, 208).
Автор романа ищет «золотую середину», как искали её философы и художники античности. Именно этим принципом руководствуется Гончаров в подходе к нравственным проблемам в своих романах. Едва ли не каждый из его главных героев, с которыми он связывает постановку важнейших вопросов бытия, существует в произведении не только и не столько сам по себе, сколько в паре с другим персонажем, причём оба выражают в своём характере определённые крайности - «избыток» или «недостаток», говоря словами Аристотеля. Так, у Александра Адуева обнаруживается «гибельный» избыток сердца, воображения, чувства, в то время как у. его дяди, напротив, явный недостаток всего этого.
Метод «идеальной середины», которым пользуется Аристотель, был, вероятно, не только типологически близок Гончарову, но и известен. Во всяком случае в статье «Лучше поздно, чем никогда» писатель делает такое сравнение Пушкина с Аристотелем: «В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все роды и виды искусства во всех наших художниках, как в Аристотеле крылись семена, зародыши и намёки почти на все последовавшие ветви знания и науки» (8, 6,454).
Античные мотивы в романе «Обрыв»
Ни один из романов И.А. Гончарова не насыщен античными аллюзиями в такой степени, как «Обрыв».
С античной мифологией читатель встречается уже на первых страницах романа. В главах, рисующих взаимоотношения Райского и его кузины Беловодовой, легко угадывается реминисценция древнегреческого мифа О Пигмалионе и Галатее. Читателю предлагается ещё один (кроме представленного в «Обломове») гончаровский вариант интерпретации этого вечного сюжета. Прежде чем обратиться к пигмалионовскому мифу в «Обрыве», следует кратко напомнить сам древнегреческий сюжет.
Пигмалион - художник, скульптор. Презирая падших женщин низкой действительности, он создаёт из слоновой кости статую нимфы Галатеи. Его творение оказалось столь прекрасным, что скульптор вскоре влюбляется в собственное произведение, и это ведёт за собой страдания безответной (что естественно) любви. В конце концов Афродита, богиня любви и красоты, сжалилась над несчастным и оживила его статую. Галатея рождается к жизни невинна, как ребёнок, но с телом прекрасной взрослой женщины. Пигмалион, таким образом, имел возможность, во-первых, воплотить свой физический идеал женщины, её форму, а во-вторых, создать её внутренний облик. Вылепив её тело, он может приступить к духовному оформлению своей возлюбленной и тем самым создать во всех отношениях такую женщину, какую рисовало его воображение.
Вполне очевидно, что с Пигмалионом в «Обрыве» прежде всего ассоциируется Райский, Галатеей же в первой части романа является Софья Беловодо-ва. Правда, герой-художник не властен над физическими формами привлекающей его женщины, но он охотно довольствуется поклонением тому внешнему совершенству, которое дано возлюбленной от природы. Зато на внутренний мир интересующей его женщины Райский посягает весьма решительно, порой даже с некоторой бесцеремонностью.
Софья действительно очень напоминает Галатею. Сходство с нею начинается уже с внешнего облика Беловодовой: Софья в романе постоянно сравнивается со статуей, что подчёркивается автором при описании её внешности. Сходство Софьи со статуей возникает благодаря её ничем невозмутимому спокойствию, холодному, чуть надменному безразличию к жизни. Райскому (да и читателю) часто кажется, что перед ним не живая женщина, а холодная статуя, причём статуя олимпийской богини, что ещё больше усиливает впечатление пушкинской строки, характеризующей Софью: «Выше мира и страстей».
Образ Софьи Николаевны вырисовывается перед читателем в общих чертах ещё до встречи с ней самой, из разговора Райского с Аяновым. Борис Павлович сетует приятелю, имея в виду Софью: «Не знаю, что у неё кроется под этим спокойствием, не знаю её прошлого и не угадываю её будущего. Женщина она или кукла, живёт или подделывается под жизнь? И это мучит меня видишь эту женщину? и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам? ... Ты на их лицах мельком прочтёшь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли: ну, словом, - движение, жизнь везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на неё... А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита - ничего! Сияет и блестит, ничего не просит и ничего не отдаёт!" (8, 5, 13)
Уже из этих слов Райского у читателя появляется первое представление о Софье. Это женщина, обладающая редкой, совершенной красотой. Но её красота - холодная, застывшая, статичная, неживая - красота статуи, на лице которой не отражается ни тени чувства, ни единого движения жизни, словно неведомый античный скульптор запечатлел в мраморе лишь одно мгновение жизни этой женщины.
Далее сравнение Софьи с прекрасными произведениями искусства прежних веков и в том числе с античной статуей звучит уже совсем открыто: «Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз. В другой вечер он увидел её далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице - и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках. Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть её мысль, душу, всё, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия, он ничего не прочёл. Она казалась ему всё той же картиной или отличной статуей музея» (8, 5, 22). Затем в беседе с Беловодовой Райский уже прямо сравнивает её со статуей Венеры Милосской, с головками Грёза, с женщинами на картинах Рубенса. Наконец, видя, что его пылкие речи не производят на Софью желаемого им впечатления, Райский восклицает: «Нет, не отжил ещё Олимп! ... Вы, кузина, просто олимпийская богиня.. Вы не удостаиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живёте олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию...» (8, 5, 32).
Но «мраморная» красота Софьи не таит в себе притворства или высокомерия, её спокойствие не напускное. Райский не перестаёт удивляться, как эта светская красавица, вращающаяся в петербургских кругах, среди искушённой молодёжи, бывшая замужем и успевшая овдоветь, сохранила почти детскую чистоту, невинность, абсолютное неведение жизни. И в этом ещё одно сходство Софьи с Галатеей. Душевный мир той и другой -своеобразная tabula rasa, открытая для педагогического творчества влюблённого мужчины, задавшегося целью воплотить свой идеал женщины.
Тема искушения в романе
Наряду с античными, ключевую роль в «Обрыве» играют библейские (христианские) мотивы, которые создают и поддерживают символический подтекст романа. На христианской символике держится всё художественное целое «Обрыва» (его композиция, идейный смысл), ей так или иначе подчинены и сюжетное движение, и образы главных героев, а также многие мельчайшие детали произведения. С другой стороны, во многом именно благодаря этим отдельным деталям и возникает религиозно-символический подтекст последнего романа И. А. Гончарова.
Строго говоря, вся основная сюжетная линия романа, связанная с трагическим опытом Веры, развивается в ключе ветхозаветного предания о грехопадении первых людей, нарушивших запрет Бога и изгнанных за это из Эдема. Действительно, центральная символика «Обрыва» основывается на реализации в тексте романа атрибутов и семантики рая, а также связанных с ним мотивов искушения и грехопадения: в романе «Обрыв» нетрудно заметить своеобразные аналогии ветхозаветным образам: есть в нём и благодатное место, весьма похожее по описанию на Эдем, есть и змей-искуситель (даже не один), и подвергшаяся искушению женщина.
Общеизвестно, что библейский образ рая - сад, в котором пребывают Бог и первые люди. Обратимся к соответствующему месту из Ветхого Завета: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. (Бытие, 2, 8-Ю) И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Бытие, 2, 15-17).
Несомненно, что именно к этому источнику в первую очередь обращался Гончаров. Однако только библейской традицией не исчерпывается как семантика образа рая, которую он приобрёл за тысячелетия жизни в человеческой культуре, так и оттенки значений этого образа в романе. В частности, в мифах и мифологических представлениях разных этносов, в том числе и славян, мы обнаруживаем богатейшую палитру значений интересующего нас образа. Рай - блаженное царство «вечной весны, неиссякаемого света и радости», «блаженное царство вечного лета» (23, 1, 93).
В труде Афанасьева указывается, что «Рай, лат. paradizus, фр. paradis -всюду служат для обозначения сада, и многие живописные, цветущие местности в немецких и славянских землях получили название рая, парадиза. Словаки и хоружане рассказывают, что рай есть чудесный неувядаемый сад, находящийся во владениях бога света, где праведных ожидает бесконечное наслаждение...» (23, 2,73). .
Афанасьев также говорит о двойственном характере представлений о рае. «Во-первых, - пишет исследователь, - раем называется та счастливая страна минувших веков, в которой обитали первые, ещё невинные люди, не зная никаких трудов и горестей, и которую утратили они под влиянием нечистой демонической силы (= зимы); во-вторых, это - будущее царство блаженных, которое явится по кончине вселенной... В этом обновлённом царстве, украшенном неувядаемыми цветами, полном неиссякаемого плодородия, боги (по сказанию Эдды) обретут свои золотые столы и вслед за тем водворится общая беспечальная жизнь. Вера в грядущий рай стоит в теснейшей связи с преданием о былом «золотом» веке, когда люди пользовались невозмутимым счастием, когда реки текли для них млеком и мёдом, а деревья приносили им плоды, дающие молодость и бессмертие» (23, 2, 78 — 79).
Усадьба Райского Малиновка нарисована Гончаровым во многом с опорой на общечеловеческую традицию понимания рая. Действительно, Малиновка под заботливым присмотром бабушки превращается в кусочек обетованной земли. «Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке!..» (8, 5, 60) -восторгается автор романа вслед за юным Борисом, приехавшим после долгого отсутствия в родное имение. И в самом деле, описание жизни в Малиновке напоминает об утраченном рае: «Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросавшиеся в глаза, пятна; около тычинок вились турецкие бобы. Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник... на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтоб дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна. Около дома вились ласточки, свившие гнёзда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щёлкали соловьи. Двор был полон всякой домашней птицы, разношёрстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козёл с двумя подругами. ... Над цветами около дома реяли пчёлы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке, кошки, котята. В доме какая радость и мир жили!» (8, 5, 61-62)
Чудесный сад Татьяны Марковны - значимый символ в романе. В противоположность обрыву (см. параграф 2.2), сад символизирует благополучие жизни, её нерушимость и неизменность, охраняемые заветами и усилиями Бабушки. Не случайно всё в описании бабушкиного сада напоминает рай - лучшее место на Земле, которое Бог дал нашим прародителям. В райском мире, ещё не замутнённом грехопадением, люди жили в постоянном и тесном общении с Богом, возделывая дарованную им землю обетованную, где не было ни губихельных страстей, ни страха, ни смерти, ни воздыханий и печали. Природа райского сада ласкала первых людей теплом, светом и довольствием, щедро расточая свои дары. Растения, птицы и животные не знали раздора и вражды и были в полном подчинении у человека, доверчиво признавая в нём своего хозяина.
Так и в Малиновке птицы как бы приручены человеком: ласточки доверчиво вьют гнёзда на кровле, двор полон всякой домашней птицы. Мир Малиновки во многом ещё хранит следы жизни до грехопадения. Всё в этом маленьком царстве дышит счастьем, покоем, довольствием, всё обращено к человеку и одомашнено. Люди здесь живут в гармонии с природой и самими собой.
Мотив грехопадения как основной библейский мотив романа
Как уже отмечалось (см. введение), в процессе двадцатилетней работы над своим третьим романом Гончаров, размышляя над проблемой, занимавшей его в то время, несколько раз менял заглавие («Художник», «Художник Райский», «Вера») и, завершая наконец произведение, остановился на названии «Обрыв». Обрыв - слово-символ, которое верно, отражает не только драму, пережитую героиней романа Верой, но и настороженное отношение автора к ситуации в современной ему России.
Используя библейский прототекст (см. параграф 2.1,), Гончаров по-новому ставит и по-новому решает вопрос об искушении и грехопадении. «Сюжет реализует мотив «падения» именно как трудный путь женщины в поисках потерянного рая, - пишет А. Молнар, - и её падения толкуются не как возможные ошибки на этом пути, а как необходимые моменты в сложном процессе искушения, падения, возрождения и спасения человека» (130, 124).
Использование писателем архетипа рая обогащается тем, что уже в идиллическом описании Малиновки начинают звучать тревожные нотки, выбивающиеся из общего гармонического хора. Разительный контраст с залитыми солнечным светом маленьким домиком и садом образует старый дом в глубине двора, который посреди всего этого цветущего великолепия выглядит, как «бельмо в глазу», - «мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжёлыми дверьми, замкнутыми тяжёлыми задвижками...»(8, 5, 61). Читателя не может не настораживать и ещё один диссонирующий с общей гармонией райской обители момент, - обрыв, которым заканчивается бабушкин сад, с жутковатым преданием о нём в Малиновке и во всём околотке: «Там, на дне его, среди кустов, ещё при жизни отца и матери Райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался, один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления» (8, 5, 74). До сих пор ходят слухи, что убийца временами «весь в белом, блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает» (8, 5, 74). Эта давняя история звучит в романе как предупреждение заносчивому Райскому и гордой Вере - всем молодым героям романа, утратившим, по выражению Ю. В. Лебедева, «христианский инстинкт самосохранения» (100, 18), забывшим о трагических последствиях распущенных человеческих страстей.
Обрыв - один из наиболее значимых в романе образов, о чём свидетельствует уже тот факт, что он положен в заглавие произведения. Причём у Гончарова слово «Обрыв» имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно используется в своём прямом, конкретно-предметном значении: «Крутой откос по берегу реки, краю оврага» (187,437). С другой стороны, обрыв - это метафора, наполненная глубоким символическим смыслом. В заглавии романа, на наш взгляд, отразилось именно это, непрямое, метафорическое значение слова «Обрыв», восходящее к евангельской притче об исцелении гадаринского бесноватого: «И прибыли в страну гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он (Иисус) на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, сын Бога всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его... Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же, на горе, паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с обрыва в-озеро и потонуло» (Лука, 8, 26-33).
Приведём в связи с этой легендой слова ростовского иеромонаха Амфилохия: «Спасительный путь труден, поелику он ведёт в гору, а живущие по страстям идут под гору» (163, 6). Эти слова вполне могли бы стать эпиграфом к последнему гончаровскому роману, поскольку в них, по сути, заключено зерно произведения.
Приведённые цитаты помогают постичь тот символический смысл, который скрывается за гончаровским понятием «Обрыв». В противоположность образу райского сада, символизирующему благополучие, мирное и правильное течение жизни, обрыв выступает символом разрыва связей между людьми, их трагического пути в стремлении к счастью, а в более широком, обобщённом смысле - символом трагической участи, гибели, неизбежно грозящей молодому поколению русских людей, если оно, в гордом самоослеплении иллюзией новых понятий о свободе и счастье, будет продолжать своё движение по пути, ведущему от традиционных принципов морали, от тех православно-христианских ценностей, на которых держалась русская жизнь на протяжении многих столетий.
Метафоричность образа обрыва всё более усиливается по мере развития действия, а следовательно, с каждым упоминанием об обрыве в романе всё больше нарастает предощущение катастрофы, которая неминуемо должна разразиться над обитателями Малиновки. Интересно, что два значения слова «Обрыв» (прямое и переносное) в произведении тесно слиты, обрыв на страницах романа всегда выступает сразу в обоих значениях. Причём с первого взгляда может показаться, что речь идёт о реальном обрыве (том, который тянется за садом на полверсты вдоль берега Волги), но рядом с прямым значением неизменно присутствует и другой, метафорический смысл этого образа, который легко чувствуется в контексте всего романа. Как отмечает в своей статье «Художественный мир романа И.А. Гончарова «Обрыв»» Ю. В. Лебедев, именно «на этой игре прямых и переносных значений, на сдвиге быта в бытие держится весь образный мир романа» (100, 19).
С образом обрыва в роман Гончарова входит мотив грехопадения -главный, на наш взгляд, христианский мотив произведения. Так, не где-нибудь, а именно в беседке на дне обрыва происходят встречи Веры с Марком, и там же проходит их последнее, роковое свидание, когда Волохов одерживает свою кратковременную победу над обессиленной внутренней борьбой Верой.