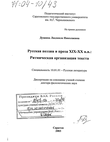Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Автобиографический герой раннего творчества Аполлона Григорьева 37
Глава 2. Автобиографический герой Аполлона Григорьева и герои Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева 78
Глава 3. Автобиографический герой позднего творчества Аполлона Григорьева 141
Заключение 193
Библиография 197
- Автобиографический герой раннего творчества Аполлона Григорьева
- Автобиографический герой Аполлона Григорьева и герои Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева
- Автобиографический герой позднего творчества Аполлона Григорьева
Введение к работе
В последнее время наблюдается повышение интереса к личности и творчеству Аполлона Григорьева. Если в предреволюционный и советский периоды наследие Григорьева, его критика, поэзия, проза и биография изучались, в основном, изолированно, то теперь назрела необходимость их комплексного исследования. Свидетельство тому — появление серьезных монографий (С.Н.Носов, Б.Ф.Егоров, Р.Виттакер).
Феномен Григорьева - в неразрывной связи его произведений и личности их автора. Одной из основных характеристик его творчества является автобиографизм, что отмечают многие исследователи (А.А.Блок, В.А.Княжнин, Р.В.Иванов-Разумник, П.П.Громов, Б.Ф.Егоров, В.П.Раков, А.И.Журавлева).
Формулировка «автобиографический герой Аполлона Григорьева», являющаяся темой и проблемой нашей работы, приобретает статус понятия и имеет синтетический характер. Мы в него включаем образ автора (по М.М.Бахтину: «автор - носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его» ), собственно героя текста и писателя как реально существовавшей личности. Таким образом, автобиографический герой Григорьева находится на границе собственно художественного пространства текста и реальной действительности.
Теоретически такой подход обусловлен концепциями М.М.Бахтина («Автор и герой в эстетической деятельности»), Г.О.Винокура, устанавливающего связь жизни автора и его произведений, утверждающего ценность биографии как культурно-исторической проблемы2, Л.Я.Гинзбург, исследовавшей соотношение между концепцией личности, присущей данной эпохе и социальной среде, и художественным ее изображением , Ю.М.Лотмана, ставившего проблему соотношения семиотической системы текста и «вне-системы», мира, лежащего за ее пределами4.
Литературная ситуация 40-х-50-х годов 19 века характеризуется процессом становления героя художественного произведения, начатого в 20-е-ЗО-е годы Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым. Столкновение романтизма и натуральной школы оказывало влияние на этот процесс. Появление новых имен: Фета и Некрасова - в поэзии, Тургенева, Писемского, Герцена, Гончарова, Достоевского, Толстого - в прозе, Островского - в драме -предполагало широкий спектр возможностей для «героя времени»5. В этом контексте творчество и личность Аполлона Григорьева уникальны.
Григорьев соединил в себе три творческих ипостаси: критика, поэта и прозаика. Он писал об искусстве, сам являясь художником, понимая на собственном опыте хрупкость и ценность истинного творчества. Для Григорьева непреложной точкой отсчета был литературный факт. А.И.Журавлева в статье «"Органическая критика" Аполлона Григорьева» пишет: «Как-то Григорьев сказал о Пушкине, что ему была присуща «религиозная боязнь солгать на народ». Самому Григорьеву была присуща такая же боязнь солгать на искусство. Живой факт искусства - это самое главное, самый неопровержимый, не допускающий ни отмены, ни замалчивания аргумент»6.
Цельность художественных принципов писателя обусловлена не только «органичностью» его наследия, но и созданным им явлением «автобиографического героя», понятием, которое объединило «я» критики и писем, героя его прозы и лирического героя стихотворений и поэм. Специфичность понятия «автобиографический герой Григорьева» состоит и в сочетании творческих ипостасей с «целым» автора и самой личности писателя, принадлежавшей конкретной эпохе.
Трудность исследования такого рода пограничного, расположенного между литературой и действительностью явления состоит в необходимости соблюдения баланса между описанием конкретного факта биографии и его преломления в творчестве. Нас интересует становление григорьевского героя в жизни и произведениях, при этом первичным является сам художественный текст. Между автобиографическим документом, который в чистом виде представляет собой письмо, и «лирическим дневником» «последнего романтика» в прозе и стихах, конечно, существует дистанция.
Автобиографический герой Аполлона Григорьева, являясь предметом нашего исследования, находится в ряду «героев времени», созданных современными писателю авторами.
Методологически исследование сочетает в себе комплексный подход: текст анализируется с точки зрения влияния на него биографии Григорьева в контексте социально-исторической действительности, но также рассматриваются и собственно имманентные характеристики произведения -проблема жанра, уровень композиции и языковые средства.
За почти полтора века в изучении творчества и личности Аполлона Григорьева было сделано немало. Первым рецензентом григорьевских стихотворений был В.Г.Белинский, чей отзыв на сборник 1846 года, несомненно, заслуживает внимания. На этот отзыв так или иначе ссылаются все исследователи поэзии Григорьева. Это объясняется тем, что Белинский, провозгласив, что Григорьев «не поэт, вовсе не поэт», тем не менее дал проницательный и в итоге сочувственный анализ стихов тогда еще начинающего и никому неизвестного автора. «В его стихотворениях прорываются блестки поэзии, но поэзии ума, негодования. Видишь в них ум и чувство, но не видишь фантазии, творчества, даже стиха... В лиризме же его стих прозаичен, негладок, нескладен, вял»7. Конечно, парадоксально то, что Белинский с его верным эстетическим чутьем не угадал в Григорьеве лирика, а понял только «протест».
«...пафос лиризма г. Григорьева однообразен и не столько л и ч е н, сколько эгоистичен, не столько истинен, сколько заимствова н». Заимствован, по мнению Белинского, у Байрона и Лермонтова. Тут критик отчасти прав. Действительно, ранние стихи Григорьева во многом лермонтовские. Интересно то, что впоследствии Григорьев в своей критике сам будет осуждать лермонтовское направление в литературе, как будто вторя своему учителю, каковым он считал Белинского. Надо оговорить, что и Белинский, и Григорьев под «лермонтовским направлением» подразумевали эпигонов поэта, их враждебное к ним отношение не распространялось на самого Лермонтова.
Белинский также упрекает Григорьева в том, что он «певец вечно одного и того же предмета - собственного своего страдания». И далее: «В наше время о страдания нипочем, - мы все страдаем наповал, особенно в стихах» . И тут Григорьев-критик в москвитянинский период пойдет вслед за Белинским, иронизируя и над избытком «страданий» у современных ему поэтов, и над собой в молодости.
Белинский признает, что Григорьев - не поэт, «но глубоко чувствует и многое глубоко понимает, это иногда делает его поэтом». Критик выделяет «прекрасное стихотворение» «Город», где как раз, как нам кажется, очень сильно социальное негодование в духе лермонтовской «Думы» или «Как часто, пестрою толпою окружен...».
Нужно сделать вывод, что Григорьев-критик через несколько лет (в москвитянинский период) услышит Белинского и будет вторить ему по поводу лермонтовского направления, расплодившихся печориных и т.п. Однако в стихах он станет замечательным лириком, тем самым опровергнув своего учителя. Впрочем, до зрелых произведений Григорьева Белинский не дожил.
Особое значение в контексте нашей проблемы имеют воспоминания о Григорьеве современников - А.А.Фета, Н.Н.Страхова, Ф.М.Достоевского, А.П.Милюкова, П.Д.Боборыкина, К.Н.Леонтьева. Воспоминания Фета «Ранние годы моей жизни» касаются студенческих лет Григорьева. Фет жил в доме Григорьевых, и его впечатления от совместного существования с «Полошенькой» (так Григорьева звали родители) проясняют нам обстоятельства юности писателя.
Фет вспоминает Григорьева как прилежного и послушного студента и сына, хотя и тяготящегося «домашней догмой», однако будившего родителей прекрасной игрой на фортепьяно и подставлявшего голову под материнский гребень. «Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались учиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Иппокрену»9. Фет называет литературные имена, вызывающие интерес юношей, - Гюго, Ламартин, Бенедиктов, Шиллер, Гете и потом - Байрон, Лермонтов, Гейне.
В воспоминаниях Фета создается образ вдумчивого, мечтательного, скромного юноши Григорьева, который в чем-то совпадает с другими воспоминаниями современников, а во многом им противоречит. Знаменитого «буйного» и «неуравновешенного» Григорьева нет в фетовском повествовании.
Дополнением к воспоминаниям Фета можно считать его рассказ «Кактус», где описывается уже «взрослый» Григорьев с неизменной гитарой, цыганским пением и в русском наряде. Образ кактуса, расцветающего только на одну ночь и наутро уже увянувшего, параллелен григорьевской «метеорской» судьбе.
Воспоминания Н.Н.Страхова, опубликованные после смерти Григорьева в «Эпохе» в качестве комментария к оренбургским письмам критика Страхову, рисуют портрет уже зрелого писателя. Страхов познакомился с Григорьевым в последний период его творчества, у них возникла взаимная симпатия. Григорьев называл своего юного друга и коллегу «Горацио», естественно, себя ассоциируя с Гамлетом. Страхов включается в эту литературную игру: эпиграф к его воспоминаниям - строчка из шекспировской трагедии («Горацио! ты все ему расскажешь»). Страхов характеризует Григорьева как человека, у которого личные интересы никогда «не стояли на первом плане», «не занимали главного места в душе». Страховский Григорьев - «урожденный критик, для которого критика была естественною потребностью и прямым назначением жизни»10.
Мемуарист объясняет психологический склад Григорьева, его наклонность к «безобразию» (так сам критик называл запои) стремлением к недостижимому идеалу. Григорьев «был человек в высокой степени напряженный... хотя в то же время совершенно искренний»". Григорьевскую восторженность и высокопарность Страхов объясняет «силой чувства, поэзией, пониманием».
Он признает, что Григорьев не был «деятелем», не был хорошим проводником своих убеждений. Тем самым Страхов присоединяется к спору между критиком и Ф.М.Достоевским. Но цель мемуариста - это своего рода апология, оправдание Григорьева от тех нападок, которые обрушивались на писателя при его жизни. «Конечно, может иногда быть, что человек нарочно дразнит себя ужасами, нарочно возводит свое положение в трагическое. Но тот глубоко ошибся бы, кто захотел бы видеть в Григорьеве только одно желание порисоваться... Григорьев слишком горячо любил, слишком глубоко понимал все то, за погибель чего боялся. Его страх был страх действительной, не напускной любви, следовательно был настоящим страданием» . Мемуары внутренне диалогичны, каждая реплика - ответ на возможное обвинение.
Страхов выстраивает несколько идеализированный образ (отчасти Гамлета, отчасти Дон-Кихота - вполне в согласии с личной мифологией самого Григорьева), который во многом противоречит опубликованным письмам, где Григорьев не скрывает своих симпатий и антипатий, нападает и на журнал «Время», и на его издателей братьев Достоевских.
Не случайно сам Ф.М.Достоевский опубликовал свое примечание к воспоминаниям Страхова. В нем Достоевский был более сдержан, отметил, что «Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен, и порывист, как страстный поэт»13. Однако Достоевский отдает покойному коллеге должное, говоря о его сходстве с Гамлетом (включаясь, соответственно, в игровой диалог Григорьева и Страхова), при этом замечая, что «тот был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, которые менее других и рефлектировали». Достоевский называет Григорьева «почвенным», «кряжевым» человеком, что в эстетике обоих писателей было, несомненно, достоинством. Достоевский характеризует писателя как «наиболее русского человека» по натуре «из всех своих современников».
Воспоминания А.П.Милюкова обрисовывают Григорьева как незаурядного критика. Милюков так же, как и Страхов, оправдывает Григорьева: «У него Григорьева было немало литературных противников, которые не умели или не хотели оценить его самобытного критического таланта... читая статьи, его нельзя было не видеть, что автор влагал в них всю свою душу, что его мысли и воззрения, говоря его собственными словами, были его плотью и кровью. С первого взгляда некоторые мнения его казались парадоксальными, но при внимательном изучении вы невольно сознавали их правдивость»14. Милюков, признавая творческие заслуги Григорьева, его самобытность как критика, говорит, как и другие мемуаристы, о его непрактичности, о том, что, будучи «совершенным поэтом романтической эпохи», он «не умел основательно позаботиться о своем материальном обеспечении».
В конце своих воспоминаний писатель рассказывает анекдот, связанный с очередным григорьевским загулом. Подобные «случаи из жизни» вспоминают многие мемуаристы, что свидетельствует не только о личности Григорьева, но и о восприятии его современниками. Даже самые доброжелательные из них (таким, несомненно, был Милюков) не могут удержаться от жанра анекдотического рассказа о григорьевских похождениях, который условно можно назвать потехинским.
Именно бывший сотрудник Григорьева по «Москвитянину» Н.А.Потехин в пьесе «Наши в Париже» вывел Григорьева под именем Аполлона Сергеевича Вагабундова, который пьет запоем, произносит речи о русском начале, творит всяческие безобразия. Интересно, что эта пьеса была опубликована в год смерти Григорьева. В нашей работе мы коснемся подобного восприятия Григорьева современниками.
Воспоминания П.Д.Боборыкина дают представление об отношении к Григорьеву литературной радикальной молодежи: «... на Григорьева многие смотрели вовсе не как на отсталого славянофила, а искренне верили в его освободительные стремления, в любовь к народу и к народности, в поэзию, ценили его стихотворные опыты, распевали даже одну смелую песнь, сложенную им»15. И опять в тоне мемуариста звучит оправдательная интонация, будто ответ на возможные упреки. Боборыкин считает своим долгом разрушить «образ Вагабундова» - «отсталого славянофила». Боборыкин пишет про «обширную европейскую начитанность» Григорьева, его подверженность «веяниям», повлиявшим на нас «вовсе не с востока, а с запада». Как и прочие, Боборыкин говорит о «прирожденном романтизме» писателя, о том, что он «ни в чем не знал меры». При своем в целом же жалеет о том, что «натура и разные умственные влияния не позволили ему доработаться в своей критической карьере до цельности мировоззрения, до органической полноты и последовательности, употребляя его любимый термин»1 .
Мы видим, что мемуары о Григорьеве носят характер «оправдательного документа», при этом даже самые доброжелательные современники не могут удержаться от замечаний в адрес уже покойного писателя. В их повествовании борются миф и реальность, как сказал бы Григорьев, «наносные начала» с «почвой». Все отмечают стремление писателя к истине, его служение литературе и «высшим интересам», однако ставшие притчей во языцех григорьевские противоречия, его безудержность во всем, стремление к тому, что он просто называл «жизнью», помогали лепить «образ Вагабундова».
«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве (письмо к Ник. Ник. Страхову)» К.Н.Леонтьева - своего рода итог к мемуарам о Григорьеве современников. Леонтьев, мало знавший писателя при жизни, встречавшийся с ним два раза за год до его смерти, пишет не столько о конкретной личности, сколько об образе, «русском лице».
Мемуарист сочувственно отзывается о критической деятельности Григорьева во «Времени», хотя и отмечает, что поначалу, в эпоху «Москвитянина», «слог его находил смутным и странным, требования его казались... слишком велики»17. Леонтьев замечает о григорьевской «ширине духа, с трудом вмещавшегося в слово». Так мемуарист объясняет непонимание критика литературной общественностью.
Говоря о «неясном идеале» Григорьева, Леонтьев вписывает свои «воспоминания и мысли» в контекст рассуждений о русском начале, о «безличности и царстве массы европейской, петербургской», об излишнем «пуританстве» славянофилов. В этом контексте личность Григорьева и его взгляды («для себя лично он предпочитал ширину духа - его чистоте», «художественно-русская душа», «широкие критические взгляды», «прекрасное в книге прекрасно и в жизни») становятся иллюстрацией к общественно-эстетической позиции самого Леонтьева.
Он сожалеет об отсутствии биографии писателя, говорит о том, что ему интересна и анекдотическая, бытовая сторона жизни каждой настоящей индивидуальности. О несчастливой семейной жизни Григорьева, его неустроенности, «скитальчествах» мемуарист говорит только намеками, не повторяя избитых фраз о григорьевских загулах. Однако автор утверждает: «Смесь пороков и благородства, смешных привычек с поразительными силами чувств и ума — сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость»18.
Мемуары Леонтьева пытаются быть объективными, но и в самой этой попытке продолжают традицию восприятия современниками и кладут начало пониманию потомками Григорьева, чей «идеал», по их мнению, «неясен» для толпы, для «многих», но своей «широтой» воплощает поиски русского начала.
До 1917 года о Григорьеве писали в основном как о критике. Статья Н.Н.Страхова, являющаяся предисловием к 1-му тому «Сочинений Аполлона Григорьева», вышедшего в Петербурге в 1876 году (первая, правда, неудачная попытка издания критического наследия писателя) интересна тем, что в ней выражен взгляд на писателя его друга и коллеги последних лет жизни. Автор статьи говорит об известности имени Григорьева, но одновременно замечает, что значение его - для многих, даже для огромного большинства, совершенно темно. Это объясняется малой доступностью для читателей григорьевских произведений. Страхов пишет о необходимости издания собрания сочинений Григорьева.
Разбирая критическую деятельность своего учителя, Страхов заявляет: «И в мышлении и в действительной жизни искусство было для нашего критика исходною точкою и окончательною поверкою»19. Автор пишет о неизменности идеала души человеческой для Григорьева, о любимом григорьевском понятии «цветная истина». Однако, излагая центральные идеи писателя, Страхов допускает некоторые натяжки. Так, он преувеличивает значение «смирного типа» и недооценивает значение «тревожного начала» для Григорьева, который в последний период своей деятельности пришел к осознанию баланса между этими антиномиями. Страхов высоко оценивает григорьевскую критику, приводит важный для григорьевской библиографии список журналов, в которых публиковались статьи писателя.20
Из предреволюционных изданий критики Григорьева нужно отметить Собрание сочинений в 14 томах под редакцией В. Саводника (М., 1915-1916), в котором критические тексты писателя были представлены достаточно полно, правда, редактор позволил себе их компилирование.
В 1916 году Александр Блок собрал и выпустил книгу стихов Григорьева, сопроводив издание собственным предисловием «Судьба Аполлона Григорьева». Эта статья нам интересна не только близостью к проблеме нашей работы (в ней автор исследует духовный путь писателя, связанный с его творчеством), но и личностью самого Блока - тоже «урожденного» поэта (если перефразировать Страхова). Описывая григорьевскую судьбу, Блок называет ее «необщей», за обстоятельствами биографии - «черты призвания», «бледное мерцание».
Как и многие позднейшие исследователи, Блок ключевым словом к григорьевскому творчеству называет «борьбу». «Борьба, борьба - твердит Григорьев во всех своих стихах, употребляя слово как символическое, придавая ему множество смыслов; в этой борьбе и надо искать ключа ко всем построениям Григорьева-мыслителя, который никогда не был дилетантствующим критиканом; то есть не «бичевал» никогда «темных царств», а боролся с ними; он понимал, что смысл слова «темное царство» -глубок, а не поверхностен (смысл не бытовой, не гражданский только). «Темное царство» широко раскинулось в собственной душе Григорьева; борьба с темною силой была для него, как для всякого художника (не дилетанта), -борьбою с самим собой» . Понятно, что Блок проецирует на судьбу Григорьева собственную, сожалея о нем как о близком человеке, что слишком много «наносного» было в «блудном погодинском сыне». В отличие от современников, Блок не укоряет и не защищает, он искренне страдает вместе с Григорьевым - сопереживает его несчастливой любви к женщине, его несчастливой любви к «почве», к России.
Со всеми издержками символистского толкования, которое не вполне неуместно по отношению к Григорьеву («Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, далекий зов; который был действительно одолеваем бесами, который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и «замолкших»; тоска и восторги которого были связаны не с одною его маленькой, пьяной, человеческой душой, - этот человек мог бы обладать иной властию» ) Блок создает, на наш взгляд, такой образ Григорьева, который во многом совпадает с его лицом («задуман был Григорьев высоко»).
Блок первый оценил по достоинству стихи Григорьева, писал, что для нас важно, об их исповедальности, отмечал, конечно, «Цыганскую венгерку» и другие произведения из цикла «Борьба». Обилие цитат из писем Григорьева тоже свидетельствует о том, что Блок считает его писателем исповедальным. Поэт говорит о современности Григорьева, сравнивает его творчество с «Опавшими листьями» Розанова («Читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые»24). Через полвека «ненужного человека», «последнего романтика» услышал еще один «романтик», «символист» (дело не в условных названиях). Блок чутче, чем современники Григорьева, прислушался к его словам. Описав григорьевскую судьбу, он заметил: «Никакой «иконы», ни настоящей, русской, ни поддельной, «интеллигентской» не выходит». Назвав Григорьева «единственным мостом», перекинутым «к нам» от Грибоедова и Пушкина, Блок не просто вспомнил и «похлопал по плечу» «одинокого критика», он отнесся к нему как к близкому ему человеку, поэту.
Сетования Блока и современников Григорьева на отсутствие биографии писателя привели к изданию в 1917 году в Петербурге книги «А.А.Григорьев. Материалы для биографии» под редакцией В.А.Княжнина. В сборнике были опубликованы «Мои литературные и нравственные скитальчества», некоторые письма, самая ранняя из известных рукописей Григорьева - «Отрывки из летописи духа», документы разных архивов, сведения о роде Григорьевых, аттестат Григорьева, неизданные письма разных лиц, имеющие отношение к Григорьеву (например, Фета к Полонскому). Проделан опыт краткой хронологической канвы для биографии Григорьева, приведена краткая библиография дореволюционных текстов о Григорьеве.
В предисловии Княжнин объясняет отсутствие «самой биографии писателя» недостатком материалов - в частности, отсутствием писем Григорьева к Островскому. Издатель также благодарит Блока, с которым «в год страдный и памятный» они «вместе учились любить А.А.Григорьева, "нашего современника"»25. В статье «А.А.Григорьев и Л.Я.Визард» Княжнин описывает их историю любви, связывает биографические обстоятельства с творчеством поэта, отмечает «Цыганскую венгерку». Таким образом, Княжнин своей книгой сделал существенный вклад в изучение биографии Григорьева.
Следующим шагом в издании Григорьева и опубликовании биографических документов стала книга Ап.Григорьева «Воспоминания», изданная в 1930 году Р.В.Ивановым-Разумником. Кроме собственно текста «Моих литературных и нравственных скитальчеств», в книге были напечатаны воспоминания Фета, Страхова, Достоевского, Леонтьева, Боборыкина, Милюкова (см. выше).
В статье Иванова-Разумника «Ап.Григорьев (вместо послесловия)» автор проводит интересные для нас параллели творчества Григорьева с его биографией. Исследователь отмечает автобиографичность в особенности раннего творчества Григорьева: «Без преувеличения можно сказать, что вся литературная работа Ап.Григорьева в течение трех его петербургских лет заполнена только воспоминаниями, только биографическим материалом в прозе и стихах»26. Иванов-Разумник проводит биографические параллели ранней лирики и художественной прозы Григорьева с его любовью к Антонине Корш, исследуются эпизод, связанный с «крестовой сестрой» Григорьева Лизой, дружба писателя с Фетом. Автор пишет и об автобиографизме цикла «Борьба» (любовь к Визард), очерка «Великий трагик». Для нашей проблемы особую важность имеет следующее замечание Иванова-Разумника: «Писателя более автобиографичного, чем Аполлон Григорьев - быть может, нет во всей русской литературе»27.
В советское время творчество Аполлона Григорьева изучалось в разных аспектах. Как и в дореволюционные годы, много писалось о критическом наследии писателя. В книге Л.А.Гроссмана «Три современника: Тютчев -Достоевский - Аполлон Григорьев»28 «органическая критика» Григорьева впервые рассматривалась как особый эстетический метод. Проблема романтизма в критике писателя освещалась в работах Д.Л.Азизова «Теория романтизма в эстетике Ап.Григорьева» . и М.Г.Годжаева «Проблема романтизма и реализма в эстетике Ап.Григорьева» .
Особо следует отметить статью Б.Ф.Егорова в подготовленной им в 1967 году книге Аполлона Григорьева «Литературная критика». Эта книга была первым наиболее полным советским изданием критического наследия писателя. Основным во вступительной статье Б.Ф.Егорова к этому сборнику является освещение вех творческого пути писателя. Важно такое замечание Егорова, когда он говорит о последнем этапе критика (60-е годы): «...не следует смешивать сознание Григорьева с революционно-демократическим. Значительно более четко, чем раньше, отделяя «народ» от «барства», пытаясь рассмотреть историю русской общественной мысли с точки зрения ее связи с народным мировоззрением, наконец оправдывая закономерность протеста, Григорьев тем не менее остается противником «чистого» отрицания, характерного якобы для всего «западничества», тем более - противником народной революции. «Протест» воспринимается как индивидуально-нравственный процесс, вне социального переворота»31. Замечательно тут отсутствие осуждающей интонации, принятой в советских исследованиях в случае, если предмет исследования не сочувствовал «революционным демократам».32
Следует также отметить оригинальную, но спорную концепцию В.П.Ракова. В контексте нашей работы важно замечание Ракова о синкретичности творчества Григорьева, о необходимости при его описании воссоздания «самого главного - целостности его личности». «Совмещение в одном человеке нескольких дарований делало Ап.Григорьева такой творческой натурой, которая не поддается каким-либо односторонним определениям и характеристикам ... Литературно-критические статьи Григорьева заряжены огромным философским и жизненным содержанием, а поэзия как творческий принцип пронизывает все элементы его теоретических построений»33.
Отталкиваясь от посылки о синкретизме метода Григорьева («все во всем»), Раков делает вывод о мифологическом мышлении писателя, которое подразумевает то, что творческий процесс понимается как всецело интуитивный, автор предстает как медиум, все предметы и объекты действительности одухотворяются, искусство «изоморфно» жизни. Отмечая «решающее значение» философии тождества для,формирования эстетической доктрины Григорьева, исследователь приходит к крайним выводам об абсолютном тождестве для писателя таких понятий, как «жизнь» и «искусство», «прекрасное» и «нравственное».
Самым спорным, на наш взгляд, является заявление Ракова об отсутствии в эстетике Григорьева «художнической и человеческой индивидуальности творца художественных произведений». При сознании «типового» в искусстве и жизни Григорьев писал и о конкретных воплощениях «мировых веяний» в индивидуальностях Гоголя, Островского, Тургенева, Пушкина, Шекспира, Гете. Кроме философии тождества Шеллинга, Григорьеву были близки взгляды Карлейля на роль гениальной личности в мире. Для писателя индивидуальность не растворялась во всеобщем, а сохраняла свою «самость». Раков создает яркую, но, как уже сказано, весьма спорную концепцию эстетики Григорьева. Таким образом, заявляя о необходимости «синкретического подхода», исследователь несколько односторонне воспринимает григорьевскую «органичность».
Статья А.И.Журавлевой «"Органическая критика" Аполлона Григорьева» ставит своей целью «выявить причины своеобразной позиции Григорьева в движении русской эстетической мысли... и увидеть в деятельности Григорьева то, что заставляет нас и сегодня заинтересованно обращаться к его эстетическому наследию»34. Аполлона Григорьева автор статьи относит к критической традиции Белинского, стремящегося «охватить литературу как процесс, каждое частное явление искусства рассматривать как явление общего движения литературы»35.
Большое место занимает раскрытие сущности шеллингианства и гегелевской философии в умственной биографии Григорьева. Журавлева говорит о необычной для философской системы поэтичности шеллингианства, что привлекало Григорьева. «Не целостная система, - пишет исследователь, - а усвоение и использование некоторых важнейших идей и понятий шеллинговской философии, не всегда вполне точно совпадающих по смыслу с первоисточником, или же вступающих в другие связи, прилагаемых к иным обстоятельствам, - вот что характерно для шеллингианства Григорьева»36. Григорьева волнуют идеи о месте искусства в универсуме, о соотношении искусства и морали, о двух типах познания (научном и интуитивном), об искусстве как высшей форме познания и воздействия на человека, о необходимости для художника нравственного идеала.
«Одним из парадоксов органической критики Григорьева, - считает Журавлева, - было то, что, опираясь на романтическую философию Шеллинга, русский критик, был одним из ярких теоретиков, защитников и ценителей реалистического искусства»37. Парадокс, по оценке исследовательницы, -кажущийся, которому она дает объяснение: художественная реальность (какую призвано отражать искусство) русской культуры середины XIX в. - бурный рост реалистической литературы, становление реалистического театра - «двух важнейших для Григорьева сфер искусства» - ставили его, со всеми романтическими чертами его миросозерцания, перед необходимостью осмыслить и обосновать в органической критике «безусловное бытие» этих новых реалистических явлений. Журавлева также пишет, что для нас важно, о жанровой синкретичности григорьевской прозы: «не то исповедь, не то роман, не то критическая статья»38. Автор статьи анализирует необычный стиль Григорьева-критика и логически «оправдывает» его сложности, непонятности, множество отступлений, повторений, пристрастие к неожиданным терминам.
Итак, исследователь устанавливает баланс в григорьевских «противоречиях», что отвечает, как нам кажется, художественной системе писателя.
Из написанного в советский период о поэтическом наследии Григорьева необходимо отметить статью Н.Л.Степанова «Аполлон Григорьев» в книге, являющейся первым изданием поэзии писателя. Автор статьи писал об особенностях «романтической» позиции поэта, но, естественно, там присутствовали издержки, связанные со временем написания статьи.
Также нужно сказать о статье П.П.Громова «Аполлон Григорьев». Остановимся на некоторых моментах концепции Громова. Ядром этой концепции является утверждение, данное в самом начале статьи: «В общественно-литературной борьбе он Григорьев - Е.Г. пытался занять особенную позицию: «возвыситься» над разными борющимися лагерями, найти некое «среднее», «объединяющее крайности» положение»40. Этот взгляд интересен тем, что многие исследователи как раз обвиняли Григорьева в излишних крайностях, доходящих в жизни до разгула, а в критике, например, до острых противоречий. Громов григорьевских противоречий не снимает, но для него очевидно, что Григорьев пытался примирить свои противоречия, отказываясь от революционной ломки и настаивая на «самосовершенствовании» каждой личности.
Проанализировав все шедевры григорьевского творчества (цикл «Борьба» - как и все исследователи, Громов в нем выделяет «Цыганскую венгерку»; поэму «Вверх по Волге»), Громов делает вывод о том, что Григорьев обнаруживает «полную несостоятельность своей общей теоретической концепции, полную нереальность идей «третьего пути» в большой общественной борьбе эпохи»41. И далее: в поэме «Вверх по Волге» - «крах представлений о возможности изменения общественных отношений путем самовоспитания личности». Мы не будем спорить с естественным для советского исследователя выводом. Однако Громов признает, что в конце концов поэт добился «единства поэзии и прозы, философии и жизненной реальности, психологии и быта»42. П.П.Громов также проводит ряд интересных параллелей (Григорьев и Лермонтов, Григорьев и Пушкин, Григорьев и Тютчев, Григорьев и Блок).
Содержательна статья Б.О.Костелянца - предисловие к книге Аполлона Григорьева «Стихотворения и поэмы»43. В статье исследователь прослеживает все три этапа творческого пути Григорьева. Костелянец справедливо указывает на центральную для Григорьева тему страдания и на превалирование частного над общим, вернее, на нерастворенность личного, индивидуального в общественном - всеобщей стихии.
Из работ советского периода о прозе Григорьева следует выделить статью В.В.Кудасовой «Проза Ап.Григорьева 40-х годов XIX века». Кудасова вписывает прозу в общий контекст творчества Григорьева. Исследовательница дает объяснение, что для нас важно, автобиографизму прозы писателя, указывая на то, что сам автор - тоже «личность типическая», «поэтому и она может стать объектом внимания автора, имеет право на художественную жизнь». И далее: «Отсюда особый характер автобиографизма Григорьева, в котором доминирующим является родственность духовная, а не близость житейских (биографических) деталей»44. Из этой очень важной и существенной посылки Кудасова делает вывод о прозе Григорьева как о своеобразном «ключе к расшифровке» лирики поэта. В самом деле, та автобиографическая и, если так можно выразиться, сущностно-духовная канва, данная в ранней прозе (неразделенная любовь к Антонине Корш), помогает глубже понять непосредственно стихи Григорьева этого периода.
Кудасова также отмечает тему двойничества и, как следствие, скитальчества, присутствующую в ранней прозе Григорьева и роднящую его с западноевропейской литературой (Гейне, Гофман) и русской (Гоголь, Достоевский). Вывод Кудасовой таков: «Верность жанру путевых заметок, дневников, так же как и герою-двойнику, Григорьев будет хранить до конца своего творческого пути - цикл «Одиссея о последнем романтике» («Venezia la bella», «Вверх по Волге», «Борьба», «Великий трагик»)»45. Таким образом, в выводе Кудасова устанавливает связь между ранним и поздним творчеством Григорьева, неразрывность которого - основная идея ее статьи.
Также нужно отметить книгу прозы Григорьева «Воспоминания»46, подготовленную Б.Ф.Егоровым. В этой книге были опубликованы «Мои литературные и нравственные скитальчества», ранняя романтическая проза -«Листки из рукописи скитающегося софиста», трилогия о Виталине, эссеистические очерки - «Гамлет на одном провинциальном театре», «Великий трагик» и др. В качестве биографического дополнения напечатаны письма Григорьева к отцу и М.П.Погодину, «Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям». В «Приложениях» опубликованы статья Егорова «Художественная проза Ап. Григорьева», статья Г.А.Федорова «Новые материалы о ранних годах жизни Ап. Григорьева», «Краткая летопись жизни Ап. Григорьева», составленная Егоровым.
Автобиографический герой раннего творчества Аполлона Григорьева
Ранний Григорьев - проблема, отчасти изученная в науке. В монографиях Р.Виттакера и Б.Ф.Егорова творчеству Григорьева 40-х годов посвящено несколько глав1. Однако наиболее детальным представляется исследование В.В.Кудасовой о романтической прозе Григорьева. Кудасова понимает романтическую прозу писателя как «персонификацию авторского сознания при особенном способе его зашифровки - двойничестве»2. О двойничестве как отличительной черте григорьевского героя пишут и Егоров, и Виттакер3.
В контексте нашего исследования дуализм автобиографического героя Григорьева интересен, прежде всего, не только в его романтическом качестве гофмановского, например, героя-двойника, когда двоемирие основывается на антитезе доброго и злого, святого и профанного и где герой либо гибнет под воздействием темных сил, как в «Песочном человеке», либо берет верх над этими силами, как в «Золотом горшке». Иными словами, нас интересует не только бинарная оппозиция - герой-злодей как антиномия положительного героя, но нам также важно и некое взаимное преломление противоположных начал, заложенных в едином автобиографическом герое Григорьева.
Наиболее выпукло дуализм героя Григорьева проявляется в его романтической прозе. Сами названия повестей - «Один из многих», «Другой из многих» - наводят на мысль о противопоставлении героя-одиночки толпе, как это было принято у романтиков. Быть не таким, как все, избежать общей «пошлой участи» чиновника было и стремлением самого Григорьева. Нам кажется, что не только «домашняя догма», неразделенная любовь к Антонине Корш и запутанность денежных обстоятельств вынудили Григорьева бежать из Москвы в Петербург. Он писал в 1845году в письме М.П.Погодину из Петербурга: «Я оставил службу, потому что я не могу служить, потому что служба убивает, потому что, наконец, я чувствую в себе силы делать на свете что-нибудь лучшее, чем вести настольные реестры... Кто сознает в себе Бога, т.е. человека, тому стыдно губить полдня на машинную деятельность, особенно если он не пылает возвышенною страстию к разным степеням Владимиров, Анн и Станиславов. Предоставляю это другим верным слугам отечества» .
Обвинения Б.Ф.Егорова, адресованные Григорьеву, в небрежности, безответственности5 не совсем правомерны, как нам кажется. В том же письме Погодину Григорьев пишет, что он «в Петербурге не развратничает, а добывает свой хлеб трудом, часто горьким и почти всегда неблагодарным»6. Григорьев сознательно предпочел так называемую жизнь свободного художника жизни чиновника. «Не служит, то есть в том он пользы не находит», - вспоминаются слова Фамусова о Чацком. В этом смысле служащие Севский и Чабрин - герои повестей Григорьева - связаны с Григорьевым допетербургского периода. Севский еще подчинен «домашней догме», выслушивает наставления «маменьки», должен возвращаться домой к определенному часу. Чабрин, как Григорьев петербургского периода, уже живет самостоятельно, но также ведет благонамеренную жизнь служащего.
Отражение Чабрина, его обывательской стороны - столоначальник Ипполит Орнаментов, для которого предел мечтаний - выгодная женитьба и круглый капитал. Характерно, что и Чабрин, и Орнаментов служат в одном департаменте и хотят жениться на одной и той же девушке. Повести Григорьева строятся на взаимных отражениях одного в других, другого во многих, если перефразировать заглавия повестей. О.А.Ковалев пишет: «Для поэтики Григорьева ключевыми являются идея другого человека как зеркала и идея призрачной жизни... Отразить в себе самого себя - значит выйти, по Григорьеву, за пределы самого себя. Герой Григорьева осознается как инобытие авторского духа. Эта модель эстетического творения реализована и в пределах самой прозы: персонаж может, создавая другого, смотреться в него, как в зеркало» . Таким образом, назовем принцип построения характеров принципом взаимного отражения. Этот прием использовал Лермонтов в «Герое нашего времени». Правда, у Лермонтова «система зеркал» располагается вокруг главного героя.
У Григорьева несколько иначе. В центре повествования у него не один герой, а два (пары Званинцев - Севский, Имеретинов - Чабрин). Прообразом этих пар является Виталии из трилогии «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина». Образ Виталина -зерно, из которого вырастут парные герои двух последующих повестей.
Арсений Виталии - герой явно автобиографический. Нам кажется, что само имя Арсений («ars» - по-латыни «искусство») ассоциируется с именем Аполлон (как известно, греческий бог, покровитель искусств). А говорящая фамилия Виталии («vita» - «жизнь») отличается от классицистических фамилий Правдиных и Стародумов только латинским корнем. Григорьев неоднократно говорил о том, что верит только в жизнь, в ее могучие веяния.
Арсений Виталии ведет рассеянную жизнь светского литератора. Это типичный романтический герой. Его описание в III главе повести отчасти повторяет описание и Онегина, и Печорина: «На таких личностях лежит печать постоянного разочарования...», Виталину свойственно «состояние вечного отрицания и тягостной, мучительной апатии»8. «Рано чувства в нем остыли», -говорит Пушкин об Онегине, а «господа печоринской школы» наводнили литературу 40-х годов (например, «Тамарин» Авдеева).
Автобиографический герой Аполлона Григорьева и герои Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева
Для наиболее полного уяснения сущности понятия «автобиографический герой Григорьева», думается, является необходимым поместить его в литературный контекст эпохи. Произведения современников Григорьева -Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева дают нам интересный материал как для исследования сущности григорьевского героя, так и для понимания места этого героя в литературном процессе.
Со всеми названными писателями Григорьева связывали личные отношения. Благодаря этому «биографическое» измерение творческих связей художников в процессе сравнения героев их произведений приобретает дополнительную глубину.
Однако надо быть очень осторожным в отождествлении автобиографического героя Григорьева и героев литературы. Тут мы имеем дело с явлениями принципиально разного уровня. Автобиографический герой Григорьева - это пограничное явление, объединяющее реального автора, автора как эстетическую фигуру (по Бахтину)1 и то «я» - критическое и художественное - от имени которого автор-реально существовавшая личность и автор-эстетическая фигура говорят в своих произведениях (включая письма). Таким образом, при сравнении автобиографического героя Григорьева с любым литературным персонажем «в остатке» всегда будет двоящаяся на «реальную» и «идеальную» фигура автора.
Когда в письме-исповеди Погодину Григорьев пишет про приезд в Германию: «Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра»2, то надо иметь в виду, что пишет это живой человек, который в данную, конкретную минуту своей жизни отождествляет себя с тургеневским персонажем. Как писал Бахтин, литературный герой - это единство, образуемое автором, он получил о-формление, он находится в замкнутом пространстве художественного произведения. Автобиографический герой Григорьева - это явление принципиально разомкнутое, и, проводя параллели с образами литературы, мы не должны об этом забывать. Однако сравнение автобиографического героя Григорьева с его литературными «родственниками» продуктивно в том отношении, что таким образом происходит расширение самого понятия «автобиографический герой Григорьева» за счет фона и окружения, в которое оно попадает.
Творчество Ф.М.Достоевского в жизни и критической деятельности Ап. Григорьева имело особое значение. Полное неприятие ранних произведений писателя (отзыв критика о «Двойнике» в письме Гоголю мы приводили в первой главе нашего исследования) сменило восторженное отношение к «Запискам из Мертвого дома» . Сотрудничество с братьями Достоевскими во «Времени» и «Эпохе» окончилось разрывом, мотивированным разногласиями между Федором Михайловичем и Григорьевым на почве общих им идей почвенничества.4 Напряженные взаимоотношения Достоевского и Григорьева осложнялись отчасти сходством их темпераментов: им обоим были свойственны эмоциональные взрывы, неуступчивость в принципиальных вопросах. Однако тот факт, что именно Достоевскому была посвящена программная статья Григорьева «Парадоксы органической критики», свидетельствует о существовавшей между писателями близости - если не личной, то творческой.
Сравнение героев Достоевского и Григорьева обосновано тем, что так же, как и герой Григорьева, герой Достоевского автобиографичен. С.Н.Носов в статье «Проблема личности в мировоззрении Ап. Григорьева и Ф.М.Достоевского» отмечает: «И Достоевскому, и Григорьеву была свойственна... особая исповедальность творчества, которую А.И. Герцен отметил как знамение новой литературной эпохи, утверждая в обозрении «Западные книги», что современная литература - «исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки»5. Типологическая характеристика Герценом современной литературы, приведенная исследователем, подтверждается наличием личностного, автобиографического начала в литературе 40-х - 50-х годов 19 века. Это и «Записки охотника» Тургенева, и раннее творчество Толстого, и расцвет мемуарной литературы (замечательны мемуары С.Т.Аксакова и «Былое и думы» самого Герцена).
Та исповедальность, о которой пишет Носов, - это качество письма, свойственная писателям и не в строго автобиографических текстах. Б.И.Бурсов в книге «Личность Достоевского» проводит параллель между Толстым и Достоевским в плане автобиографизма, присущего их творчеству.6 Ап.Григорьев с его автобиографическим героем - это явление, не менее значимое для понимания развития автобиографической линии русской литературы 19 века, чем Толстой с его Никол енькой Иртеньевым и Левиным и Достоевский с его Голядкиным, подпольным человеком и романными героями.
В этом смысле сравнение героев Достоевского и Григорьева приводит к осознанию как закономерностей литературного процесса в целом, так и к пониманию специфики их героев. Принимая за основу тезис об автобиографичности героя Достоевского, надлежит выяснить, в чем отличие характера автобиографизма Макара Девушкина и г-на Голядкина от автобиографизма ранней прозы Григорьева. Налицо разное, так сказать, качество автобиографизма героев писателей. Если у Григорьева - это не только отпечаток личности самого автора, лежащий на парах Званинцев - Севский, Имеретинов - Чабрин, но и совпадающие у героя и автора обстоятельства биографии (мотив несчастливой любви, оторванность от семьи, увлечение масонством), то у Достоевского качество автобиографизма его героев находится в совершенно другой плоскости. Это скорее общий для героя и автора психотип.
Автобиографический герой позднего творчества Аполлона Григорьева
Позднее творчество Аполлона Григорьева хорошо изучено в науке о Григорьеве. В монографиях Б.Ф.Егорова и Р.Виттакера подробно раскрывается так называемое почвенничество критика, исследуются обстоятельства его пребывания в Италии, Оренбурге. Статья А.И.Журавлевой о григорьевской системе «органической критики» дает исчерпывающую характеристику критического наследия позднего Григорьева.
Нас в данной главе будет интересовать, прежде всего, художественное творчество писателя. Эволюция его автобиографического героя, приход к объективному эпическому повествованию в «Великом трагике» и «Моих литературных и нравственных скитальчествах» - с одной стороны, и воплощение «сердечной линии» «последнего романтика» в цикле «Борьба» и поэмах «Venezia la bella» и «Вверх по Волге» - с другой, - таков предмет нашего дальнейшего исследования.
Лирический цикл «Борьба», являясь частью «Одиссеи о последнем романтике, находится в одном ряду с другими циклами поэта - ранними повестями, стихотворениями, посвященными Антонине Корш, «Дневником любви и молитвы». Однако «Борьба» стоит в то же время особняком как произведение, в котором наиболее полно выразились нравственные и эстетические поиски автобиографического героя Григорьева и его автора. Большинство стихотворений этого цикла были созданы в 1857 году, то есть в тот период, когда прекратил свое существование «Москвитянин», с которым у Григорьева была связана самая светлая полоса в его жизни, когда Леонида Визард вышла замуж за Владыкина (1856 год). Все надежды на счастье остались позади.
«Борьба» - это лирический итог москвитянинского периода и своего рода предисловие к позднему Григорьеву. Многие исследователи (А.А.Блок, Б.Ф.Егоров, С.Н.Носов, А.И.Журавлева и В.Н.Некрасов) считают «Борьбу» вершиной поэзии Григорьева. Это та самая «болезненная поэзия», о которой, как замечает критик в обзоре литературы за 1852 год, «нельзя нам говорить совершенно беспристрастно»1. Разбирая стихотворения Гейне о несчастливой любви, Григорьев замечает: «За искренность его исповеди, иронически грустной, поручится всякий, кто жил жизнью сердца...»2 Многоточие в конце этой фразы красноречивее любого словесного продолжения. То же самое можно сказать и о лирическом цикле самого Григорьева. Отмечая в том же обзоре, что «всего же важнее в лирическом поэте - искренность того чувства, с которым он лирически относится к мирозданию и человеку»3, критик отдает должное и Гейне, и Огареву, и Фету. Самого Григорьева мы считаем одним из самых замечательных поэтов своего времени, и цикл «Борьба» - тому подтверждение.
Хронология любви в нем сочетает и временное развитие чувства (встреча, полные страданий взаимоотношения, выход любимой замуж за другого, прощание), и особое время - внутреннее, которое измеряет глубину страсти. Я измучен, истерзан тоскою... Но тебе, ангел мой, не скажу Никогда, никогда, отчего я, Как помешанный, днями брожу. Есть минуты, что каждое слово Мне отрава твое и что рад Я отдать все, что есть дорогого, За пожатье руки и за взгляд. Есть минуты мучений и злобы, Ночи стонов безумных таких, Что, Бог знает, не сделал чего бы, Лишь упасть бы у ног у твоих. Есть минуты, что я не умею Скрыть безумия страсти своей... О, молю тебя - будь холоднее И меня, и себя пожалей!4
Положение самого Григорьева во взаимоотношениях с Визард было осложнено его формальной несвободой. В то же время, по свидетельству младшей сестры Леониды Евгении, «с ее стороны не было взаимности никакой»5 Однако реальные биографические обстоятельства интересуют нас только в той мере, в какой они художественно преломились и отразились в стихах. Лирический сюжет перипетий привычной и от этого не менее горькой «борьбы» григорьевского героя с самим собой (от первого стихотворения цикла с начальной строкой «Я ее не люблю, не люблю» до завершающего цикл стихотворения с заключительным четверостишием - «Скажи: ты слышала ль? Скажи, ты поняла ли? / Скажи - чтоб в жизнь души я верить мог вполне / И знал, что светишь ты из-за туманной дали / Звездой таинственною мне!») демонстрирует, как в пределах одного стихотворного цикла происходит развитие «сердечной линии» героя.
Страсть «томительного бденья» и «бессонного страданья» облагораживает душу героя вопреки (а может быть, благодаря) трагичности любви. Ныряя, как Иванушка Дурачок из сказки (фольклорные истоки «Цыганской венгерки», кульминации цикла, очевидны), из холодной воды в кипяток, герой приходит к просветлению и слиянию с Богом, как в рассмотренном в первой главе «Дневнике любви и молитвы». Рефрен семнадцатого, предпоследнего стихотворения таков: «Благословение да будет над тобою, / Хранительный покров святых небесных сил, / Останься лишь всегда той чистою звездою, / Которой краткий свет мне душу озарил»6.
В своем шедевре из этого цикла «Цыганской венгерке», по замечанию А.И.Журавлевой и В.Н.Некрасова, «как автор Григорьев... полностью един, слит с тем самым живым народным творчеством, к которому всегда всей душой порывался. Здесь он оказывается самым что ни на есть народнейшим из народных поэтов: просто не подыщешь случая, когда какой еще авторский литературный текст песенная стихия так бы приняла за свое, так бы жадно вобрала, так бы, наконец, продуктивно и увлекательно работала с ним дальше и дальше» . Авторы статьи «Григорьев и русская литература» тут имеют в виду дальнейшую жизнь романсов «Две гитары зазвенев» и «Цыганской венгерки» уже в отрыве от автора, после его физической смерти. Когда Высоцкий пел «А в чистом поле васильки / Да дальняя дорога» (про эти строки Журавлева и Некрасов замечают: «Самая что ни на есть григорьевская классика», хотя тут же добавляют: «Писал не Григорьев»), бард использовал в этой своей известной песне рефрен: «Эх, ребята, все не так, все не так, ребята!». Эти строки, конечно, продолжение григорьевской, а точнее фольклорной, традиции, с которой Григорьев тут «слит» воедино: «Пусть больнее и больней / Занывают звуки, / Чтобы сердце поскорей / Лопнуло от муки!» . Таков конец «Цыганской венгерки», как уже замечено, - кульминации «Борьбы».