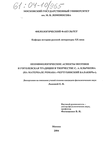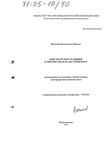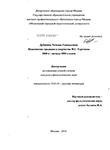Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Шукшинский биографический миф в аспект агиографической традиции 26
1.1 Агиографическая традиция в свет функционирования мифа в современном мире 29
1.2 Роль агиографической модели в мифологизации личности В.М. Шукшина 51
Глава 2. Житийная традиция и ее "трансформация в прозе В.М Шукшина 105
2.1 Агиографические мотивы в рассказах В.М Шукшина 109
2.2 Сюжет кризисного жития в киноповести «Калин красная» и романе «Я пришел дать вам волю» 155
Заключение 185
Список литературы 189
- Агиографическая традиция в свет функционирования мифа в современном мире
- Роль агиографической модели в мифологизации личности В.М. Шукшина
- Агиографические мотивы в рассказах В.М Шукшина
- Сюжет кризисного жития в киноповести «Калин красная» и романе «Я пришел дать вам волю»
Введение к работе
Актуальность постановки проблемы «В.М. Шукшин и традиции агиографической литературы» заключается в исследовании творческого наследия писателя в связи с «дальними» контекстами, что способствует выработке нового взгляда на творчество писателя XX в. Насыщенное культурно-историческими традициями наследие Шукшина вызывает равновеликий интерес специалистов ко всем проявлениям его многогранного таланта - писателя, режиссера, актера. Гуманистическая направленность его творчества удивительно созвучна духовным исканиям современности. Автор «Любавиных» и «Калины красной», пропустив через свою судьбу противоречия национального исторического развития, тяготеет к постановке вечных общечеловеческих вопросов бытия — «Что с нами происходит?». Нравственные выводы, сделанные писателем путем исследования внутреннего мира человека («Нам бы про душу не забыть»), звучат актуально в контексте современных проблем возрождения и обновления России.
За тридцатилетнюю историю шукшиноведение пережило несколько этапов своего развития и достигло успехов по многим направлениям. О творчестве автора «Сельских жителей» писали Л.А. Аннинский [8,9], В.А. Апухтина [10], Г.А. Белая [17,18], В.Ф. Горн [45-49], Л.И. Емельянов [72], СМ. Козлова [104-110], Н.Л. Лейдерман [138-139], В.К. Сигов [201], Н.П. Толченова [221] и др. Главное направление научных исследований было задано Л.А. Аннинским, который, с одной стороны, попытался постичь мировоззрение Шукшина, единство его творчества, а, с другой - осмыслить противоречивую природу шукшинского героя, предприняв попытку создать социально-психологическую типологию характеров («чудик» - «крепкий мужик», герой - антигерой). Отметив категорию странности героев, приверженность писателя к «нелогичной, странной, чудной душе», которую он знает и чувствует, исследователь отмечает неоднородность этого «мятежного мира»: «На одном полюсе <...>- тихий "чудик", робко тыкающийся к людям
со своим добром <.. .>. На другом - заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью <...>» [9, С. 242].
Отталкиваясь от основных положений Л.А. Аннинского, В.Ф. Горн впервые изучил характер художественной целостности писателя. Рассматривая шукшинский «материк», ученый описывает особенности топонимии и специфику антропонимии (использование писателем ограниченного набора имен и фамилий). Приведенный им анализ «разнообразия вариантов одних и тех же характеров» [46, С. 225], сюжетных ситуаций позволили сделать вывод о том, что созданный Шукшиным собственный «материк» представляет собой «развертывающуюся динамическую целостность» [46, С. 217], единство которой обусловлено его «неповторимой личностью» [46, С. 9].
В литературоведении происходит осознание игровой природы текстов писателя. Основываясь на известных идеях М.М. Бахтина (о «внутренне-диалогическом отношении слова к тому же слову в чужом контексте, в чужих устах...»), Г. А. Белая понимает «карнавальную» природу слова в произведениях Шукшина как «игру словесными клише», как «переодевание», «смену социальных масок», за которыми просматривается «несовпадение жизни, как она есть, и жизни, как она представляется герою» [18, С. 101,105].
Этапной в шукшиноведении стала работа Н.Л. Лейдермана, затрагивающая проблему «моделирования». Исследователь увидел в рассказах Шукшина сложное жанровое содержание, обусловившее символическую глубину образов и повышенную философичность «модели мироздания» писателя, состоящую из макро и микрокосмоса, («Жанровая форма рассказа Шукшина несет философскую концепцию человека и мира» [138, С. 65]). Ученый, акцентируя внимание на обдуманном введении Шукшиным таких «образных пар», как: «старик и ребенок, бабка и внук; паромщик Тюрин на один берег перевозит свадьбу, а на другой - похоронную процессию» [138, С. 62], предопределяет мифологическую интерпретацию и поиски архетипических начал шукшинских произведений.
В книгах и статьях о Шукшине В. Гришаев [53], А. Заболоцкий [83, 84], В. Коробов [115, 116], Т. Пономарева [182] и др. проделали основную часть работы по систематизации и публикации биографического материала. Следует отметить, что в некоторых исследованиях выдвигаются и конструируются гипотезы относительно определенных биографических данных, приводятся противоречивые воспоминания свидетелей и «неточные» биографические сведения, представленные самим писателем (первый брак, вступительные экзамены во ВГИК, годы скитаний (1947-1949), служба на флоте и «морские» истории и пр.), что позволяет говорить не только о самомифологизации Шукшина, но и о существующей в шукшиноведении мифологизации личности писателя.
Значительным шагом к знакомству с Шукшиным-философом стали исследования Е. Черносвитова [246] и Е. Вертлиба [33], которые рассматривают главным образом отдельные стороны его идейно-философской системы и социально-политической ориентации, создавая собственный образ писателя, иллюстрируемый примерами из его произведений. Е. Черносвитов говорит о своеобразной «шукшинской мифологии», в которую органично входят архаичные представления русского народа, «преобразованные его творческим воображением» [246, С. 231].
Со смертью автора «Калины красной» в литературоведении начинается постижение сложной природы простоты шукшинского дискурса, появляются исследования, связанные с «ближними» и «дальними» контекстами. Важную роль в изучении этой проблемы сыграла монография СМ. Козловой «Поэтика рассказов В.М. Шукшина» [109], применившей «метод микроанализа» («начиная от микроскопии слова и кончая микроскопией сюжета» [109, С 168]), для выявления глубинных смыслов, альтернативных и «апокрифических» для советских канонов «святого жития», и, следовательно, использующих архаические схемы. Эту методологическую установку исследовательница использует и в других работах [105-108] для реконструкции системы смысловых подтекстов. По верному наблюдению
СМ. Козловой, «...Начиная с первых публикаций, произведения Шукшина как будто легко и просто вписываются в "текст любой культуры", будь это соцреализм оттепельной формации 1950-1960-х, или "онтологический реализм" "застойных" 1970-х, или постмодернизм 90-х, но оставляют при этом весьма заметный зазор, определяющий качество и меру собственного "текста", "манеры" и "вечности" Шукшина, так что для каждой новой культуры он оказывается простым, и сложным» [110, С. 11].
В целом в шукшиноведении на сегодняшний день сформировался взгляд, рассматривающий творчество писателя в контексте мировой культуры. Все настойчивее стали заявлять о литературном экспериментаторстве Шукшина, об игровой природе творчества писателя, а в связи с этим, о его модернистской ориентации, что нашло выражение в работах В.В. Десятова [62], В. Новикова [169], Р. Эшельмана [267]. Большое значение в разработке этого вопроса принадлежит А.И. Куляпину. В своей монографии «Проблемы творческой эволюции В.М. Шукшина» [125] исследователь говорит об интертекстуальности прозы Шукшина, в которую наряду с другими включаются, тексты древней культуры, и о своеобразном концептуально-игровом поведении автора=тероя.
Сегодня не будет преувеличением сказать, что художественное наследие писателя, перешагнув временные рубежи и пространственные границы, провозглашает всеобщность «диалога культур» как основы человеческого взаимопонимания. Зарубежных читателей и критиков (Дж. Гивенс [39-41], М. Геллер [38], Л. Геллер [37], Д. Немец-Игнашева [164] и др.) привлекает отражение Шукшиным существенных примет времени, прошлого и настоящего, глубокое осмысление проблемы ментальности.
Одним из ведущих направлений шукшиноведения стало рассмотрение художественного наследия писателя в контексте русской классики. Этой теме посвящены исследования В.В. Десятова [61], СМ. Козловой [107], А.И. Куляпина [122, 123], О.Г. Левашовой [122, 123, 131], Т.Л. Рыбальченко [199].
В работах последних лет творчество писателя все чаще анализируется с точки зрения мифопоэтики. Архаические схемы мифопоэтического мышления Т.Г. Плохотнюк выявляет в рассказе «Стенька Разин» [178], В.В. Дубровская в рассказе «Алеша Бесконвойный» [68], В.Д. Наривская в киноповести «Калина красная» [163]. Ученые обнаруживают в «языке описания» художественного мира Шукшина помимо мифологизации и тенденцию к метафоризации, а через них естественную связь с народным творчеством, поэтому заслуженным вниманием в наши дни пользуется изучение проблемы взаимосвязи художественного творчества Шукшина с фольклором, представленное в исследованиях В.К. Кряжевских [118], О.С. Овчинниковой [170], Р.Н. Петровой [176].
Исследователи обращаются и к изучению проблемы «Шукшин и древнерусская литература». О.Г. Левашова акцентирует внимание на «мощном архетипическом образном пласте» [136, С. 93] в творчестве Шукшина, связанном с преимущественным интересом писателя к национальному, и подчеркивает существование (пусть и малочисленных) отсылок к древнерусским текстам: «Слово о полку Игореве» в рассказе «Экзамен», Аввакум в романе «Я пришел дать вам волю». Появился ряд статей, раскрывающих влияние житийной традиции на творчество Шукшина, что позволяет говорить о возникновении отдельного направления в шукшиноведении. Одним из первых эту проблему поставил В.К. Васильев. Исследователь утверждает существование «единого русского национального сюжета, который живет, трансформируется и реализуется на протяжении тысячелетия в рамках достаточно жесткой структуры» [30, С. 87] и генетически восходит к жанру жития-мартирия (повествования о мучениях борцов за христианскую веру). Ученый, опираясь на структурную схему «Жития Бориса и Глеба» и изменения, произошедшие с ней к XVII в. в «Житии протопопа Аввакума», анализирует судьбу целого ряда шукшинских героев-самоубийц: Спирьки Расторгуева («Сураз»), Кольки Паратова («Жена мужа в Париж провожала») др. Исследования В.К. Васильева распространяются и на
поиск архетипических образов «злой» и «доброй» жены в творчестве Шукшина, происхождение которых он видит в связи с библейскими текстами [31].
«О житийной тенденции в рассказах Шукшина» пишет В.А. Огнев [171]. Исследователь выявляет характерные черты «житийности», используемые Шукшиным: «жизнь героя последовательно прослеживается на большом отрезке времени», «господство повествователя», снижение роли диалога и изобразительных сценок в рассказах, «повествовательный принцип изложения зиждется на движении художественной мысли внешне бесстрастного автора» [171, С. 45-47].
Я.П. Редько рассматривает богородичный мотив в романе «Я пришел дать вам волю», причем истоки повышенного внимания писателя к данной теме исследовательница видит в «непреходящем интересе к старообрядчеству», для которого было характерно сращение христианских и языческих элементов [194].
Работы вышеуказанных ученых не только показали необходимость системного изучения влияния жанра жития на творчество писателя, но и отчетливо обозначили некоторые пути разработки данной проблемы. Попытки рассмотрения литературоведами творчества Шукшина чере;з призму житийного жанра вполне закономерны, так как глубинный контекст прозы писателя выстраивается с опорой на традиции народной (крестьянской=христианской) культуры, проявляющей себя, согласно К.Г. Юнгу, в форме архетипов «коллективного бессознательного». В связи с чем интересным является восприятие не только текстов, но и самого Шукшина с позиции агиографической традиции, что позволяет говорить о влиянии элементов «житийности» и на образ писателя. Так, В. Распутин говорит о его «аввакумовской страсти» [193, С. 40], а Г. Бурков утверждает внутреннюю потребность Шукшина быть «духовником» [26, С. 104]. Кроме этого, многие современники писателя отмечают элементы юродства в его поведении в условиях враждебной среды, то есть можно говорить об определенной
самоидентификации Шукшина на уровне игрового кода с древнерусским юродивым, что вполне естественно находит свое выражение и в художественном наследии.
В творчестве Шукшина утверждается новый тип героя времени — «дурачок», к которому писатель относит «юродивых, кликуш, странников не от мира» сего [253, С. 403], то есть дает народный идеал святого, которого национальная традиция наделяет высшими христианскими ценностями. В данном аспекте важным является замечание Г.П. Федотова, отмечавшего, что именно национальное понятие святости содержит в себе ключ, «объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры» [236, С.З]. Следует отметить, что идея святости прошла долгий путь эволюции в русской культуре и является результатом синтеза двух разнородных традиций, столкнувшихся при христианизации Руси — языческого славянского наследия и христианско-византийских представлений.
В.Н. Топоров, изучая языковые предпосылки категории святости, обращает внимание на то, что в славянской традиции святость заключается в преодолении смерти новым рождением и определяет прежде всего символы вегетативного плодородия. Согласно исследователю, на основе понимания святости как «образа предельного изобилия» сформировалось понятие «духовной» святости, «некоего "сверхчеловеческого" благодатного состояния, когда происходит творчество "в духе"» [222, С. 480]. «Пространство и время, святые (освященные) в своих наиболее ответственных точках, как бы обручем скрепляют святой (курсив — В.Т.) или Божий мир, нередко соотносимый со святой (Божьей) красотой, и населяющий его святой народ, ведущий святую жизнь. В этом святом мире предназначение и идеал человека быть святым. <...> Все формы человеческой деятельности ориентированы на святость — свою (потенциальную) и исходящую свыше» [222, С. 482]. Таким образом, новое понимание слова накладывалось на прежние, добавляя дополнительный смысл к начальной идее роста, поэтому в понятиях «святая земля», «святая
вода», «святой огонь» просматривается иерархическая система представлений, относящаяся и к материальной, и к духовной сферы.
При крещении Руси происходит столкновение славянской традиции понимания святости с христианской, в которой святость связывается с высшим, божественным миром. Как отмечает А.В. Юдин, мотив причастности Богу, иному миру роднит христианское понимание святости с традиционным славянским, но оно, во-первых, «более духовно, не несет' присущих славянскому следов "природного" понимания» [268, С. 221], а во-вторых, «основное ударение делает не на движении вверх, а на уже состоявшемся единстве, причастности высшему миру, где не меньшую важность приобретает мотив движения сверху вниз ("избрание", "посвящение" как наделение энергией святости). То есть это в каком-то смысле шаг Бога навстречу человеку, выраженный в выборе, наделении чудотворной силой, прославлении посмертными знамениями» [268, С. 221]. В результате такой переориентации святости с природы на человека, с физического на духовное, с конкретного на абстрактное, согласно В.Н. Топорову, «понятие святости' начинает актуализировать и такие смыслы, как "чистота", "непорочность", "праведность"» [222, С. 484]. Как видим, это было не буквальным заимствованием христианско-византииского представления о святости, а синтезом двух традиций, в результате которых сформировалась идея святости, «понимаемой как жертвенность, как упование на иной мир, на ценности, которые не от мира сего (курсив - В.Т.)» [222, С. 455]. Такое восприятие святости открыло особый, русский путь к вершинам духа, заключающийся в стремлении воплотить в жизнь христианские ценности, в ожидании скорого наступления святого царства в результате освобождения мира из-под власти зла при помощи освящения (образом такого святого состояния является литургия).
Русское понимание благочестивой жизни веками ориентировалось на идеалы, воплощаемые русскими святыми, возможно, поэтому и назвали Русь Святой. По мнению В.Н. Топорова, «тот, кого считали на Руси святым, - дает
возможность понять ту заданную себе душевно искомую <...> нравственную высоту, которая полнее и интимнее всего раскрывает суть того, чем (курсив — В.Т.) было пленено сознание и чувство человека Древней Руси и что легло краеугольным камнем в структуру его самосознания» [222, С. 446]. Как отмечает В.М. Живов, именно святой оказывается земным ангелом и небесным человеком, то есть «соединяет тварное человеческое с нетварным Божеством, <...> тем самым преодолевается оппозиция вещественного (материального, телесного) и духовного, и вещественность перестает быть препятствием для соединения с Божеством» [76, С. 97-98].
О сформировавшемся национальном понятии святости свидетельствует тот факт, что в Византии, являвшейся первое время духовной наставницей русского православия, не понимали основания канонизации святых, выдвигаемые русской церковью. Каждый период в развитии христианства на Руси выявлял своих святых, наиболее ярко отражающих соответствующую историческую эпоху и народные религиозные идеалы. Основываясь на исследовании Г.П. Федотова [236], можно выделить следующие чины святости, получившие наибольшее распространение в Древней Руси: святые князья, которые в зависимости от жизненного подвига подразделялись на равноапостольных, страстотерпцев, иноков и воителей, преподобные, святители, юродивые, святые миряне и жены. Необходимо отметить, что, заключая в себе основу национального понимания святости, каждый чин акцентировал определенную грань этого понятия.
Сонм святых князей открывают первые русские святые Борис и Глеб, культ которых подкреплен и языческим поклонением парным (близнечным) персонажам [229]. Показательно, что поскольку русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и добровольным принятием смерти в последовании Христу, на Руси создается новый чин святых — страстотерпцев, то есть не противившихся насильственной смерти, которая трактбвалась как вольная жертва и являлась залогом посмертного воздаяния. В этом многие исследователи видят истоки отношения русского человека к страданию,
воспринятому как искупление грехов и его стремление увековечить, «воздать за недожитое» [266, С. 254], что в современной культуре выражается в создании мифов о людях, безвременно ушедших и потому несущих на себе терновый венец мученичества. К тому же, поскольку миф должен наиболее полно охарактеризовать объект своей проекции (личность, жизнь, духовные подвиги)^ то вполне закономерным-является-обращение мифотворческого процесса именно к житийному жанру, особая функция которого состояла в том, что вплоть до XVII в. он оставался единственной формой повествования в древнерусской литературе, внимание которой было сосредоточено на образе и судьбе человека. Американский исследователь П. Дебрецени находит именно в житие Бориса и Глеба модель для такой «канонизации» и считает идею мученичества культурной основой русского менталитета [59, С. 262]. Поэтому неудивительно, что толчком к формированию мифа о Шукшине также послужила его скоропостижная кончина.
Полностью противоположным выбору Бориса и Глеба является поведение Святополка, пославшего убийц. Он олицетворяет собой зло - ту силу, которой противостоит святой, что является обязательным элементом жития. Образцу поведения христианского князя, религиозный долг которого - жертвовать собой ради спасения своего народа, были призваны следовать все русские князья, поэтому неудивительно, что наиболее многочисленной среди святых князей является группа страстотерпцев, в которой прославляются как те, кто погиб на поле брани, так и те, кто претерпел мученическую смерть, отстаивая христианскую веру и даже те, кто стал жертвой политического убийства.
Большое значение в русской истории имел чин преподобных — тех, кто избрал иноческий путь и в своей жизни стремился уподобиться самому Христу. В лице преподобного Феодосия Печерского, отца русского монашества, Русь нашла свой идеал святого, представление о котором навсегда было связано с тяжелым физическим трудом, смирением, любовью к книгам, «худостью риз» и «нищелюбием» (для русского народа милостыня является выражением любви, спасающей мир). Другой важнейшей фигурой
чина преподобных является Антоний Печерский, подвиг которого сопряжен с аскезой и жестокими искушениями и связанных с ними страданиями. Именно эти два пути в подвигах учеников святых впоследствии преобразовались в два потока иноческой жизни, один - смиренно послушный, другой — аскетическо-героический. Следует отметить, что во второй половине XIV в. сложился еще один путь святости — пустынножительство,- основание новых обителей в отдаленных русских землях. Центральной фигурой здесь является преподобный Сергий Радонежский, добавивший к древнерусскому идеалу любви к ближнему мистическое начало, несущее в себе заповедь любви к Богу, и идею общественно-политического служения, активного участия в жизни московского государства.
Третьим по значимости идет подвиг святителей (святых епископов), соединяющий в себе иноческое, мирское и церковное служение. Русская церковь, в отличие от Византии, прославляла святителя только тогда, когда он своей жизнью и служением идеалам христианства достигал личной святости, а не в силу его святого сана. Особое место здесь принадлежит Стефану Пермскому, посвятившему жизнь миссионерской деятельности среди зырян (коми). Характерные черты русского святителя — забота об основании храмов и монастырей, вероучительство, служение спасению своей паствы, тайная аскеза, национальная терпимость.
Новый чин святости, появившийся в русской церкви с начала XIV в. — юродивые (это добровольно принимаемый христианский подвиг из разряда «сверхзаконных», не предусмотренных иноческими уставами). «Христа ради юродивый», или «блаженный» - человек, принявший на себя облик безумия ради отвержения ценностей мирской жизни. Юродство считается одним из труднейших и великих подвигов: «Лучшіе представители иночества были того взгляда, что и среди міра возможно достигнуть такого совершенства, какимъ не обладають и сами отшельники; потому — тЪхъ, которые въ мірЬ живуть благочестиво, они, какъ видно изъ ихъ повествованій, ставятъ выше
подвизающихся въ пустынЪ, потому, конечно, что первые "спасались" при болЪе неблагопріятньїхь условіяхь» [272, С. 11].
* В житейских представлениях юродство связывается с телесным и
умственным убожеством (до XIV века слово «юродивъ» было словом
«уродивъ» [231, С. 132]), что является заблуждением. М. Фасмер считает
необходимым различать- юродства природное- и юродство добровольное_
(«Христа ради») и приводит достаточное количество примеров,
свидетельствующих, что к добровольному юродству обращались вполне
разумные люди, более того - образованные и интеллигентные.
Д.С.Лихачев выявляет в юродстве две части: «Пассивная. часть его,
обращенная на себя, - это аскетическое самоуничижение, мнимое безумие,
оскорбление и умерщвление плоти <...>. Активная сторона юродства
заключается в обязанности "ругаться миру", т. е. жить в миру, среди людей,
обличая пороки сильных и слабых, не обращая внимание на общественные
приличия. Более того: презрение к общественным приличиям составляет нечто
вроде привилегии и непременного условия юродства, причем юродивый не
р считается с условиями места и времени, "ругаясь миру" даже в божьем храме,
во время церковной службы». [144, С. 79]. По словам ученого, эти две стороны юродства как бы уравновешивают и обусловливают одна другую: «...добровольное подвижничество, полная тягот и поношений жизнь дает юродивому право "ругаться горделивому и суетному миру"»[144, С. 79].
Почти всем юродивым приписывается дар пророчества, который дается им в качестве награды за презрение к человеческому разуму (так, Прокопий
» Устюжский предсказал рождение Стефана Пермского). По свидетельству
современников, древнерусские юродивые ходили нагими, обвитые железной цепью, с распущенными волосами. Родиной русского юродства считается Новгород (Прокопий Устюжский, Никола Кочанов, Михаил Клопский), но самым прославленным был московский юродивый Василий Блаженный.
В Святцах представлено не так много имен святых мирян и жен, однако осмысление их подвига значительно дополняет представление о русской
религиозности и отчетливо показывает, что святость пронизывала всю народную жизнь, а не ограничивалась служителями культа. С особенным благоговением народное сознание относится к младенцам, умершим насильственной смертью (например, царевич Димитрий Угличский), так как в них видели жертву, принесенную на заклание. Церковь канонизировала и мирян,- смысл подвига которых- заключался- либо- в социальном опрощениии богатые и сильные мира сего добровольно отрекались от своего богатства и власти и вели образ жизни простого крестьянина (дворянин по происхождению Симеон Верхотурский), либо в любви к труду: особенно русское сознание выделяло святость земледельческого труда (Артемий Веркольский).
Сонм святых подвижниц, особо почитаемый церковью, вбирает в себя представительниц различных типов святости — от равноапостольной княгини Ольги до страстотерпицы великой княжны Анастасии. Чрезвычайный интерес для нашей работы представляет святая Юлиания Лазаревская (XVII в.), чье житие («Повесть о Улиании Осорьиной») показывает, что нетрадиционный тип подвига праведной мирянки - служение в миру - может соответствовать представлению об идеальной жизни святого. По мнению Д.С. Лихачева, «идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов <...> Прядение и "пяличное дело" равняется в ее житии подвигам благочестия. Ночная работа приравнивается к ночной молитве...» [142, С. 106]. Происходит соединение церковного идеала святости со' светским, сопровождающееся сакрализацией быта. Кроме того Т.Р. Руди обращает внимание на «наличие в житии агиографического мотива неожиданного в описании мирянки — аскезы» [196, С. 90]. Таким образом, праведная жизнь, деятельная христианская любовь и милостыня (в разнообразных формах проявления) стали основой мирского христианского подвига святой. По словам Г.П. Федотова, «...Юлиания Лазаревская - святая преимущественно православной интеллигенции. В ней находит свое оцерковление ее традиционное народолюбне и пафос социального служения» [236, С. 286].
Если для русской средневековой литературы характерны относительная целостность художественной системы и единство художественных вкусов, то во второй половине XVII в. она представляет собой пеструю картину, свойственную переходной эпохе. Литература все настойчивее пытается освободиться от авторитета церкви и приобретает все более светский характер, а в творчестве более весомо заявляет о себе индивидуальное начало. Агиография, стремлением которой было соблюсти в житийных произведениях жесткие рамки жанровых канонов, выработанных многовековой историей, также идет навстречу требованиям усложняющейся жизни: старая форма начинает наполняться новым содержанием. В этом процессе формирования обновленного «жития» новые элементы зарождающегося автобиографического жанра должны были, чтобы прижиться, использовать литературные каноны житийного жанра. Поэтому автобиография как литературное произведение нового типа характеризовалось в этот период, с одной стороны, началом осознания социального значения своей личности и более демократическими формами литературной речи, но, с другой стороны, сохранялись средневековое представление о человеке и традиционная форма жития.
Д.С. Лихачев считает:, «Можно с уверенностью сказать, что самым. замечательным и самым известным русским писателем второй половины XVII в. был Аввакум - главный идеолог русского старообрядчества» [143, С. 341]. По мнению ученого, «Житие протопопа Аввакума» в той его части, в какой оно связано с житийной литературой, развивает традиции житий, прочно соединенных с бытом, таких как «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть о Улиании Осорьиной». Для нашего исследования протопоп Аввакум интересен, прежде всего, тем, что в своем житии он стремился так уравновесить автобиографизм и традиционный житийный биографизм, чтобы отразить в сознании своих читателей и последователей представление о себе не только как о современнике, но и как об апостоле «старой веры». Он маркирует себя как идеального героя, во имя высокой идеи принесшего в жертву свою жизнь и благополучие своих близких, поэтому обращается к жанру по природе своей
изначально содержащему биографию идеального героя. Согласно М.Н. Виролайнен, именно осознание человеческой индивидуальности породило стремление к самосакрализации, недаром «великий русский мифотворец» -протопоп Аввакум «сам написал свое Житие» и занимался «активным "самокомментированием", комментированием собственной жизни» [35, С. 337-338]. «Житие протопопа Аввакума», преследовавшее агитационные- цели^ должно было отразить именно те обстоятельства жизни автора, которые казались ему самому наиболее важными и поучительными и опустить те, о которых он предпочитал умолчать. Таким образом, протопоп Аввакум использовал каноны житийного жанра для процесса самосакрализации, отбирая для всенародной огласки только те факты, которые соответствовали представлению о нем как о поборнике за правду и мученике за истинную веру. Подводя итог обзору чинов русской святости, можно заключить, что каждая эпоха имела свой образец подвижника, русская агиография отражала идеалы, которые формировала сама жизнь: все открытое ею в жизни своего народа она стремилась осмыслить с религиозно-нравственной точки зрения и «запустить», претворить эти идеалы в жизнь. Так, например, отвечая на запрос эпохи татаро-монгольского нашествия, эпохи иноверческого засилья, первоначально канонизируются святые, претерпевающие муки за Христову веру в Орде, и доминирующее положение занимают жития-мартирии. А в период освободительного движения идеальным героем становится святой -воин, и жития «открываются» для контакта с воинской повестью, княжеской биографией. Согласно В.О. Ключевскому, «древнерусская агиография, как литературная форма, имела свой исторический рост: изменялся сам взгляд на житие, на его задачи и приемы, и каждая смена сопровождалась новой переработкой житий, стоявших в кругу действий нового взгляда» [103, С. 188]. Таким образом, жития формировали взгляды древнерусских читателей на идеал святости и вырабатывали идеальные формы выражения подвига святого, являлись образцами христианской добродетели и оказывали влияние на формирование высших ценностей простых людей и их поведение.
Вполне возможно допустить, что через «коллективное бессознательное» национальное понятие святости и народный образ идеального героя могли быть усвоены и писателем XX в. - Шукшиным, впитавшим в себя народные представления о праведной жизни еще с раннего детства. Агиографическая традиция в творчестве писателя может быть связана с его «малой родиной» — Алтаем,- заключающем в- себе устремления многих поколений староверов, отыскать мир духовной чистоты и святости - Беловодье. Следует отметить, что первые научные исследования жанров устного народного творчества на Алтае, несомненно, содержащих представление о национальной категории святости, были сделаны еще в XIX в. СИ. Гуляевым, известным сибирским фольклористом. Собирательная работа велась и весь XX в. силами ученых и студентов БГПУ и АГУ, экспедициями фольклористов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. Благодаря им алтайский фольклор широко представлен в книгах «Былины и песни Алтая» [55] и «Долгая жизнь слова» [65].
Восприятие житийных традиций могло идти и через классику XIX в., одним из центральных героев которой был праведник. Не найдя в окружающей действительности достойного героя, к теме праведничества в миру в своих произведениях обращались Н.С Лесков, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.
Следует разграничить понятие «святой» — «человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодейственной силы» [172, С. 730] и «праведник» -«человек, который живет праведной жизнью, не имеет грехов» [172, С 593]. В русской литературе XIX в. сакрализуется не тип святого в чистом виде, а праведник, поскольку в предшествующие века, несмотря на устойчивость традиции почитания святых, происходит смещение акцентов с церковной святости на мирскую. Деяния апостолов и мученичество первых христиан, служащие образцом для идеализации личности подвижников, все глубже уходят корнями в историю, и высота их подвига становится практически недосягаемой. В связи с этим происходит некое «обмирщение» подвига, он
приобретает более демократичный характер. Взоры агиографов обращаются к людям, живущим праведной жизнью в миру, и воплощающим в повседневной реальности христианскую идею любви к ближнему, — к праведникам.
Поскольку для русской культуры доминантой всегда являлось духовное, то в национальном сознании XIX в. происходит сакрализация самого процесса творчества и образа творца, выразившегося в особой эстетической категории-«русский писатель», сопряженной с целым комплексом представлений о нем как о пророке, мессии, мученике за народное благо, защитнике убогих и сирых. Шукшин также на протяжении всей жизни пытается идентифицировать себя с этой национальной традицией. Недаром свою концепцию творчества он выразит строками из А.С. Пушкина: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом жги сердца людей!» [253, С. 466].
Шукшина, как и писателей XIX в., с древнерусским агиографом сближает интерес к человеку, к «жизни души». В «Рабочих записях» Шукшин отметит: «Нет, литература - это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высокого нравственного порядка» [253, С. 464]. Тема духовности решается в творчестве писателя в связи с особым типом положительного героя - «чудика», что, с одной стороны, делает акцент на юродствующем сознании героя, подчеркивает его странность и необычность для окружающих, ставит его в позицию маргинала в современном мире, а, с другой - характеризует его как проявление категории национального, носителя высших духовных ценностей, накопленных вековой православной традицией, и идеи деятельного добра в миру.
Бесспорным является тот факт, что народные духовные ценности и национальное понятие святости воплотились в житийной литературе и выкристаллизировались в образе святого, и, несмотря на секуляризацию и недавнее атеистическое прошлое нашей страны, сохранились в народе, из которого вышел Шукшин. Так же они могли быть восприняты и путем «диалога культур» в парадигме «большого времени». Поэтому постановка проблемы «Шукшин и житийная традиция» в аспекте изучения влияния
агиографического канона на биографический миф и творчество писателя вполне обоснована.
Новизна настоящего исследования заключается в том, что:
впервые своеобразие шукшинского творчества исследуется в контексте житийной традиции (причем учитывается влияние агиографического канона - как_ напрямую- через- архетипы «коллективного бессознательного», так и опосредованно — через произведения классиков XIX в.);
шукшинский герой и житийный святой рассматриваются как историко-литературные этапы воплощения национальной категории святости;
в работе предпринята попытка реконструкции и анализа биографического мифа на основе агиографической модели;
данное исследование показывает перспективу изучения творчества Шукшина в аспекте «дальних» и «близких» контекстов.
Поэтому предметом исследования являются способы функционирования агиографических элементов, структурных рудиментов жанра, мотивов и национальной категории святости, воплощенные как в биографическом мифе Шукшина, так и в его художественном творчестве. Материалом служат: эпистолярное наследие писателя и его близких, воспоминания современников и биографические исследования, наиболее репрезентативные для нашей работы рассказы писателя, киноповесть «Калина красная» и роман «Я пришел дать вам волю». В качестве носителей секуляризованной агиографической традиции привлечены «Повесть об Ульянии Осорьиной» и «Житие протопопа Аввакума», использованы произведения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и Н.С. Лескова, выражающие нравственно-религиозные размышления писателей XIX в. в аспекте поиска положительного героя времени.
Основной целью данной работы является изучение особенностей реализации и функционирования житийной традиции в творчестве Шукшина в связи с национальной категорией «святости»; исследование шукшинского
мифа, выстроенного с опорой на агиографическую модель, как результата осознания личности писателя в свете ореола мученичества.
Поставленная цель предопределила решение ряда конкретных задач:
рассмотрение эпохи Древней Руси и XX столетия в парадигме «большого времени» (М.М. Бахтина), свидетельствующей о преемственности- нравственно-этической категории святости в национальном самосознании;
определение причин процесса мифотворчества в сознании современного человека и изучение агиографической модели омифотворения, ориентированной на национальное понимание «святости»;
выявление причин формирования биографического мифа о Шукшине и анализ роли национальной модели «канонизации» по типу «страстотерпчества» в мифологизации личности писателя;
обнаружение в национальном характере, воплощенном Шукшиным в образе «чудика», черт житийной святости;
осмысление образа матери в художественном мире Шукшина в связи с богородичными мотивами;
исследование своеобразия художественного осмысления сюжета «кризисного жития» (М.М. Бахтин) в киноповести «Калина красная» и романе «Я пришел дать вам волю».
Методология диссертации обусловлена характером цели и решаемых задач. Наиболее близки и продуктивны оказываются здесь:
1. В качестве ведущего используется сравнительно-генетический метод, позволяющий упорядочить множество несходных на первый взгляд объектов, свести их к единой структурной модели или единому корню. В своем исследовании, направленном на выявление канонов жанра жития как на уровне нравственно-этической проблематики национального понятия святости, так и на уровне структурных рудиментов жанра, воплощающих шукшинскую идею праведности, мы будем опираться на
работы по исторической поэтике А.Н. Веселовского и В.Я. Проппа. Ученые, несмотря на неоднородность литературного материала, ведут поиск «инвариантов», отражающих закономерность развития литературного процесса. А.Н. Веселовский пришел к следующему пониманию соотношения содержания и формы: «Как в области культуры, так специальнее, и в области искусства мы связаны преданием, и ширимся в нем, не создавая новых форм, а привязывая к ним новые отношения <...>» [34, С. 20]. В связи с исследованием «диалога культур», применяются основополагающие идеи и методология поиска архетипических элементов в литературных произведениях разных эпох, выработанные М.М. Бахтиным.
2. Поскольку мифология является формой общественного сознания и продолжает играть важную роль при освоении окружающего мира современным человеком, что ведет к созданию «новых» мифов, то одним из основных методов исследования в работе станет мифологический метод, разработанный в трудах К.Г. Юнга, А.Ф. Лосева, Ю.Б. Лотмана, Р. Барта, Е.М. Мелетинского.
На защиту выносятся следующие положения:
Складывавшаяся веками агиографическая традиция позволяет проследить те идеалы, которые легли в основу национальной категории «святости», которые формировали духовные ценности народа и являлись образцами праведной христианской жизни. В структуре самосознания современного человека через коллективное бессознательное воплотились идеалы народного понимания святости, что позволяет рассматривать творчество Шукшина с его непреходящим интересом к проблеме «жизни души» в связи с «дальними» контекстами в парадигме «большого времени».
Поскольку мифотворчество порождается коллективным бессознательным, и этот процесс присущ любой эпохе, то в условиях доминирования духовного начала, характерного для русского
менталитета, мифологизация личности происходит с опорой на национальную агиографическую традицию, ведущей моделью в которой является канонизация страстотерпцев.
3. Основой для омифотворения личности Шукшина послужило восприятие
его жизненного пути как воплощение представлений о трагической
судьбе- народа- В- связи- с- его недавним историческим прошлым^
Безвременная кончина Шукшина и «зашифрованный» характер его
творчества, почувствованный читателями, послужили возведению
писателя национальным сознанием в ранг мученика и признанию его
выразителем интересов народа-страдальца. Формируется целый
комплекс представлений о нем как о пророке, мессии, мученике за
народную правду, происходит ритуализация ежегодных шукшинских
чтений на горе Пикет и отождествление Шукшина-Человека с
' Шукшиным-писателем и Шукшиным-актером.
Идея святости в художественном мире Шукшина нашла свое выражение в особом типе героя - «чудике» и его духовном восприятии мира в противовес прагматическому мышлению окружающих. Святость шукшинского героя заключается в его стремлении к празднику души, к «жизни души» среди нивелирующего влияния социума. Черты житийного святого проглядывают в жертвенности героя, в его желании не казенной работы, а «творчества в духе», в проявлении деятельного добра в миру и любви к людям через поиски «человеческого в человеке». Но все это не находит понимания со стороны окружающих и вызывает чувство одиночества и отчужденности, что активизирует элементы юродства в сознании героя и приводит к восприятию его как странного человека.
Образ матери, как и образ жены-матери овеян ореолом святости, связанным с богородичными мотивами, проявляющимися в жалости, сострадании, всепрощении, любви к «непутевым» детям, и противопоставлен образу «злой» жены в художественном мире писателя.
6. Зрелое творчество писателя направлено на исследование души русского
человека в период разрушения национальной культуры и глубоких
социальных сдвигов. Киноповесть «Калина красная» и роман «Я пришел
дать вам волю» представляют собой поиск путей воскрешения
человеческой души в эпоху утраты смысла существования и ценности
человеческой жизни. Судьба главных героев проецируется на сюжетную
схему «кризисного жития», показывающую этапы перерождения,
перехода от зла к добру. Но мировоззрение Шукшина трагично —
воскрешение души связано с физической смертью героев. Только такой
v ценой они могут искупить свои грехи и найти душевное успокоение.
Агиографическая традиция «взрывается» изнутри — праведники и
праведность не способны изменить мир, но они могут измениться сами
под воздействием этого греховного мира.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Во введении дается общий обзор чинов древнерусских святых,
показывается эволюция национального понимания святости, кратко излагается
ф история изучения творчества Шукшина, обосновываются актуальность и
новизна предпринятого исследования, методология и методика анализа,
формулируются цели и задачи, определяется структура работы.
В центре внимания первой главы «Шукшинский биографический миф в
аспекте агиографической традиции» — исследование связи биографического
мифа Шукшина с агиографической моделью канонизации. Первый раздел
«Агиографическая традиция в свете проблемы функционирования мифа в
ц, современном мире» посвящен рассмотрению культурно-исторических
предпосылок возникновения и способов мифотворчества в новое время, в частности — сакрализация личности на основе русского варианта мифопостроения, ориентированного на агиографическую традицию «страстотерпцев». Во втором разделе «Роль агиографической модели в мифологизации личности В.М. Шукшина» содержится анализ структуры и
*
роли агиографических канонов в процессе омифотворения личности писателя, причины восприятия Шукшина в качестве «страстотерпца».
* Вторая глава «Житийная традиция и ее трансформация в прозе В.М.
Шукшина» посвящена исследованию влияния агиографической традиции на
творчество писателя. В первом разделе «Агиографические мотивы в рассказах
В.М- Шукшина» рассматривается концепция праведничества Шукшина,,
выстраиваемая с опорой на переработанный писателями XIX в. идеал святого
и житийную традицию, заключающую в себе национальное восприятие
святости. Второй раздел — «Сюжет кризисного жития в киноповести "Калина
# красная" и романе "Я пришел дать вам волю"» выявляет структурную схему
«кризисного жития»: грех - покаяние — воскресение, используемую
Шукшиным для показа душевного перерождения своего героя.
В заключении подведены основные итоги исследования и сформулированы выводы, намечены перспективы дальнейшего научного поиска.
'#
Агиографическая традиция в свет функционирования мифа в современном мире
Понятие «миф» применительно к восприятию личности и творчества В.М. Шукшина требует специальных разъяснений. В связи с тем, что одной из задач нашего исследования является анализ причин и процессов возникновения мифов о Шукшине созданных как самим Шукшиным так и его окружением прежде чем приступить к рассмотрению данной проблемы, необходимо остановиться на раскрытии феномена мифа как такового, разграничить понятия «миф» и «мифотворчество», а также обосновать потребность в последнем.
Единого определения мифа, которое было бы принято всеми учеными, не существует, как нет и общепринятой теории мифа. Само слово «миф» восходит к др.-гр. mythos - сказание, предание. Такое «бытовое» представление о мифе с акцентом на вымышленности рассказанного дано в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: это «область баснословного, небывалого, сказочного» [57, С. 97]. В Новое время миф стал пониматься не как любой вымысел, воплощенный в рассказе, а как достояние исторически далёких эпох, как «древнее народное сказание о богах и обожествленных героях, о происхождении мироздания и жизни на Земле» [25, С.546].
Традиционно мифология связывалась с определенными стадиями развития общества и относилась к древнейшим временам. Однако благодаря работам К.Г. Юнга, Р. Барта1, А.Ф. Лосева2, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского3, Е.М. Мелетинского и других ученых было доказано, что мифы присущи любой эпохе, так как «некоторые черты мифологического мышления ... сохраняются в массовом сознании, в политических идеологических системах, в художественной поэтической фантазии» [157, С. 421]. Поэтому неудивительно, что на протяжении последнего столетия в. научную сферу прочно вошло третье значение слова- «миф»,- в- соответствии с которым мифология воспринимается как надэпохальная, сопровождающая жизнь народов на протяжении всей их истории форма общественного сознания, связанная с особым родом мышления1. Для нашего исследования актуальным будет именно такое понимание мифологии, так как оно наиболее широко охватывает интересующую нас проблему, поэтому в своей работе мы будем опираться на следующее определение мифа: «...миф есть особый тип общественного сознания, в котором сублимированы определенные черты мировосприятия, жизни, практики коллектива, который тяготеет к автономной образно-повествовательной форме и который присутствует в исторической практике народов, окрашивая и модифицируя ее» [78, С. 390].
Необходимо обозначить основные свойства мифологии как формы общественного сознания, выделяемые современной наукой. Во-первых, предмет мифа обладает общезначимостью и касается основ бытия: природы, жизни племен, народов, человечества, вселенной. Во-вторых, смысл мифа (выражаемая им концепция) переживается теми, для кого он существует, как нечто истинное, не подлежащее сомнению и анализу. Ф.В. Шеллинг утверждает, что мифологические представления разумеются «как истина, и при том как вся, как полная истина»; они «не допускают сомнения в своей истинности» [250, С. 214, 323]. Согласно взгляду М. Элиаде, мир мифа - это «абсолютная реальность», и из анализа он выходит уже «радикально демифологизированным» [263, С. 142, 150]. По мнению В.Е. Хализева, «миф гносеологически парадоксален: он опознается в качестве мифа лишь со стороны, извне причастного ему сознанию. Для тех же, кто приемлет миф, он существует в качестве полной и самодостаточной истины, но не как миф. .. . Миф как таковой требует полного, нерефлективного доверия к себе, в ином случае он перестает быть самим собой и превращается в произвольную выдумку» [240, С. 129].
В-третьих, форма мифа является гибкой, свободно меняется и варьируется в зависимости от культурно-исторических условий. Т.А. Шарыпина утверждает: «Наши представления о мифе отражают историческое развитие этого явления общественного сознания и сами складываются исторически. Как каждый литературный памятник, основывающийся на известном из мифологии сюжете, воплощает в своем содержании свой, неповторимый миф, так и каждый исследователь мифологизирует свою научную концепцию. Как миф не существует в четко отграниченных и жестко закрепленных формах, так и его реконструкции есть порождение мифомышления на новом этапе» [248, С. 14].
Основные свойства мифологии вплотную подводят нас к проблеме разграничения понятий «миф» и «мифотворчество» (деятельность по формированию мистических представлений, базирующихся на архетипических структурах). По верному наблюдению СМ. Телегина: «То, что в мифе синкретично, в мифотворчестве антропоцентрично, ибо творчество подразумевает владение творением» [216, С 48]. Опираясь на определение мифа, данное А.Ф. Лосевым (миф «не есть бытие идеальное, но - жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность» [147, С 401]), можно заключить, что если в мифе человек не выделяется из природы, то в процессе мифотворчества он может находиться вне, так как сам творит её. Согласно точке зрения СМ. Телегина, «человек избирает миф, живет в нем и считает его подлинной сакральной реальностью, ибо мифотворчество и есть творение второй (и главной) реальности, сакрального мифологического пространства. Мифом творятся не символы, не знаки бытия, а само бытие» [216, С. 50]. Парадоксальность ситуации заключается, по мнению ученого, в том, что, создавая миф, человек овладевает природой, а в самом мифе человек сливается с ней и подчиняется ей. «Человек через мифотворчество освобождается от своих внутренних комплексов, но подчиняется в мифе силам, сотворенным им самим и являющимся его эманацией и проекцией этих его комплексов» [216, 48]. Одна из проблем мифотворчества- связана с неразличением, субъекта. и_ объекта. Из-за тождественности формы и содержания, образ символически представляет то, что он моделирует. Как пишет Е.М. Мелетинский: «Мифологическое мышление выражается в неотчетливом разделении субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени, вещи и ее атрибутов, единичного и множественного, пространственных и временных отношений, начала и принципа, то есть происхождения и сущности. Эта диффузность проявляется в сфере воображения и обобщения» [155, С. 653]. С.М.Телегин, продолжая тему, подчеркивает: «Мифотворчество — это познание мира через его творчество в мифе, но познано здесь может быть только то, что сотворено самим субъектом. .... Противоречие заключается в », том, что мифотворец хочет познать объективный мир, но познает (точнее творит) мир внутри себя (познание и творчество здесь сливаются), а затем эманирует его во вне себя» [216, С. 49]. Как видим, связь архаичного человека (как и современного) и его мифа возможна лишь при слиянии объекта и субъекта творчества, так как в человеке-творце есть все, что определяет его творчество — миф.
Роль агиографической модели в мифологизации личности В.М. Шукшина
Проводимые параллели между жизнью Шукшина и Егора Прокудина, провоцируют процесс мифотворчества. В связи с этим хотелось бы остановиться на работе В. Коробова, создавшего свою «легенду» о годах скитания Шукшина. Биограф откликается в своем исследовании на письмо преподавателя Казанского университета Б. Никитчанова, присланное ему в 1978 г., в котором описывается встреча, произошедшая с автором письма в апреле 1946 г. в Казани на базаре. Среди шпаны, промышлявшей на базаре вымогательством, Б. Никитчанов непосредственно столкнулся с парнишкой, называвшим себя «писателем» и пояснившим, что в этой шайке находится, так как «учится у них играть, да и хороший литературный материал получить можно» [115, С. 23]. В этом парнишке его поразила вера в свой талант и предназначение: «Да, я писатель, а впрочем, я не знаю еще, кем буду. У меня, если хочешь знать, еще и огромный талант артиста. ... Шукшин моя фамилия, Василий Макарович, не забудь!» [115, С. 24-25].
В. Коробов подтверждает если не достоверность, то хотя бы возможность того, о чем рассказал Б. Никитчанов, строя свои выводы на основе сопоставлений, дополнительных разысканий и бесед-консультаций с близкими Шукшину людьми. Исследователь приводит воспоминание И. Хуциева, сына кинорежиссера Марлена Хуциева, в чьей картине «Два Федора», будучи еще студентом ВГИКа, сыграл свою первую и сразу главную роль Шукшин. Согласно его воспоминаниям: «На левой руке у него (Шукшина - И.Б.) была татуировка — финский нож клинком к запястью» [115, С. 27]. Биограф комментирует это так: «О чем-то это, пусть косвенно, но свидетельствует. И — что еще характерно - позднее Шукшин эту юношескую татуировку вытравил» [115, С. 27]. К тому же по воспоминаниям И. Хуциева «дядя Вася» как-то «не спел, рассказал скорее» грустную историю «о тюрьме, о том, как мать-старушка принесла сыну передачку» [115, С. 27]. Находит подтверждение своей гипотезе В. Коробов и в творчестве писателя: в рассказах Шукшина не только звучат блатные и тюремные песни (рассказы «Степка» и «В воскресенье мать-старушка» полностью построены на тюремной песне), но многие герои связаны с криминальным миром («Коля-профессор» («Охота жить»), Спирька Расторгуев («Сураз»), Сергей Сергеевич («Свояк Сергей Сергеевич»), Борька Куликов («Ораторский прием»), супруги Смородины («Пьедестал»)), а в повестях «Там вдали», «Энергичные люди» и «Калине красной» действуют целые воровские шайки [115, С. 29]. Как видим, исследователь приводит множество аргументов в защиту своей «легенды».
Мы считаем, что в этой версии жизненного опыта Шукшина, получившей широкое распространение в народе и нашедшей своих сторонников в среде исследователей, проявилось преклонение перед талантом актера и режиссера. Настолько точно и органично проник он в душу своего героя, что зритель поверил в правду изображаемого, в то, что автор истинно «выстрадал» свой материал. Но мифотворчество обусловлено не только мастерством-Шукшина-актера, но и стремлением массового сознания увидеть в Шукшине-человеке мученика, путь которого был связан с долгими поисками и страданием, как искуплением грехов и залогом святости. Народное мировосприятие приписывает писателю такой «грех», чтобы потом самому простить, пожалеть и «канонизировать».
В-третьих, миф о Шукшине соответствовал потребности общества обрести национальное самосознание и найти выразителя этой идеи, в котором бы она воплотилась не только в творчестве, но и обрела наглядность в его биографии. Согласно взглядам К.Г. Юнга, современный человек-подвержен инфляции - «чрезмерному преувеличению значимости собственного "Я"» [270, С. 13] («самости»), что заставляет включаться компенсаторную функцию коллективного бессознательного, связанную с механизмом персонализации — поиском общепризнанного объекта поклонения, в котором бы воплотились «нуминозные представления»; По мнению массового сознания, только писатель-мученик, переживший все беды и горести, выпавшие на долю своего народа, может выразить идеи народа-страдальца. Соловьев отметит, что Шукшин «был страдающим человеком - жизнь принимал близко к сердцу» [208, С. 127]. Л.Н. Федосеева-Шукшина скажет, что «он был с народом, с болью его, с тревогой, действительно болел сердцем и душой...» [234, С. 3] Неудивительно, что именно судьба Шукшина стала воплощением представлений о судьбе народа. В. Распутин напишет: «Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он - Шукшин. Ничего бы он не скрыл, но ни о чем и не забыл» [Цит. по 48, С. 508].
Однако в Шукшине видят не только страдальца, но и защитника народных интересов, спасителя1. Говоря о посмертной славе Шукшина, И. Поплавская напишет: «В нашем народе, в сокровенных его глубинах, есть чутье на истинное и подлинное, на своего народного героя» [183]. Л.Н. Федосеева-Шукшина поделится своим восприятием мужа: «Для меня он — заступник. Заступник всех тружеников деревни, откуда и идет Россия. Он в буквальном смысле ... маленького человека брал под свою защиту» [233, "С. 11]. По словам матери Шукшина: «За человека он мог кинуться в огонь и в воду, за народ он стоял, душой болел. Душу рад был отдать за человека. Так и отдал, не пожил, дите мое милое» [185, С. 321].
Биография и творчество писателя воспринимаются неразрывно, причем приобщение к последнему служит источником духовного очищения и объединения людей. Г. Бурков, говоря о значимости Шукшина для народа, напишет: «Шукшин войдет (уже вошел) в кровь нации. Значит навсегда. В кровь больной, оговорюсь, нации. Умиравшей было. Забудут имя или не забудут, разве в этом дело? Он всплывет неназванным, как византийский сюжет в «Калине красной». ... Не высказано, а всплывет. Этим, глубинным, и жива нация» [28, С. 250]. Из приведенных выше суждений можно заключить, что близкими и людьми, хорошо знавшими Шукшина, он воспринимается как духовный лидер, в народном сознании его творческие достижения усиливаются его социальной значимостью.
Агиографические мотивы в рассказах В.М Шукшина
Постоянный интерес Шукшина вызывает проблема гибнущих человеческих душ и поиск путей их воскрешения. Позднее творчество писателя ориентировано на исследование души русского человека в эпоху разрушения национальной культуры, переоценки народных идеалов. Шукшин, акцентируя внимание на судьбе русского национального характера на переломных этапах истории, делает героями людей, психологически отразивших «изломы» своего времени. К зрелому Шукшину пришло понимание, что деревня «стронулась», и если поначалу он пытался «удерживать крестьянина в деревне, отваживался писать на эту тему статьи, призывать его» [253, С. 432], то потом произошло переосмысление: «ладно, если ты уходишь — то уходи, но не надо терять себя как человека, личность, характер...» [253, С. 432]. Писателя стал интересовать деревенский человек на этом «своеобразном распутье», его попытки обнаружить в себе «нравственную основу, нравственную крепость, чтобы не потеряться» [253, С. 434]. Постановка такого вопроса актуализирует проблему самого автора «Калины красной», который подростком, как и его герой Егор Прокудин, был вынужден уйти из деревни, спасаясь от голода.
Нравственный разлад в сознании человека XX столетия и современное состояние русской души Шукшин пытался понять, обращаясь в своем творчестве и к историческому аспекту этой проблемы в романе «Я пришел дать вам волю». Общепризнано, что разинская тема является лейтмотивом творчества писателя, а сама личность Степана Разина, по выражению Дж. Гивенса, становится «alter ego» Шукшина [40]. Как отмечает В. Сигов, «Разин и революция находятся в сознании художника в сложном взаимодействии, объясняют и дополняют друг друга. Разин и революция нагляднее всего могут показать русский характер в его важнейших качествах» [201, Cv 145]. Сам Шукшин по этому поводу писал: «В "Степане Разине" меня ведет та же тема, которая началась давно и сразу, - российское крестьянство, его судьбы... Как только захочешь всерьез понять процессы, происходящие в русском крестьянстве, так сразу появляется непреодолимое желание посмотреть на них оттуда, издалека» [258, С. 390-391].
Согласно К. Касьяновой, «социально-нормативный каркас нации или ее социальная организация должны сложиться вокруг некоторого ценностного обоснованного комплекса идей» [98, С. 149], который и лежит в основе национального характера и связан в сознании каждого носителя определенной культуры с интенсивно окрашенной гаммой чувств и эмоций. Основываясь на этом, исследовательница приходит к понятию «социальный архетип», который «передается человеку по наследству от предыдущих поколений, существует в его сознании на невербальном, чаще всего нерефлексивном уровне, но "вмонтирован" в него очень глубоко, И импульс, им возбуждаемый, бывает очень сильным» [98, С. 34, 32]. Таким образом, национальный характер является частью нашей личности и существует в виде «однотипных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний» [98, С. 26]. Исходя из вышесказанного, вполне обоснованным является обращение Шукшина в осмыслении современного духовного состояния нации к истокам социального и религиозного раскола в русской истории, к созданию героев, в которых нашло отражение национальное и эпохальное сознание народа.
Жизненная ситуация, в которой предстают перед нами Егор Прокудин и Степан Разин, может быть соотнесена с «кризисными житиями», определение которых принадлежит М.М. Бахтину. Как утверждает ученый, «в кризисных житиях» дается обычно только два образа человека, разделенных и соединенных кризисом и перерождением, — образ грешника и образ праведника-святого1. Иногда дается и три образа, именно в тех случаях, когда особо выделен и разработан отрезок жизни, посвященный очистительному страданию, аскезе, борьбе с собой» [14, С. 266]. Из определения видно, что изображаются только «высшие» моменты биографии (грех - покаяние — воскресение), быстротечные по сравнению с целой жизнью, но определяющие как окончательный образ самого человека, так и его последующую судьбу. Тип «кризисных» житий отличает сильно выраженная конфликтность и динамизм сюжета, что мы наблюдаем и на страницах вышеназванных произведений, в которых происходит напряженный поиск героем самого себя, попытка обретения духовной гармонии с собой и с миром.
Мотив внутренней борьбы Георгия Прокудина уже заложен в несогласовании его имени и фамилии: с одной стороны, показаны деревенские корни и тяга к крестьянскому труду — Георгий («земледелец», что актуализирует образ Георгия Победоносца, связанного в русском фольклоре, согласно С. С. Аверинцеву, с «реликтовой языческой обрядовостью весенних земледельческих культов» [2, С. 274]), с другой, — праздничное восприятие мира - Прокудин («прокудить - шалить, дурить, проказничать» [57, С. 491]).
Предвестником судьбы героя становится песня «Вечерний звон», исполняемая хором бывших рецидивистов. Егор «старался всерьез и, когда "звонили", морщил лоб и качал круглой крестьянской головой - чтобы похоже было, что звук колокола1 плывет и качается в вечернем воздухе» [259, С.384]. В народных представлениях колокольный звон воспринимался как сакральное время, освященное присутствием высшей силы («Колокол — глас Божий»), поэтому обрядовые действия, совершаемые в это время, были наиболее действенны. (Существовало поверье, что звон колокола останавливает воров и вынуждает их раскаиваться [206]). Также колокольный звон соотносится со смертью, так как самоубийцам и людям, умершим скоропостижно без отпущения грехов и покаяния, колокольный звон заменял церковный обряд. Таким образом, звон колокола освящает душу героя для нового рождения, но вместе с тем предупреждает об опасностях, сопутствующих этому мучительному процессу.
Провидческим знаком судьбы героя оказывается и его воровская кличка Горе, соотносящаяся с судьбой-долей героя древнерусского памятника «Горя-Злосчастия». Мотивировка такого переназывания заключает в себе тему одиночества: «Да вот... горе у меня! Один на земле остался, не знаю куда деваться» [259, С. 392].
Сюжет кризисного жития в киноповести «Калин красная» и романе «Я пришел дать вам волю»
В свете возвращения нации на путь веры, признания нашей эпохой религиозной идеи связующим звеном между поколениями, несомненно, актуализируются символы веры, интерес к архетипическим жанрам, воплотившим вечные духовные ценности. В процессе осознания политического кризиса предшествующей идеологической модели происходит возвращение к национальной категории святости, закрепленной в жанрах агиографии.
Взяв за образцы жития византийских святых, заключающие в себе некую «парадигму святости», на основе которой выстраивается образ идеального героя, древнерусские агиографы переработали ее в соответствии с историческими потребностями своей эпохи и религиозно-нравственным потенциалом новообращенного народа, акцентировав внимание на таких национальных чертах, как жертвенность и искупительное страдание. На протяжении вековой истории существования жанр жития претерпел значительные изменения: реальность вносила в него литературное разнообразие и сюжетную увлекательность. Отвечая на запросы времени, особую роль в трансформации агиографии сыграли идеализация бытового праведничества, отраженная в житии Ульянии Осорьиной, и проникновение автобиографизма, запечатленного в переходном произведении к литературе Нового времени - житии протопопа Аввакума. Соединение церковного идеала со светским вело к смещению акцентов с церковной святости на мирскую, что повлекло за собой «обмирщение» христианского подвига, его демократизацию, интерес к людям, живущим праведной жизнью и реализующим идею деятельного добра в миру.
Важным в контексте рассматриваемой проблемы является тот факт, что в сложных условиях нестабильного исторического развития России, большая часть русских писателей, отражавшая духовное состояние нации, была устремлена в одном общем направлении — нравственно-этического и религиозного поиска, и для многих воплощением нравственного, религиозного, общественного или эстетического идеала была личность святого. В подчеркнутом возвращении многих писателей к религиозным сюжетам тоже, видимо, выражался определенный дух эпохи, которая испытывала потребность в таком содержании, что удобнее всего было выражать в форме традиционных религиозных образов, сюжетов и символов. Именно этим было продиктовано обращение к образу святого писателей-классиков XIX в. Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, чье внутреннее движение явственно обозначается как движение по пути нравственно-этического поиска. В данном случае противопоставление проблемы «вера-неверие» в творчестве писателей прочитывается и как выбор между идеалом, предложенным канонической религией, и тем идеалом, который ищут для себя герои (а отчасти и сами авторы).
В контексте преобразований нашей эпохи, связанных с переоценкой ценностей и кризисом идеологии, насыщенное культурно-историческими традициями наследие Шукшина свидетельствует о его творческом поиске путей духовного возрождения нации, о его стремлении реализовать себя в категории «русского писателя», связанного в народном сознании с мессианизмом и мученичеством. После безвременной кончины писателя пришло осознание его роли духовного наставника («духовника») нации, что актуализировало выработанный веками механизм мифологизации, основывающийся для русского менталитета на агиографической модели канонизации страстотерпцев. Следует отметить, что процесс мифотворчества вокруг личности писателя начинается еще при его жизни и связывается сначала со стихийными, а затем и осознанными попытками самомифологизации, что объясняется не только «выживанием» Шукшина в условиях чуждой и враждебной ему среды, но и с личными психологическими установками на некую сверхзадачу своего жизненного пути.
Свое творчество Шукшин ощущает как «один большой роман», что позволяет говорить о некоем житийном пространстве его рассказов, в анализе которого мы опирались на наиболее важные составляющие этого духовного мира. В метатексте шукшинской прозы особую роль играет национальная категория святости, связанная с особым типом положительного героя — «чудика», раскрывающего концепцию праведничества писателя. Мотив странности героя, юродствующие черты в его сознании, проявляемые в атмосфере всеобщего отчуждения, попытки его реализации в жертвенном служении людям, в сакрализации творчества, в стремлении к празднику души позволяют говорить об историко-генетической связи героя Шукшина с народным восприятием праведника. В творчестве писателя прослеживаются структурные рудименты житийного жанра: дается праведный образ матери, актуализирующий богородичные черты, этимологический смысл имени героя может заключать в себе «кривую» святости, присутствует испытание героя женщиной и искушение деньгами (городской культурой), подвижничество героя заключается в стремлении одухотворить бытие, привнести в мир христианские ценности.
Весь творческий путь писателя XX в. связан с утверждением народной правды («Народ всегда знает правду») и духовных ценностей, сохранившихся в народе. Нам кажется необходимым рассматривать художественное наследие писателя через «дальние» контексты, прежде всего через житийную литературу, так как «зашифрованное» творчество Шукшина не может быть глубоко понято вне контекста. Мотивы, образы, рудименты житийного жанра, часто данные в «вывернутом» виде, позволяли обозначить проблему нарастающей бездуховности нации, заговорить в эпоху всеобщего молчания о «болезни души», о духовной несвободе человека. Проблему современного состояния общества писатель определяет через метафору «одна нога на берегу, другая в лодке» и пытается рассмотреть причины «такого неудобного положения» через призму национального характера, уходящего корнями в трехсотлетнюю историю борьбы русской вольности и самодержавия.
Народ, как и человек, может «заблуждаться», но его возрождение, по мысли писателя, всегда связано с осознанием своего греха и раскаянием. Наиболее полно эта житийная схема воплотилась в итоговых произведениях
Шукшина: киноповести «Калина красная» и романе «Я пришел дать вам волю». Недаром сам автор признавал главным героем своего творчества Степана Разина, а народное сознание соотносило его с Егором Прокудиным. Но судьба Шукшина и его героев позволяет говорить о трагической нереализованности их жизненных устремлений: Шукшин так и не снял фильм о Степане Разине, а герои, которые были ему близки духовно и выражали его устремления, так и не смогли не только изменить мир к лучшему и реализовать себя, но и стали восприниматься окружающими как отклонение от нормы в условиях прагматичного мира или под его воздействием «исказились» сами. Однако то, что Шукшину удалось затронуть души людей главным вопросом своего творчества: «Что с нами происходит?», то, что сейчас многие пытаются дать ответ на этот вопрос, говорит о том, что писатель сумел «прорваться в будущую Россию», показав путь нравственного оздоровления общества - возвращения к истокам.
Перспективы работы лежат, на наш взгляд, в обращении как к «дальним», так и к «ближним» контекстам в аспекте изучения достаточно мощного пласта языческих представлений, мотивов и образов в творчестве Шукшина и в сравнительно-типологическом исследовании функционирования жанровых архетипов в творчестве писателей-современников А.И. Солженицына, В.И. Белова, В.Г. Распутина.