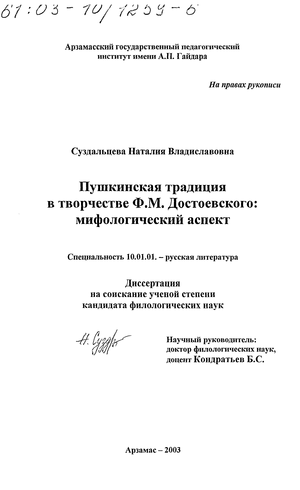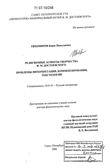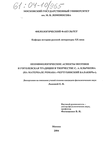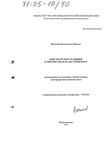Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Мифообраз «Египетских ночей» А.С. Пушкина в произведениях Ф.М. Достоевского 17
1. Парадигма значение мифообраза «Египетские ночи» в «семантическом поле» произведений Достоевского 17
2. Пушкинские образы «Клеопатра es suoi amanti» как типы «современного человека» в произведениях Достоевского 36
ГЛАВА II. Миф о «русском скитальце»: культурно-исторические и мифологические параллели 64
1. «Скиталец» Достоевского и Пушкина как культурно-исторический генотип 64
2. «Скиталец» Достоевского и Пушкина как литературно- мифологический генотип 99
ГЛАВА III. Сюжетно-композиционная форма стихотворения «Бесы» А.С. Пушкина и «внутренняя форма» романа «Бесы» Ф.М. Достоевского 142
1. Пушкинский эпиграф к роману «Бесы» Ф.М. Достоевского как композиционный план произведения 142
2. Мифологическая структура романа Достоевского «Бесы» 155
Заключение 177
Библиография 183
- Парадигма значение мифообраза «Египетские ночи» в «семантическом поле» произведений Достоевского
- Пушкинские образы «Клеопатра es suoi amanti» как типы «современного человека» в произведениях Достоевского
- «Скиталец» Достоевского и Пушкина как культурно-исторический генотип
- Пушкинский эпиграф к роману «Бесы» Ф.М. Достоевского как композиционный план произведения
Введение к работе
Интерес филологической науки к литературной традиции, изучению преемственных связей никогда не ослабевал. Однако в последнее десятилетие внимание к данному аспекту литературоведческого исследования значительно усилилось, что, видимо, связано с формированием новых концептуальных подходов к истории русской литературы, а соответственно и коррекцией методологии и методики исследования национального литературного процесса. В том же направлении актуализируется и интерес к мифопоэтическому пласту русской словесности, в первую очередь, естественно, в связи с «литературной генеалогией» творчества крупнейших наших художников слова.
В полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского указано свыше 100 произведений А.С. Пушкина, которые упоминаются самим писателем в письмах, рабочих материалах, публицистике или входят в его романы в качестве цитат, реминисценций, мотивов и образов. Причем, о каждом таком «вхождении» написана не одна литературоведческая работа, то есть материал о пушкинских традициях в творчестве Достоевского собран значительный. Были предприняты попытки и его систематизации. Так, академик Д.Д. Благой положил в основу своего системного подхода к проблеме Пушкин и Достоевский эстетические идеалы Достоевского, сходство и различие мироощущений писателей, биографические параллели.1 Позже Ю.И. Селезнев дополнил эту концепцию исследованием сюжетно-композиционных и жанровых аспектов традиции.2 Наметилась тенденция освоения пушкинской традиции у Достоевского и на мифопоэтическом уровне, однако исследовательские поиски в этом направлении находятся еще в фазе своего научного, методологического становления. Актуальность предлагаемого исследования и определяется необходимостью продолжить научный поиск новых аспектов в решении проблемы системного подхода к пушкинской традиции в творчестве Достоевского.
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации впервые предпринимается целостное рассмотрение пушкинской традиции в творчестве Достоевского в аспекте мифопоэтики. Такой подход позволяет говорить о целенаправленном мировоззренческом и художественном интересе Достоевского к пушкинскому наследию, значительно расширяет контекст представлений о Достоевском как основателе неомифологизма, одного из самых значительных течений в литературе XX века.
Значительность достижений современной мифопоэтики оказалась возможной, в первую очередь, благодаря фундаментальным исследованиям Е.М. Мелетинского, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.В. Аверинцева, В.Н.Топорова и др., а также западных ученых, таких, например, как К. Юнг, К. Леви-Стросс, К. Хюбнер, М. Элиаде. Именно в их трудах всесторонне и глубоко изучена сакральная природа мифа как модели мирового порядка, как всеобщего феномена и подлинной реальности человеческого сознания. Важнейшую роль в усилении интереса к онтологии и поэтике мифа сыграло и возрождение в обществе внимания к национальной религиозно-философской мысли, представленной именами Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, И.О. Лосского, П.А. Флоренского, И.А. Ильина В значительной степени, именно в лоне традиции русской православной философии зародились основы современных методов исследования мифологического и символического в русском искусстве. «Христианские мыслители, - пишет по этому поводу Н.Ю. Тяпугина, -исследуют ту «почву», на которой выросло искусство наших предков. Они обращены к постижению той же ментальности, что обусловила к постижению той же ментальности, что обусловила своеобразие русского искусства».3
В связи с этим можно говорить о применении мифопоэтического подхода к явлениям литературы, ориентированным на мифологические модели, с целью выявления архаико-мифологических образов и сюжетов, принципов их интерпретации, с одной стороны, и собственного, индивидуально-авторского мифотворчества писателя, с другой. Универсальность мифопоэтического подхода, его ориентированность на культурную память предоставляет большие возможности и для исследования феномена литературной традиции в ее самых разнообразных парадигмах.
Можно назвать ряд современных авторов, писавших о проблемах мифопоэтики Ф.М. Достоевского или А.С. Пушкина. Это В.Н. Топоров, И.Л. Волгин, М.Н. Виролайнен, В.А. Кошелев, Л.В. Карасев, Н.Ю. Тяпу-гина, Л.В. Жаравина, Г.С. Померанц, М.В. Лосская-Семон, Т.Г. Мальчу-кова, С.Н. Пяткин и др. Предпринимались попытки рассмотреть пушкинские традиции у Достоевского и на мифопоэтическом уровне, например, такими исследователями, как Е.Г. Чернышева, Б.С. Кондратьев. Однако, работ, специально посвященных данной проблеме практически нет.
Значимость изучения мифопоэтического аспекта пушкинской традиции в творчестве Достоевского объясняется еще и тем, что сам творческий метод писателя, по его собственному определению, «фантастический реализм», мифичен уже по своей семантике. В.П. Руднев определяет миф, как такое состояние сознания, которое является нейтрализатором между всеми фундаментальными культурными бинарными оппозициями».4 «Фантастический реализм» Достоевского и есть эта мифическая нейтрализация и соединение в одном творческом методе бинарной оппозиции «фантастика - реальность».
Именно опираясь на свой фантастический реализм, «реализм в высшем смысле», Достоевский выстраивает целую иерархию приемов мифологизации (демифологизации и неомифологизации) художественного пространства романа. В качестве таких приемов можно назвать сознательное использование писателем мифологических сюжетов и мотивов, а так же включение в текст множества мифологических (как правило, библейских) реминисценций и аллюзий. Характерно для Достоевского и то, что в роли мифа, «подсвечивающего» сюжет, у него начинает выступать не только мифология в узком смысле, но и исторические предания, историко-культурная реальность предшествующих лет, а так же известные и неизвестные художественные тексты прошлого. Текст романов Достоевского в целом начинает уподобляться мифу по своей структуре, основными элементами которой можно считать циклическое время, игру на стыке между иллюзией и реальностью, уподобление языка художественного текста мифологическому прдъязыку с его «многозначным косноязычием» (последнее происходит именно благодаря насыщенности романов Достоевского мифологическими и литературными реминисценциями, аллюзиями и цитатами). Таким образом, системное исследование мифологического аспекта пушкинской традиции в творчестве Достоевского и есть рассмотрение всей совокупности этих приемов мифологизации.
В качестве объекта исследования представлено собственно художественное и отчасти публицистическое и литературно-критическое творчество Ф.М. Достоевского в его связи с художественным наследием А.С. Пушкина.
Предметом изучения стали пушкинские мотивы, образы, сюжеты, используемые Достоевским в своем творчестве в качестве приемов мифологизации.
Целью работы является рассмотрение мифопоэтического аспекта пушкинской традиции в творчестве Достоевского как одного из струк- турообразующих компонентов в функционально-системном подходе к проблеме Пушкин и Достоевский.
Цель определила задачи, решаемые в ходе исследования: обосновать основные способы перехода пушкинских образов, мотивов и сюжетов в мифообразы и мифосюжеты Достоевского; рассмотреть авторское наполнение Достоевским формы пушкинского образа универсальным мифологическим содержанием; определить принципы включения множества пушкинских мотивов и образов в единую форму авторского мифообраза Достоевского; исследовать характер использования Достоевским пушкинских композиционных моделей в качестве «внутренней формы» собственных произведений. «Внутренняя форма» - это центральное понятие филологической концепции А.А. Потебни. «Судьба данного теоретически важного термина потебнианской концепции, - отмечает современный теоретик литературоведения Ю.И. Минералов, - сложилась довольно странно. Авторы, медитирующие с работами славянского филолога, по каким-то причинам прониклись убеждением, что оно касается лишь слова, лексемы («внутренняя форма слова»). Между тем тут именно заблуждение. Говоря о внутренней форме, А.А. Потебня несколько раз иллюстрировал это понятие этимологическим образом в слове (око - окно, стол - стлать и т.п.). Но это всего лишь иллюстративные примеры: Потебня не раз ясно заявлял, что внутренняя форма присуща не только слову, но и всякому семантически целому словесному образованию (например, словосочетанию, фразе и далее произведению)». Понятие о внутренней форме восходит к античной эстетике и античной риторике. Система представлений, воплотившаяся у Платона и Аристотеля в категории «эйкона» и «эйдоса», в понятие «эйдоса эйдосов» (образа образов, идеи идей), глубоко проанализирована в наше время А.Ф. Лосевым. Им прослежено и то, как эти представления были развиты далее Плотином, «тончайшим диалектиком».6 В обсуждаемом термине на ложные ассоциации способен навести второй его компонент («форма»). На деле А.А. Потебня, как и филологи античности, имел в виду собственно семантическое явление. Хотя понятие «внутренняя форма» не следует ассоциировать с современным термином «содержательная форма». «Содержательную форму» Потебня именовал иначе: «внешняя форма», - подчеркивая при этом, что «внешняя форма проникнута мыслью» (то есть содержательна). Термин «внутренняя форма» имеет иной смысл. В качестве его синонимов помимо «образа образов» у Потебни фигурируют весьма характерные выражения: «объективное содержание» и «первое содержание». Давая современное осмысление понятия «внутренняя форма» как образа образов, образа идей, образа чужой образной системы, Ю.И. Минералов связывает это понятие с миметическим началом в индивидуальном стиле писателя, с мимесисом крупнейших художников по отношению к другим художникам. Уже античные теоретики указывали на то, что подра-жание требует некоего прообраза. А в конце XIX века А.А. Потебня писал: «Настоящие поэты... весьма часто берут готовые формы для своих произведений. Но, разумеется, так как содержание их мысли представляет много особенностей, то они неизбежно вкладывают в эти готовые формы новое содержание и тем изменяют эти формы».8 Несмотря на то, что «внутренняя форма», как уже говорилось выше, присуща всем компонентам художественного произведения, в том числе и произведению как целому, практические анализы внутренней формы не идут дальше чисто языковых реалий (слово, словосочетание, предложение). Попыток проанализировать внутреннюю форму всего произведения - нет. В этом заключается еще одна сторона новизны нашей работы: мы будем говорить о внутренней форме произведений Достоевского как целого.
Пушкинская традиция включает в себя разные степени вхождения в текст произведений Достоевского: 1) открытые цитаты; 2) скрытые цитаты; 3) сравнения героев Достоевского с героями Пушкина или рассуждения первых о вторых: вошедшие в текст произведения; оставшиеся за пределами канонического текста, но используемые автором в подготовительных материалах; 4) различные контаминации Достоевским мыслей и образов пушкинских произведений; 5) разного рода сюжетные ситуации и мотивы пушкинских произведений; 6) содержательные мотивы; 7) композиционные модели и приемы пушкинских произведений; 8) высказывания о Пушкине: в публицистике; в текстах художественных произведений от лица героев. Все перечисленные выше формы «вхождения» Пушкина в художественный мир произведений Достоевского являются материалом данного исследования.
Методологической основой послужил комплекс литературоведческих принципов, разработанных в фундаментальных трудах Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, О.М. Фрейденберг, М.М. Бахтина, Е.М. Меле-тинского и др. Особое значение для работы имеет теория А.Ф. Лосева о мифе как личностном бытии. Использование этих принципов позволило осуществить системный анализ пушкинской традиции в мифопоэтике Достоевского. При рассмотрении произведений применялись мифопо-этический, структурно-типологический, сравнительно-исторический методы.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты дополняют научный материал в области мифопо-этического, конкретизируют способы мифологизации, уточняют содержание понятия «литературная традиция» как на диалогическом, так и на индивидуально-авторском уровнях изучения.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и результаты данного исследования могут быть использованы в школьных и вузовских курсах по истории русской литературы XIX века, спецкурсах и спецсеминарах по творчеству А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского.
Апробация диссертационного исследования. Основные положения диссертации отражены в монографии (в соавторстве) и в 12 научных статьях. По теме диссертации были сделаны доклады на научно-практической межвузовской конференции, посвященной проблемам детского и юношеского чтения (г. Арзамас), на Пушкинских чтениях, посвященных 200-летию поэта (г. Саров) и др.
На защиту выносятся следующие положения:
Место и роль пушкинской традиции в художественной системе Достоевского определяются прежде всего присущим писателю мифологическим мышлением, особым способом художественного миромодели-рования - неомифологизмом. Пушкин для Достоевского - не просто художник, но символическое воплощение русского национального сознания. Пушкинское художественное наследие в таком случае рассматривается Достоевским уже не только в своей самоценности, но и как возможный материал для собственного художественного творчества. Пушкинские образы, преимущественно, не мифологические по своей изначальной поэтической функции, в художественном сознании, а затем и в самом творчестве писателя наполняются мифологическим содержанием. Таким образом, переосмысление художественного мира Пушкина, «перевод» его поэтики в мифопоэтику способствуют формированию мифологической системы Достоевского, ее духовно-православному наполнению.
Мифопоэтическое освоение Достоевским пушкинской традиции опирается на сложившуюся в его «фантастическом реализме» систему приемов мифологизации (демифологизации и неомифологизации) художественного пространства романа. В качестве таких приемов можно назвать сознательное использование писателем мифологических сюжетов и мотивов, а также включение в текст множества мифологических (как правило, библейских) реминисценций и аллюзий. Текст романов Достоевского в целом начинает уподобляться мифу по своей структуре. Таким образом, функциональная многоплановость «вхождения» пушкинского слова и образа в художественный мир Достоевского позволяет говорить не просто о влиянии, но именно о традиции, которая становится одним из структурообразующих компонентов мифопоэтики писателя.
Важнейшим способом художественного освоения Достоевским пушкинской поэтики, определяющим характер и направление мифоло-гизма Достоевского, является авторское переосмысление пушкинских образов, мотивов и сюжетов на уровне мифологических универсалий. В этом контексте центральное место занимает пушкинская повесть «Египетские ночи», отсылки к символике которой встречаются практически во всех произведениях Достоевского. А сам пушкинский образ «египетских ночей» становится у Достоевского символом приближающегося Апокалипсиса и духовной «ночи» человечества.
Центральным символом всей мифопоэтики Достоевского является «заимствованный» у Пушкина образ «русского скитальца», который складывался у писателя в процессе всего его творчества как национально-исторический тип и фактически является «сквозным» мифообразом, выполняющим системообразующую роль. «Пушкинская речь» Достоевского в этом плане является заключительным и обобщающим Мифом о «русском скитальчестве».
Особое место в мифопоэтическом освоении пушкинской традиции занимает переосмысление Достоевским мифологических образов Пушкина, их дополнительная мифологизация, преимущественно в биб- лейском контексте. Наиболее ярким примером такого подхода является роман «Бесы», в основу композиционной структуры которого положена композиция одноименного лирического стихотворения Пушкина. Наполняясь новым мифическим содержанием, лирический пушкинский сюжет обретает эпическую форму, являющуюся в соотнесении с пушкинским первоисточником «внутренней формой» (мифологической композицией).
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трех глав, примечаний, Заключения и списка используемой литературы, который включает 359 наименований. Общий объем работы - 205 страниц. Структура исследования (тематика и последовательность глав, распределение материала по параграфам, характер примечаний) отражает поставленную цель - на основании системного анализа дать целостное представление о пушкинском воздействии на мифопоэтику Достоевского.
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научная новизна, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи, характеризуется научное состояние изучаемых проблем, излагается теоретическая и практическая значимость результатов работы.
Парадигма значение мифообраза «Египетские ночи» в «семантическом поле» произведений Достоевского
Значение для Достоевского Пушкина как художника и, главное, как «образа образов» русского человека переоценить сложно. Практически нет такого произведения писателя, в котором не было хотя бы одного пушкинского мотива, пусть даже в качестве открытой реминисценции, как цитирование или перефразирование его поэтических строк. Но есть в художественном мире Достоевского такие пушкинские образы и сюжеты, которые перерастают в мифообразы и становятся «сквозными» и ключевыми в его собственной поэтике. Именно таким мифообразом стали для Достоевского «Египетские ночи» Пушкина.
«Достоевский рассмотрел в античном сюжете «Египетских ночей», - отмечал в свое время В.Я. Кирпотин, - прообраз и «модель» кризиса, разгоравшегося все более сильно и все более жгуче в Европе и в России ... . История Клеопатры и ее трех любовников превращалась в грандиозную поэму со всемирно-историческим значением о кануне гибели погрязшей в неправде и грехах цивилизации».
Такое прочтение Пушкина пришло к Достоевскому, на наш взгляд, не в 1861 г., т.е. не в момент разгоревшегося газетного спора о «приличии» сюжета «Египетских ночей», по поводу которого и была опубликована его интерпретация пушкинской повести. Так чувствовал он «Египетские ночи» еще до каторги; это было его «изначальное» понимание Пушкина, с которым он вступил в литературу. В 1854 г., живя в Семипалатинске, Достоевский, по свидетельству мемуариста, часто с восторгом декламировал стихи Пушкина, причем особое предпочтение в этом смысле оказывалось им «Пиру Клеопатры» (т.е. импровизации итальянца из «Египетских ночей»). «Лицо его при этом сияло, глаза горели ... Как-то вдохновенно и торжественно звучал голос Достоевского в такие минуты».2 С подобным же чувством читал Достоевский в конце жизни и пушкинского «Пророка». В контексте Пушкинского праздника (открытия памятника поэту) само чтение Достоевским «Пророка» становилось продолжением его Речи о Пушкине, составляло с ней мифологическое единство. Стихотворение наполнялось новым мифологическим смыслом: Достоевский вещал о пророке Пушкине, о его мифологической судьбе. Также и «Египетские ночи» имели для него особое символическое значение. В начале своей статьи «Ответ «Русскому вестнику»» Достоевский объективно излагает пушкинский замысел повести: «Пушкину именно было задачей (если только возможно, чтоб он заранее задавал своему вдохновению задачи) представить момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента тогдашней жизни, так, чтоб по этому моменту, по этому уголку, предугадывалась бы и становилась бы понятною вся картина». И общую трактовку Достоевским пушкинского замысла можно сформулировать следующим образом: в одной лишь картине показать неизбежность гибели античного мира и необходимость именно в этот момент истории человечества пришествия Христа. Но, останавливаясь подробней на дальнейшем анализе «Пира Клеопатры», Достоевский говорит уже не только об античности: «Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным» (19, 135). Здесь Достоевский говорит о кризисе современной цивилизации. И мы видим, как пушкинский образ «Клеопатры и ее любовников» дополняется новым смыслом, вложенным в него уже самим Достоевским, как он перерастает рамки художественного образа и становится мифообразом, потому что из символа кризиса конкретной эпохи превращается в символ кризисной эпохи вообще.
Но, повторимся, такое понимание «Египетских ночей» пришло к Достоевскому еще до каторги. И лучшее доказательство тому его «сентиментальный роман» «Белые ночи» (1848 г.).
Соотнесенность «Белых ночей» Достоевского с «Египетскими ночами» Пушкина заметна уже при сопоставлении названий; еще более усиливается она при сравнении образов Импровизатора и Мечтателя (не случайно ни у того, ни у другого нет собственного имени). Импровизатор - странствующий поэт, в общем-то не признанный и безвестный, хотя после каждого своего выступления он на мгновение получает все: и деньги, и признание, и рукоплескание публики. Мечтатель мечтает о подобной участи: «о роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного». И хотя Мечтатель все-таки не поэт, но он тоже импровизатор. Только пушкинский Импровизатор импровизирует с поэтическим словом, а Мечтатель - с мыслью и мечтой. Но суть и результат того и другого процесса общий - рождается неповторимый поэтический образ. Перечисляя темы своих «грез-импровизаций», Мечтатель Достоевского между прочими называет и тему поэтической импровизации пушкинского героя - «Клеопатра ei suoi amanti» (Клеопатра и ее любовники), тем самым открыто сближая себя с Импровизатором «Египетских ночей». Но все это перечисление тем для «импровизаций»
Пушкинские образы «Клеопатра es suoi amanti» как типы «современного человека» в произведениях Достоевского
В предыдущем параграфе мы проанализировали многоуровневость семантики мифообраза «Египетские ночи» в произведениях Достоевского, теперь же проследим, как использует писатель сам сюжет и образы пушкинской повести. Прежде всего обратимся к трактовке Достоевским характеров Клеопатры и трех ее любовников Вот как пишет Достоевский о Клеопатре: «Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. ... Бешенная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Все это похоже на отвратительный сон» (19, 136).
В такой характеристике душа Клеопатры для Достоевского - это, прежде всего, «душа паука». В.Л. Комарович в одной из своих статей дал сводку случаев употребление этой характерной для писателя метафоры в «Записках из подполья» и его романах. Ученый отметил, что образ паука постепенно вырастает у Достоевского «в символ идеи потусторонней пустоты и этического безразличия, которая должна предстать во всем своем безобразии перед теми, кто «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткой и каким угодно подвигом»10. Символично, что внутренний мир Клеопатры Достоевский сравнивает со сном: «Все это похоже на отвратительный сон» (19, 136). Ведь «пауки» принадлежат именно сновидческому миру Достоевского. Именно пауков видят в своих кошмарах Ставрогин, Ипполит Терентьев, князь Сережа, Свидригайлов. «Душа паука» - это фантом современного человека. В «Записках из подполья» Достоевский прямо проводит эту параллель между Клеопатрой и современным «цивилизованным» человеком: «И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уже случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз и в подметки не годились ... . Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже, говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают» (5, 112).
«Подпольного человека» сам Достоевский назвал «человеком русского большинства» (курсив Ф.М. Достоевского) (16, 329), тем самым, подчеркивая его типичность. Поэтому и образ Клеопатры, соотнесенный с современным «цивилизованным» человеком, становится символом этой типичности. Подобная типология выявляется в трех основных особенностях. Первая заключается в том, что для современного человека «самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными». Правда, в отношении Клеопатры Достоевский говорит прежде всего о чувственных уклонениях («все уходит в тело, все бросается в телесный разврат»). «Современный» человек может и не дойти до телесного разврата, с него достаточно по большей части лишь разврата умозрительного, распаленного собственным воображением; для него более сладки чужие душевные мучения, чем физические «крики и корчи».
«Скиталец» Достоевского и Пушкина как культурно-исторический генотип
Образ «русского скитальца» у Достоевского принято связывать, прежде всего, с его речью о Пушкине, произнесенной 6 июня 1880 года. Важно в этом случае, что Достоевский сам соотносит образ «русского скитальца» не только с героями Пушкина, но с самим Пушкиным, с его литературной судьбой и более того - с этапами его духовного развития. Причем сама речь о Пушкине строится Достоевским как Миф о Пушкине. Пушкин для Достоевского не просто великий поэт, он - «живое уяснение и подтверждение, что такое русский дух, куда стремятся его силы и каков его идеал» (18, 69), он некий мифический герой, призванный восстановить космическое равновесие бытия. «Я делю деятельность нашего великого поэта, - пишет Достоевский, - на три периода» (26, 137). Эти выделенные Достоевским периоды деятельности Пушкина есть звенья мифологического сюжета, его развития. Пушкин первого периода являет в себе, в своей мифологической сути образ Алеко и Онегина (они здесь, у Достоевского, не литературные персонажи, но персонификация самого поэта). Таким образом, Пушкин этого периода - мифологический скиталец, антигерой, воплощающий в себе мир, движущийся к хаосу. Пушкин третьего периода, наоборот, - уже герой-победитель, восстановивший мировую гармонию (отсюда и его «всемирная отзывчивость» и «перевоплощение своего духа в дух чужих народов, и «стремление... в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности» (26, 146). А вот во втором периоде мифологической судьбы Пушкина находится тот самый сакральный центр, без которого мифа не существует: а именно - поединок героя и антигероя. Этот центр, на наш взгляд, следует искать в «Евгении Онегине», не случайно Достоевский связывает периодизацию пушкинского творчества именно с этим романом. И тогда имя антигероя будет Пушкин-Онегин, а героя - Пушкин-Татьяна.
Таким образом, «русский скиталец» Достоевского, являясь типом литературным, восходящим к литературным героям Пушкина (Алеко и Онегин), является при этом типом историческим, потому что ассоциируется с конкретной судьбой поэта, но также и типом мифологическим, потому что является частью Пушкина как мифообраза. В этих трех аспектах: литературном, историческом и мифологическом мы и будем рассматривать далее образ «русского скитальца» Пушкина и Достоевского.
Мы помним, как восторженно была встречена Речь Достоевского. Среди тех, кто «обнимал со слезами» автора Пушкинской речи, был и И.С. Тургенев. Однако уже через две недели этот порыв к «примирению» миновал, и явилось письмо в «Вестник Европы» М.М. Стасюлеви-чу с утверждением, что Речь Достоевского «всецело покоится на фальши».1 Что же не принял (или не понял) «западник» Тургенев? Прежде всего, возведение в «апофеозу» Татьяны («ужели же одни русские жены пребывают верны своим старым мужьям?»). Далее - пафос Достоевского в утверждении русской души, «всечеловечной и всесоединяющей» («И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика?»). И, наконец, полное отвержение, по сути дела, главной мысли писателя, на которой выстраивается весь его Миф о Пушкине: «смирись, гордый человек». По мнению Тургенева, «Алеко Пушкина чисто байроновская фигура - а вовсе не тип современного русского скитальца».2 Думается, что полемичность тургеневских оценок не стоит рассматривать лишь с позиций неприятия им славянофильства. Скорее, Тургенев все-таки почувствовал мифологическую природу Речи, но не признал ее за правду: слишком близка по времени была Пушкинская эпоха, события и лица (в том числе и литературные образы) воспринимались еще конкретно-исторически и не интегрировались в категории мифологической деятельности. Хотя у самого Тургенева-художника интерес к «типу русского скитальца» наблюдался еще с первого романа: «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» А Рудин («Я родился перекати-полем») буквально «цитирует» Достоевского: «я смиряюсь, хочу примениться к обстоятельствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу». Вспомним у Достоевского о необходимости смирения в себе «гордого человека»: «пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнитесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего» (18, 68). Кстати, и сам Достоевский заметил Рудина и органично ввел его в свой миф: «вполне русским был и Рудин, убежавший в Париж умирать за дело, для него совершенно, будто бы, постороннее... Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое - давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была, собственно, в том, что он на своей ниве работы не нашел и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему...» (26, 155).
Сделанные нами наблюдения лишний раз подтверждают, что основанный на мифологеме «гордого человека» миф о русском скитальце - это не фантазия Достоевского, не «фальшь», но объективная реальность национального (в том числе, и художественного) сознания. Это и пытался доказать великий наш писатель-философ, выстроив на критике скитальчества здание своей русской идеи. Причем, не только в Пушкинской Речи: первая из двух приведенных выше цитат относится к 1861 году, а вторая (о Рудине) - к самым последним страницам «Дневника писателя» (уже после очерка о Пушкине).
Пушкинский эпиграф к роману «Бесы» Ф.М. Достоевского как композиционный план произведения
В русской литературе не так уж часты случаи совпадения названий художественных произведений. И каждый раз, встречаясь с таким явлением, мы невольно начинаем сопоставлять, искать причины родства. В связи с «Бесами» Пушкина и Достоевского мотивация такого поиска особо значима: достаточно только вдумчиво прочитать программную речь Достоевского о Пушкине. Сравнительное же изучение этих двух произведений является в нашем литературоведении темой, по сути дела, мало разработанной. Не будем искать объяснения этому факту, а затронем один из аспектов, представляющий, на наш взгляд, первостепенный интерес. Пушкинские «Бесы» как художественный текст в романе Достоевского использованы дважды: в названии и в эпиграфе. Поэтому перед нами встают две задачи: 1) рассмотреть возможность непосредственного влияния пушкинского стихотворения на сюжет и структуру романа Достоевского и 2) влияния в качестве эпиграфа. Но прежде чем говорить об эпическом контексте пушкинских «Бесов» у Достоевского, попытаемся найти отправные точки для анализа в структуре поэтического текста стихотворения. Лишь на первый взгляд «Бесы» Пушкина имеют простую и сим метричную композицию. Этот лишь самый верхний, види мый уровень архитектоники стихотворения имеет органи зацию композиционной структуры, скрепленную, по вы ражению Н.М. Фортунатова, «тройным ритмическим узо ром» 1-4-7 строф, образующих два равных и симметрич- Рисі ных круга. (Рис. 1). Это круги по своей функции мифологические, символизирующие собой двойственность бытия: мир видимый и мир невидимый, мир людей и мир духов. Здесь же мы наблюдаем символическое соответствие композиции содержанию стихотворения: «в поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Но эти два круга вмещают в себя два типа мироощущения, связанные с субъектами повествования: ямщиком и лирическим героем. Кольцевая композиционная схема - 1-4-7 легко перестраивается в иной равнозначный арифметический ряд (по количеству строф) 3-1-3, где первые три строфы объединены одним субъектом повествования - ямщиком, а три последние другим - лирическим героем. При этом, читателю явлена одна и та же картина бытия, но с разным осмыслением и оценкой увиденного. В сознании ямщика зимняя стихия предстает сквозь призму народных мифических представлений и поверий. Лирический же герой раздвигает границы подобного мироощущения, актуализируя не внешний, а внутренний, духовный смысл картины вселенского хаоса, что эмоционально выделено в финале стихотворения. В начале стихотворения поэтизм «неведомые равнины» выражает прежде всего состояние страха, равно присущее как лирическому персонажу - ямщику, так и лирическому герою. Страшно, страшно поневоле Средь неведомых равнин! (2, 297) Этот страх вызван тайной неведомого, предчувствием трагической развязки. Во второй части страх трансформируется в иное психологическое состояние - тоску: неведомое стало ведомым, невидимое видимым: Вижу - духи собралися Средь белеющих равнин... Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне... (2, 297) Эта кардинальная, качественная смена идейно-эмоциональных регистров от первой ко второй части становится возможной, благодаря четвертой кульминационной строфе стихотворения, которая и разделяет, и связывает два столь отличных друг от друга мироощущения, образуя идейно-эмоциональный центр всей структуры пушкинского произведения. Не случайно, поэт кропотливо работал над этой строфой, что явствует из черновиков. Причем, в большей степени это относится к одной строке, которая в окончательном варианте, как известно, звучит так: Кто их знает - пень иль волк. (2, 298) Поэт, формально разделяя объекты - «пень иль волк» - имплицитно указывает на их объективно-мифологическую общность. По народному поверью (не случайно эта реплика принадлежит ямщику) пень и волк представляют собой единую мифологему оборотничества. При этом сам образ волка, как подробно прокомментировано в свое время А.Н. Афанасьевым , олицетворяет собой нечистый, бесовский мир, а сам период природного цикла, отраженный в пушкинском стихотворении, имеет в народе название «волчьей поры». Вполне очевидно, что Пушкину все это было хорошо известно. Несомненно, что строки «Вон уж он далече скачет; Лишь глаза во мгле горят» тоже относятся к образу волка. Это с одной стороны, подтверждает вторую версию ямщика, что кони испугались именно волка, но отнюдь не перечеркивает первую версию («пень»). Переход от 4 к 5 строфе есть момент превращения, оборотничества: неподвижное и неодушевленное (пень) стало подвижным и живым (волк), бытие повернулось к человеку другой своей стороной.