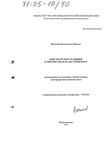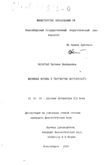Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Феодосии Печерский в творчестве Достоевского 17
1.1. Феодосии в ряду «исторических идеалов» русского народа 17
1.2. «Отшельник и схимник»: Феодосии как прототип «пустынника» в плане главы «У Тихона» 1872 г 28
1.3. Феодосии в творческой истории романа «Подросток» 40
1.4. «Печерский многострадалец» и открытость миру 47
1.5. «...замешалась личность»: отношения Алеши и старца Зосимы сквозь призму древнерусской монашеской традиции 53
Глава 2. Сергий Радонежский и православная мистика в творчестве Достоевского 59
2.1. Рецепция Сергия в творчестве Достоевского 59
2.1.1. Сергий: политик и мистик 60
2.1.2. Сергий в творчестве Достоевского: упоминания и «вспоминания» 64
2.1.3. «Надежды беспредельные»: мессианство Достоевского и мессианство Зосимы 70
2.2. Богословие Достоевского: от христоцентризма к христологии 77
2.2.1. Православная мистика и догматика: неразделимый «узел» 77
2.2.2. Возникновение догматической системы 81
2.2.3. Богословие иконы в «Бесах» 86
2.2.4. Богословие воплощения: три этапа становления в работе над «Бесами» 91
2.3. Достоевский и православная мистика 104
2.3.1. Определение понятия «мистика» 105
2.3.2. Сотериология Достоевского: мистический опыт как «обожание» 108
2.3.3. Эмоциональная мистика и троичное богословие 120
2.3.4. «Болезненный восторг» и «жизнь чувств»: мистический опыт героев Достоевского 129
2.4. Два «натурализма» Достоевского: «христианский» и «мистический» 137
2.4.1. «Тайна Божия» как выражение космического мироощущения 138
2.4.2. Религиозный имманентизм: «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» 147
Глава 3. Нил Сорский и православный аскетизм в творчестве Достоевского 155
3.1. Апология труда и теория самообладания: Нил Сорский и Константин Голубое 155
3.1.1. Рецепция Нила в творчестве Достоевского 156
3.1.2. Нравственный «закон» в творчестве Достоевского 167
3.2. «Труд православный»: концепция труда в «Бесах» 185
3.2.1. Отказ Ставрогина от «подвига» и неспособность Князя к «труду»: две версии одного самоубийства 187
3.2.2. «Мужицкий труд»: религиозный взгляд на хозяйственную деятельность 198
3.3. Православный аскетизм в «Подростке» 206
3.3.1. Соотношение понятий «аскетизм» и «ферапонтовщина» 207
3.3.2. Аскетический мотив в описании «ротшильдовской» идеи 211
3.3.3. «Католический монах»: вериги и столпничество Версилова 220
3.3.4. Умное делание и творчество Достоевского 229
Заключение 236
Список литературы 243
- Феодосии в ряду «исторических идеалов» русского народа
- «Надежды беспредельные»: мессианство Достоевского и мессианство Зосимы
- Рецепция Нила в творчестве Достоевского
- Умное делание и творчество Достоевского
Введение к работе
Предмет исследования. Диссертация посвящена рецепции древнерусской мистико-аскетической традиции в творчестве Ф.М. Достоевского. Основной материал - поздние романы Достоевского («Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы») и подготовительные материалы к ним, древнерусская агиографическая и аскетическая литература.
Актуальность исследования определяется тем, что за последние два десятилетия вопрос о «христианстве Достоевского» переместился из периферии в центр научных интересов исследователей. За относительно небольшой промежуток времени появилось значительное число работ, авторы которых рассматривают Достоевского как глубоко христианского писателя. Подобная ситуация не специфична для достоевистики и отражает общие тенденции «постсоветского» литературоведения (В.А. Котельников, И.А. Есаулов, П.Е. Бухаркин, М.М. Дунаев). Исходной точкой для возникновения новой литературоведческой парадигмы было «осознание христианского (а именно -православного) подтекста русской литературы как особого предмета изучения»1.
Восстановив в правах изучение религиозной проблематики в творчестве русского классика, современная достоевистика восстановила традицию, восходящую к деятелям русского религиозно-философского ренессанса (B.C. Соловьев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков, В.И. Иванов, Н.А. Бердяев), представителям до- и послереволюционного литературоведения (А.Л. Волынский, Н.Я. Абрамович, А. Слонимский, С.А. Аскольдов), именам русской эмиграции (Р.В. Плетнев, В.В. Зеньковский, К.В. Мочульский, Н.О. Лосский, Л.А. Зандер, Г. Мейер).
Христианское миропонимание Достоевского, его отличительные черты и истоки, а также отражение в художественном творчестве писателя стало предметом изучения в работах современных исследователей (В.Н. Захаров, Б.Н.
1 Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 5.
Тихомиров, Т.А. Касаткина, К.А. Степанян, Г.К. Щенников, С. Сальвестрони, прот. Д. Григорьев, Н.Ф. Буданова, А.Е. Кунильский, А.Г. Гачева, О. Меерсон). В ответ раздаются настороженные голоса тех членов научного сообщества, которые считают, что «литературоведение зациклилось на христианизации»2 художественных произведений Достоевского. В частности, С.Г. Бочаров выступил с критикой Т.А. Касаткиной как представителя новой «религиозной филологии», допускающей диктат исследователя по отношению к тексту, привнесение в текст не свойственных ему смыслов. По мнению исследователя, работы Т.А. Касаткиной (и филолого-религиозного направления в целом) «организованы центральным тезисом, что Достоевский - "истинно христианский писатель"... Но тезис этот проблемен и заслуживает сложного рассмотрения»3.
Отрицая насильственную «христианизацию» творчества Достоевского, мы считаем, что присущий ему христианский смысл нуждается в более содержательном раскрытии. Научная новизна работы состоит в том, что изучение рецепции древнерусской мистико-аскетической традиции в творчестве Достоевского впервые предпринимается в рамках монографического исследования. Наименее изученной предстает именно проблема аскетизма в последних романах Достоевского. Однако проблема мистики также требует и более четкого определения, и более глубокого осмысления, нежели это было сделано до сих пор.
В основе диссертации лежит представление о мистическом опыте как христианском и принадлежащем церковно-богословскому дискурсу, а не теософскому, готическому, романтическому, парапсихологическому и т.д. Во-первых, это означает необходимость рассмотрения темы «мистика Достоевского» в соотнесении с темой «богословие Достоевского» и позволяет поставить вопрос о целостности религиозного мировоззрения писателя. Во-вторых, в соответствии с христианским пониманием мистического опыта в нем
2 Курганов Е. Достоевский и Талмуд, или штрихи к портрету Ивана Карамазова. СПб., 2002.
С. 131.
3 Бочаров С.Г. От имени Достоевского // Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 583.
могут быть выделены два основных аспекта, которые на уровне художественного творчества предстают как две мистические темы: первая - это непосредственное осознание Бога человеком, вторая - распознавание божественных энергий в окружающем мире.
Методологическая база исследования определяется вниманием как к религиозно-нравственной стороне мировоззрения Достоевского, так и к воплощению этого мировоззрения в художественном творчестве. Наше понимание «религии Достоевского» опирается на работы В.В. Зеньковского, К.В. Мочульского, Л.А. Зандера, В.М. Лурье. Представление о православном богословии, мистике и аскетизме базируется главным образом на фундаментальных трудах В.Н. Лосского, И.Ф. Мейендорфа, С.Н. Булгакова, СМ. Зарина. Осмысление древнерусской монашеской традиции основано на концепциях, изложенных в книгах Г.П. Федотова, И.К. Смолича. Принципы работы с художественными и публицистическими произведениями, черновыми материалами Достоевского восходят к трудам М.М. Бахтина, А.С. Долинина, В.Е. Ветловской, Б.Н. Тихомирова.
Цель исследования - изучить отражение древнерусской мистико-аскетической традиции в художественном творчестве Достоевского, установить ее влияние на развитие христианских воззрений писателя.
В соответствии с целью ставятся задачи:
1) изучить случаи обращения Достоевского к образам древнерусских
святых: Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Нила Сорского;
2) определить зависимость между богословским и мистическим
содержанием христианской системы Достоевского;
исследовать историю развития двух мистических тем в творчестве Достоевского;
выяснить генезис и раскрыть содержание аскетической темы в творчестве Достоевского;
5) определить своеобразие восприятия Достоевским древнерусской
мистико-аскетической традиции.
Метод исследования - сочетание историко-богословского, историко-культурного, герменевтического, сравнительно-литературного методов.
Практическая значимость работы состоит в возможности использовать полученные результаты в лекционных курсах по истории русской литературы, спецкурсах и спецсеминарах по творчеству Достоевского.
Апробация работы. По теме диссертации был прочитан доклад на XXVIII Международных Старорусских чтениях «Достоевский и современность» (2009), сделано сообщение на аспирантском объединении кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, подготовлены три публикации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.
Феодосии в ряду «исторических идеалов» русского народа
В гипотетическом «атласе» по истории русской святости первая «карта» по праву должна принадлежать Феодосию Печерскому. Основатель и игумен Киево-Печерского монастыря не был первым русским святым ни по времени жизни, ни по времени канонизации. Однако в ряду старших и младших современников ему принадлежит первенство иного рода: Феодосии дал первоначальный импульс той духовно-религиозной традиции, которая стала сердцем русского православия. Впоследствии именно «фамильные черты» первого преподобного обеспечивали неиссякающую притягательность монастырской культуры для общества в целом. «Мирская суета и мирские заботы сознавались, как тяжкая преграда на пути осуществления христианской правды. Отсюда в русских людях так часто встречалась мысль, что подлинное христианство осуществимо лишь в иночестве, то есть в отрешении от мирской суеты и забот» 2.
В удивительной личности Феодосия в концентрированном виде мы находим тот набор духовных качеств, который наследует не только само русское монашество, но и все включенные в ограду церкви миряне. Как свидетельствует православный богослов С. Булгаков, «православие не имеет разных масштабов морали, но употребляет один и тот же масштаб в применении к разным положениям в жизни. Оно не знает и разной морали, мирской и монашеской, различие существует лишь в степени, в количестве, а не в качестве» .
Написанное Нестором, житие Феодосия рассказывает о том, как впервые на Руси путь христианского подвижника - путь инока, то есть человека, безусловно, «инакомыслящего», но прежде всего «инакоживущего» - был пройден до конца, до обретения святости. Г.П. Федотов использует слово «гениальность» в качестве секулярного эквивалента святости. Достоевский при создании терминологии, отвечающей задачам его «христианского реализма», придает религиозный смысл культурно-историческому понятию «классицизм». В черновых тетрадях «Бесов» как синонимические используются выражения «высший (христианский. —А.Г.) подвиг» и «высший классицизм» (И; 195). Еще одно переосмысленное в христианском русле слово из обыденной речи -«энтузиазм».
«Полюбите народ, святую веру его. Полюбите до энтузиазма» (11; 274), -обращается Тихон к Князю (будущему Ставрогину) в черновой редакции «Бесов». Народная религиозность мыслится" Достоевским как духовный резервуар, из которого может почерпнуть нравственные силы герой-«барич». Как пишет западный исследователь, «Достоевский полагал, что русский народ религиозен в своем сердце, несмотря на то что его знание христианской догмы и его нравственность оставляют желать лучшего»34. Обращение писателя к личности преподобного Феодосия Печерского во многом обусловлено именно его почвенническим мировоззрением. Дело в том, что создание Печерского монастыря - результат религиозного движения именно «снизу», из глубины народа. В Киеве существовали небольшие группы христиан, поселившихся вблизи церквей и живших в строгой аскезе. Однако два единственных «правильно» устроенных монастыря — Георгиевский мужской и Ирининский женский - были созданы по указу «сверху» и являлись «ктиторскими, или, лучше сказать, княжескими обителями, ибо их ктитором был князь»35. В отличие от них, Печерская обитель явилась результатом «аскетических устремлений отдельных лиц из простого народа»36.
«Коптский дар» христианскому миру был воспринят русским народом, выдвинувшим из своей среды Антония и Феодосия Печерских. Связь русского монастыря с народом - предмет рассмотрения обоих публицистических замыслов, в которых упоминается имя преподобного Феодосия.
В статье 1873 г. «Наши монастыри...» Достоевский-публицист полемизирует с анонимным сотрудником журнала «Беседа», который в серии статей (март-ноябрь 1872 г. ) выдвинул монашеству обвинение в изъятии из экономической жизни страны колоссальных материальных и денежных ресурсов. В ответ Достоевский предлагает рассмотреть не объем, а источник пополнения монастырского бюджета. Для писателя принципиально, что благосостояние русской обители является предметом народной заботы: «Монах "обходится" не государству в такую-то сумму, а народу, и народ жертвует эту огромную сумму (почти 8 милл. по расчету автора) на монастыри сам, добровольно, и никогда даяние его не было более добровольным» (21; 137).
В действительности, аргумент Достоевского не совсем справедлив. Неизвестный, но обстоятельный автор «Беседы» стремится дать максимально полный перечень источников монастырского обогащения: «Доходы монастырей можно разделить на три разряда: одни из них получаются от правительства в виде так называемых угодьев, другие — в виде денежного вспоможения; наконец, третьи состоят из пожертвований и приношений православного народа» . В последнем «разряде» в свою очередь выделяется значительное число «подразрядов», рассмотрение которых и составляет основное содержание публицистического цикла (май-ноябрь). В дискуссию о «наших монастырях» Достоевский-рецензент не столько вводит новые «факты», сколько меняет «систему их группировки».
Основной аргумент изложен в конце статьи. По Достоевскому, материальная зависимость монастыря от народа оборачивается глубокой духовной потребностью народа в монастыре: «Кто знает, может, и в современных русских монастырях есть много чистых сердец людей, жаждущих умиления духовного, страждущих сердцем, для которых, несмотря на всю либеральность нашего века, монастырь есть исход, неутолимая духовная потребность» (21; 139). Редактор «Гражданина» противопоставляет государственные издержки на «юстицию» и «народное образование» народному попечению о сохранении «умиления сердечного» и «религиозного чувства». В этом контексте образ преподобного Феодосия как одного из «страждущих сердцем» становится аргументом в пользу благосостояния монастырей.
В статье 1876 г. «О" любви к народу...» писатель привлекает личность. киевского игумена для доказательства духовно-нравственного превосходства простого народа над высшим обществом. Обращаясь ю образованному читателю, Достоевский предлагает сменить позицию последнего в отношение народа с высокомерно-учительской- на почтительно-ученическую. Состоятельность народа подтверждается наличием у него «идеалов», воплощением которых является- Феодосии Печерский: «...это мы должны склониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном.случае, если она вышла бы отчасти-и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться; как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими» (22; 45).
В обоих публицистических текстах речь идет о контрасте между «идеалом» и наличным состоянием: рядом с Феодосием в монашестве - «грех и мерзость», в народе - «грязь». Именно роль «исторического идеала» народа оказьіваетсяі определяющей для понимания образа киевского игумена. Однако эта отчетливая формула из статьи 1876 г. одновременно прилагается к еще двум святым: Сергию Радонежскому и Тихону Задонскому. В конечном счете такое представление о Феодосии «обезличивает» его образ в ряду представителей православной традиции. Именно так понимается фигура преподобного в комментарии к ПСС, где Феодосии рассматривается как один из участников триады «исторических идеалов» и, соответственно, как один из прототипов литературных подвижников в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». На наш взгляд, вопрос о рецепции Достоевским фигуры киевского игумена нуждается в уточнении.
«Надежды беспредельные»: мессианство Достоевского и мессианство Зосимы
В письме Н.А. Любимову от 7 (19) августа 1879 г. из Эмса Достоевский рассказывает о тексте «бесед и поучений» старца Зосимы, которыми завершается шестая книга «Братьев Карамазовых» «Русский инок». В частности, писатель упоминает Сергия как одного из носителей «надежд беспредельных», унаследованных Зосимой. «Само собою, что многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица. Таковы, например, рассуждения старца о том: что есть инок, или о слугах и господах, или о том, молено ли быть судьею другого человека, и проч. Взял я лицо и фигуру из древле-русских иноков и святителей: при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении. Св. Сергий, Петр и Алексей митрополиты разве не имели всегда, в этом смысле, Россию в виду?
...Эта глава ("О священном писании в жизни отца Зосимы". - А.Г.) восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения — из книги странствований инока Парфения» (30, 1; 102).
Митрополит Петр (ум. 1326 г.) - старший современник святого, а деятельность Сергия и Алексея (ум. 1378 гг.) была связана в один неразрывный узел (см. выше). В письме не объясняется, в чем именно заключается суть «наивных» и «беспредельных», иначе говоря - утопических, «надежд». Этого и не требуется между двумя хорошо знающими друг друга адресатами. Наиболее выпукло свою религиозно-политическую утопию Достоевский-публицист уже сформулировал в статье с аналогичным названием — «Утопическое понимание истории» из июньского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 2, 4). Тогда он писал: «Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины; про себя же понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, - православие, что она -хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах» (23; 46). Преподобный Сергий, митрополиты Петр и Алексей из письма 1879 г. - это во многом именно олицетворение «допетровской России» из статьи 1876 г.
Зосима - современный носитель этой идеологии, в полной мере разделяемой и самим писателем. Между тем, обращение к его «беседам и поучениям» показывает, что отчетливый комплекс идей, связанных с «надеждами беспредельными», присутствует здесь в виде не отдельного раздела, а разрозненных суждений. То, на что писатель специально обращает внимание Н.А. Любимова, в самом тексте романа находится далеко не «на виду». Расстановка акцентов в художественном тексте иная, чем в письме редактору «Русского вестника», что в свою очередь может быть объяснено только наличием у автора особой художественной задачи.
О сути этой задачи сам автор вполне однозначно высказывается в том же письме. Хотя Достоевский и ставит знак равенства между собственным мировоззрением и мировоззрением своего персонажа, но создание «бесед и поучений» старца понимается писателем как задача не только идеологическая, но и стилистическая. Причем эта стилистическая задача распадается на две подзадачи: она требует использования как «другого языка», выражающегося главным образом в особом лексическом, синтаксическом и интонационном наполнении текста, так и качественно новой риторической стратегии, обнаруживаемой в «другом духе». Подчеркнуть этот двойной уровень стилизации важно. Создавая речь старца, Достоевский ни в коем случае не ограничивается поиском собственно лексических и синтаксических средств, способных произвести эффект «наивности изложения». Кроме того, как становится известно в конце письма, образец для копирования подобного стиля писателю давно известен - это любимая им «книга странствований инока Парфения». На композиционном уровне текст «бесед и поучений» состоит из пяти подглавок, из которых в письме Н.А. Любимову Достоевский перечисляет только три: «что есть инок», «о слугах и господах» и «о том, молено ли быть судъею другого человека». Оставшиеся неназванными фрагменты посвящены вопросам «мистического» характера: «о соприкосновении мирам иным» и «о аде и адском огне». Ни один из разделов формально не соответствует задаче выражения «надежд беспредельных, наивных о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении», несмотря на то, что именно они наряду с «глубоким смирением» составляют центральное место в мировоззрении Зосимы.
Приспосабливая собственную идеологическую концепцию к возможностям «наивной» и безыскусной речи старца, Достоевский-художник создает соответствующую ей риторическую стратегию. Если Достоевский-публицист предельно заостряет мысль, излагает каждый пункт своей программы в соответствии с четкой логикой (см. также очерк «Пушкин» и «Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине» из августовского номера «Дневника писателя» за 1880 г.), то Зосима высказывает «вполне те же мысли» мельком, не акцентируя внимания на них. Второ- и даже третьестепенная роль политической линии в общей структуре его «бесед и поучений» может быть связано не только с желанием автора сохранить правдоподобие, но и со стремлением избежать нападок со стороны враждебной (либеральной) прессы. Ожидание негативных отзывов лейтмотивом проходит сквозь письма Достоевского, посвященные шестой книге последнего романа: «Назвал эту 6-ю книгу: "Русский инок" — название дерзкое и вызывающее, ибо закричат все не любящие нас критики: "Таков ли русский инок, как сметь ставить его на такой пьедестал?"» (30, 1; 102); «Затем есть несколько поучений инока, на которые прямо закричат, что они абсурдны, ибо слишком восторженны. Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется, справедливы» (30, 1; 122). Попробуем выделить религиозно-политическую утопию в книге «Русский инок».
В разделе «О священном писании в жизни отца Зосимы» старец раскрывает свое отношение к народу: «Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших» (14; 267). Эта мысль получает дальнейшее развитие в конце первого параграфа «бесед и поучений»: нравственный потенциал народа позволит ему не только воздействовать на «атеистов», но и подготовить «спасение Руси». Идеология Зосимы наиболее емко воплощается в формулировке «народ-богоносец», где слово «народ» обладает не столько этническими (русский народ в целом), сколько социальными коннотациями (народ как часть общества): «Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ - богоносец» (14; 285). В утверждении религиозной роли простого народа внутри общества в целом заключается важный, но лишь первый пункт «надежд беспредельных».
Второй пункт содержит более сложную аргументацию. Она начинается с указания на возможность духовных опасностей для самого народа: «Боже, кто говорит, и в народе грех» (там же). При этом народ понимается как жертва «пламени растления», который «сверху идет», то есть распространяется в народной среде под влиянием высшего общества. Не являясь первоисточником греха, «простолюдин» даже на глубине своего нравственного падения, «во смрадном грехе», сохраняет способность, утраченную высшим классом: отдавать себе отчет в том, «что поступает он худо, греша». Эта способность к нравственному самоотчету ведет к категорическому отрицанию народом якобы научного тезиса о том, что «нет преступления, нет уже греха». Так Зосима указывает на религиозный характер мудрой социально-политической позиции русского народа: сохраняя представление об абсолютном зле, он не решится, по европейскому образцу, «восстать на богатых силой».
Рецепция Нила в творчестве Достоевского
Если всеобъемлющая личность Сергия Радонежского явилась примером того, что мистическое и политическое начала русской духовности обладают способностью к полному соединению, то в дальнейшем каждое из них легло в основу одной из двух противопоставивших себя друг другу «партий» или «школ». Русская святость в своем дальнейшем развитии пошла по пути «специализации», которая означала не сотрудничество двух различных направлений в рамках единой религиозной культуры, а принципиальный конфликт двух традиций. Источником его оказалось противостояние двух выдающихся личностей, подхваченное зачастую более полемично настроенными последователями: с одной стороны выступил поборник строгой киновии, государственный деятель Иосиф Волоцкий, с другой - создатель русского скитничества, первый писатель-исихаст Нил Сорский. Находясь на соседних страницах «атласа» по истории русского благочестия, фигуры святых свидетельствуют о произошедшей в Древней Руси поляризации представлений о подвижническом идеале.
Безусловно, противостояние двух традиций происходило на самых различных уровнях. С одной стороны - наращивание экономической силы, с другой - добровольный отказ от собственности. С одной стороны -формализация монашеской жизни, с другой - внимание к внутреннему устроению инока. С одной стороны - общежитие, с другой - старчество. Однако абсолютизация расхождений между двумя типами монашеской жизни принадлежит позднейшему времени, когда определяющим фактором в их различении стал частный вопрос о монастырских землях. Само разделение на иосифлян-«стяжателей» и заволжских «нестяжателей» оказывается маркировано таким образом, что «как бы монополистом чистого евангельского христианства выступает преп. Нил Сорский, а исказителем христианства -преп. Иосиф Волоцкий»175.
От размещения двух святых на аксиологической шкале оказывается несвободен и И.К. Смолич, на фундаментальный труд которого по истории русского монашества мы неоднократно ссылались в нашей работе. Негативная оценка иосифлянской традиции находит свое место и в недавней монографии Д. Григорьева «Достоевский и Церковь», в которой исследователь выдвинул гипотезу о принадлежности старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» к традиции «нестяжателей». В работе Д. Григорьева предпринята попытка представить духовную «родословную» литературного старца, иначе говоря -определить контуры той «серафической струи», которую Достоевский «пророчески продолжил» . Поэтому в интерпретации исследователя связь Зосимы с традицией «нестяжателей» определяется не столько сознательным выбором, сделанным автором им между преподобными Иосифом и Нилом, сколько принадлежностью последнего к традиции созерцательного монашества - «серафической струе». Тем не менее, реальность такой - по сути, интуитивной - связи подтверждается наличием в романе оппозиции старца Зосимы и отца Ферапонта, которые противостоят друг другу как современный «нестяжатель» и «дегенеративный последователь осифлянства»177.
В настоящей работе мы хотели бы освободиться от какой-либо оценки оказавшейся исторически более влиятельной традиции «стяжателей». Более того, само сближение между литературной (Зосима и Ферапонт) и исторической (Нил и Иосиф) парами подвижников нам представляется недостаточно обоснованным.
Если мы имеем сведения о влиянии Нила на Достоевского, то имя его оппонента ни разу не появляется в произведениях, черновиках или эпистолярном наследии писателя. Однако если искать преломление иосифлянской традиции, то она может быть обнаружена в образе именно старца Зосимы, а не отца Ферапонта. Дело в том, что подчеркнутый акцент, который делает Ферапонт на умерщвлении плоти с явным ущербом для своей внутренней жизни, едва ли может быть назван традицией в прямом смысл этого слова. Формализация киновийной жизни при Иосифе Волоцком могла усугубить подобные негативные явления, однако они были знакомы русскому монашеству задолго до него. Еще в Киево-Печерском патерике мы находим предостережение, адресованное тем членам братии, которые рассматривают аскетические средства в качестве основной цели монашества (см. 2.2.1).
Между тем, происходящий в келье Зосимы разговор о соотношении церкви и государства и о «русском понимании» этого соотношения -«государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более» (14; 58) - лежит гораздо ближе к государственно-политическому мышлению предводителя «стяжателей», чем к мировоззрению заволжских старцев. В еще большей степени Зосима сближается с иосифлянской «школой» в своем мессианском пророчестве о будущей роли России, поскольку именно эта «школа» соприкасается с комплексом идей о «Москве - Третьем Риме» - «дерзновенно смелой разгадке своего русского призвания в масштабе всемирной истории»178.
В то же время внешний вектор в служении Зосимы проявляется не только в вопросах церковно-государственной теории, но и в практике духовного водительства: старец общается с «верующими бабами», находит время для участия в решении проблем «случайного семейства» (этот термин из «Подростка» полностью подходит для описания «семейки» Карамазовых) и посылает в мир своего любимого ученика. В этом смысле тип позднего русского старчества, которое воссоздавалось писателем по впечатлениям от посещения старца Амвросия Оптинского, оказывается прямо противоположен типу афонского старчества, принесенного на русскую землю преподобным Нилом.
Интересно, что рассказчик в «Братьях Карамазовых» воспроизводит теорию классического старчества, которую связывает с возродившим этот монашеский институт Паисием Величковским: последний не только был на Афоне, но и «извлек писания Нила на свет Божий и положил их в основу своих собственных творений» . Согласно оставленной в романе дефиниции, «старец это - берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы» (14; 26).
Однако художественному изображению в «Братьях Карамазовых» подвергаются не столько отношения старца и его ученика-монаха (или послушника, как в случае с Алешей), сколько отношения старца и многочисленных мирян. Подробности «послушания всей жизни» остается практически неизвестным читателю, за исключением обязанности Алеши Карамазова покинуть монастырь после смерти Зосимы. В то же время рассказчик подробно описывает народное почитание старца из «подгородного» монастыря, хотя и не предполагает наличия за этим типом служения какой-либо теоретической основы. Между тем этот особый тип старчества был сформирован достаточно поздно внутри русских обителей - прежде всего оптинскими старцами и Серафимом Саровским. По мнению С.С. Хоружего, различие между древне-восточным и русским старчеством может быть сформулировано следующим образом: прежней задаче по трансляции традиции внутри монашества пришла на смену новая задача по трансляции традиции во внешний мир .
Умное делание и творчество Достоевского
Евангельская цитата из Предания Нила Сорского не исчерпывает рецепцию традиции преподобного в «Подростке». Обращение Макара (именно в уста странника должна была быть вложена фраза «Кто не хочет трудиться, пусть тот и не ест») к теме физического труда лишь сопутствует основной «идее» героя, смысл которой - аскетизм. Поэтому Долгорукий-старший входит в роман со словами Иисусовой молитвы на устах. Во время выздоровления после болезни Подросток вдруг «ясно услышал слова: "Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас". Слова произнеслисъ полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всею грудью, и затем все опять совершенно стихло» (13; 283-284). Как оказалось, молитва и вздох принадлежали страннику Макару, поселившемуся в комнате матери и сестры Подростка. Описание Иисусовой молитвы содержится в Уставе Нила Сорского.
Иисусова молитва - это многократное повторение имени Христа. Обращение к Сыну Божию происходит главным образом в уме подвижника-исихаста, что дает название аскетической практике в целом - Умное делание. Это находит воплощение и в описании молитвы странника Макара, которая, по всей видимости, является продолжением внутренней речи героя. Умное делание обычно предполагает использование специальных поз и дыхательных техник, которые все же выполняют чисто служебную функцию. Нил Сорский допускает различные положения тела, тем более что Иисусова молитва в идеале должна стать постоянной, не прекращаясь даже во сне: «...глаголи прилежно, аще стоя, или седя, или лежа, и ум в сердце затворяя, и дыхание держа, елико мощно, да не часто дышеши»" . Следовательно, сам Подросток едва ли был способен догадаться о напряженной внутренней работе увиденного им «седого- преседого старика», который всего лишь «сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать» (13; 284).
Психосоматическая практика исихастов известна также под именем «христианской йоги». Однако аскетическая сторона Умного делания лишь способствует достижению собственно христианской цели — сведению ума в сердце, которое ведет подвижника к обожению. По замечанию С.С. Хоружего, «для обоих видов опыта, мистического и аскетического, зрелой развитой формой, доставляющей полноту их выраженности, является их соединенность -мистико-аскетическая традиция» . Иисусова молитва соединяет в себе обе составляющие христианской жизни, рассмотренные в настоящей работе: мистику богообщения и «труд православный» как аскезу. Неслучайно в современном богословии утвердился взгляд на вершинный характер Умного делания в истории восточно-христианской духовности. Как считает И. Мейендорф, «наследие исихазма, наследие духовной жизни, наследие, связанное с творением Иисусовой молитвы, является внутри самого Православия наиболее ценным и бесспорным»229.
Исследователи уже обращали внимание на обращение странника Макара к исихастской традиции230. Однако если источником Достоевского в этом случае служил именно Устав Нила Сорского, то писатель изменил средний член молитвенной формулы: «Боже наш» вместо «Сыне Божий». Именно вторая формулировка используется преподобным Нилом, переходя от первого писателя-исихаста к Паисию Величковскому и дальнейшей традиции: «подобает понуждатися молчати мыслию и от мнящихся помысл десных, и зрети присно во глубину сердечную, и глаголати: Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя, все; овогдаже пол: Господи Иисусе Христе, помилуй мя; и паки пременив, глаголи: Сыне Божий, помилуй мя; еже есть удобнее новоначальным, рече Григорий Синаит. Не подобает же, рече, часто пременяти, но косно. Прилагают же ныне Отцы в молитве, егда кто изречет: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, абие слово: грешнаго. И сие приятно есть Богу, наипаче же прилично нам грешным»231. Нил вскрывает духовный смысл каждой из молитвенных формул, однако обращение к Христу как Сыну Божьему остается неизменным.
Вполне возможно, что Достоевский был знаком с Иисусовой молитвой из других источников. Однако догматическое своеобразие христианской системы писателя диктовало такую божественную иерархию, в которой Сын Божий становился «заменой» Святой Троицы (см. 2.3.3). Не менее симптоматично и окончание молитвы Макара: «нас» вместо «меня». Молитва как заступничество перед Богом за другого является краеугольным камнем идеологии странника, противопоставляющего мнимому «эгоизму» подвижников приносимую ими «пользу». Наиболее выпукло этот мотив проявляется в специальном молитвенном наставлении, которое Макар дает Подростку: «Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: "Помилуй, Господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться". Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках, еще живущих: "Господи, ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаянных", - это тоже молитва хорошая» (13; 310).
Вероятно, восприятие Иисусовой молитвы писателем было связано прежде всего с его размышлениями об ответственности верующего человека за пребывающий в грешном состоянии мир. В таком случае техника молитвы отступала на второй план. Странник не обращает внимание Подростка на значение обращения к Христу, как не упоминает об Умном делании и старец Зосима. Его молитвенное указание восходит к формуле Макара: «Запомни еще: на каждый день, и когда лишь можешь, тверди про себя! "Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших". Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом, - и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет» (14; 289).
Следует не согласиться с Р.В. Плетневым, который относит речь Зосимы к «религиозно-сентиментальному стилю делателей Иисусовой молитвы»232. Едва ли сентиментальность может иметь отношение к внутренней сосредоточенности исихастов. Но и описание Зосимой мистического экстаза качественно отличается от экстаза православного мистика. Как поясняет СМ. Зарин, «на высших ступенях "экстаз" состоит в отрешении не только от всяких определенных проявлений сознательной жизни, но в отрешении и от собственной личности, вследствие всецелого и безраздельного поглощения всей личности созерцанием Бога... Всякая личная жизнь как бы приостанавливается не только в духовных и психических, но и в телесных своих проявлениях» .
Описание аффектированных экстатических состояний в «Братьях Карамазовых» полностью обусловлено мистическим мировоззрением автора. Напомним, что оно предполагает существование сильной эмоциональной привязанности между человеком и Христом как Богом. Иначе говоря, в центре духовной жизни героев Достоевского стоит образ Христа. Между тем «православная мистика безобразна, и таковым же является и путь к ней, т.е. как молитва, так и богомыслие, которое не должно стремиться к человеческому боговоображению, если сам Бог не возбуждает образа в человеке. Соответственно этому характеру православной мистики в молитвенной жизни для нее главны средством является Имя Божие, призываемое в молитве» . Это суждение С. Булгакова позволяет понять, что христоцентризм Достоевского в своїй основаниях противоречит практике Иисусовой молитвы.