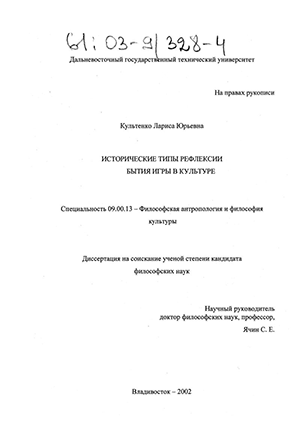Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблема возможности возникновения темы Игры в пространстве культуры с. 16
1.1 Место игры в архаических культурах. Ритуал и «игра-в-себе» с. 17
1.2 Условия возникновения темы игры в философии: Древняя Греция с. 38
1.3 Игра как взаимосвязь онтологического и политического принципов: древнегреческая философия. «Игра-в-себе» с. 51
Глава II. Рождение игры как проблемы в классической философии: кон. XVIII-XIX в. с. 67
2.1 Условия возникновения проблемы игры в пространстве культуры кон. XVIII-XIX в. Антиномия: игра и труд с. 68
2.2 Игра как эстетическая очевидность и скрытый принцип структуры культурного модерна с. 81
2.3 Классическая рефлексия игры как «игры-для-себя» в поле субъективности и антропологии с. 91
Глава III. Неклассический разворот игры как тотальной философской проблемы (кон. XIX-XX в.) с. 106
3.1 Утверждение игрового начала как универсального принципа современной культуры с. 107
3.2 Игра как универсальная форма бытия знания в современной культуре с. 126
3.3 Игра как феномен свободы и подавления в философии XX в. с. 147
3.4 Правило и повторение в структуре игры: онтологический разворот проблемы с. 171
Заключение с. 187
Список использованной литературы с. 193
- Место игры в архаических культурах. Ритуал и «игра-в-себе»
- Игра как взаимосвязь онтологического и политического принципов: древнегреческая философия. «Игра-в-себе»
- Классическая рефлексия игры как «игры-для-себя» в поле субъективности и антропологии
- Правило и повторение в структуре игры: онтологический разворот проблемы
Место игры в архаических культурах. Ритуал и «игра-в-себе»
В современной культурологии принято признавать исключительную роль игрового начала в архаических культурах. Начало исследованию генезиса культурных игровых форм положила знаменитая работа И. Хейзинги «Homo ludens». Суммируя приведенный в работе богатый этнографический и исторический материал, автор делает вывод: «Игра-состязание как импульс, более старый, чем сама культура, издревле заполняла жизнь и, подобно дрожжам, побуждала расти формы архаической культуры. Культ разворачивался в священной игре. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Мудрость и знание находили свое завершение в освященных состязаниях. Право выделилось из обычаев социальной игры. На игровых формах базировалось улаживание споров с помощью оружия и условности аристократической жизни. Вывод должен был следовать один: культура в ее древ-нейших формах «играется» [129 - с. 196]. И. Хейзинга опирается на ряд работ немецкого этнографа Л. Фробениуса (1873 - 1938), посвященных африканским культурам, где последний, рассматривая вопрос происхождения культовых ритуалов, приходит к утверждению их игровой формы.
Впрочем, подобный взгляд на архаические культуры не является неожиданным для западной мысли, не случайно существенных возражений идея Й Хейзинги не вызвала, научная мысль приняла ее практически как само собой разумеющуюся. Еще от Ф. Шиллера пошла традиция рассмотрения начальной точки вступления дикаря в царство человечности как «наслаждение видимостью, склонность к украшениям и играм» [136 - с. 343]. Идея синкретического слияния ранних форм искусства в игре также высказывалась неоднократно. В качестве наиболее авторитетных исследователей развивавших ее можно назвать К. Бюхера [18, 19] и А. Н. Веселов-ского [21, 22]. Не лишним будет также упомянуть часто встречающееся сопоставление дикаря и ребенка. Можно сказать, что подобное сравнение становится общим местом, стереотипной метафорой культурных текстов различного уровня. Таким образом, Й. Хейзинга несмотря на несомненную уникальность своей работы в данном вопросе не столько открывает, сколько завершает тему. Оригинальность этого завершения заключается не столько даже в том, что игра взята как ведущая тема исследования, сколько в том, что во главу угла ставится не то содержание культуры, которое разыгрывается, а непосредственно сама игра.
Итак, факт преобладания игровых форм в рамках архаических культур констатируется современной мыслью как бесспорный. Но на самом ли деле все так однозначно? Не пытаясь оспаривать выводов И. Хейзинги в целом, мы все же рискнем остановится на некоторых спорных моментах концепции игрового характера ранних культур.
В качестве двух основных аргументов этой концепции можно назвать следующие: во-первых, сопоставление магического восприятия реальности, свойственное первобытному человеку с восприятием мира ребенком в процессе игры; во-вторых, рассмотрение структуры культового действа по аналогии со структурой игры. Оба аргумента касаются так или иначе характера ранних культовых практик, но если первый аргумент подчеркивает их психологический аспект, то второй отмечает формальное сходство ритуала и игры. Обратимся к первому аргументу. Магическое восприятие реальности характеризуется принципиальной нерасчлененностью объекта и субъекта, психического и физического, в связи с чем первобытное мышление предполагает наличие партиципации (сопричастности) между человеком и окружающими его вещами. «В коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут быть одновременно и самими собой и чем-то иным. Они излучают и воспринимают силы, способности, качества, которые ощущаются вне их, не переставая пребывать в них» [65 - с. 62]. В качестве примера такой партиципации Л. Леви-Брюль называет отождествление тотемной группы с тотемом, выражением сопричастности является ношение масок во время церемоний и т. д. С другой стороны подобные особенности можно обнаружить и в детском мышлении. Л. С. Выготский, говоря об особенностях игрового поведения ребенка дошкольного возраста (этот возраст обозначается им как стадия игры), отмечает: «На стадии игры ребенок еще неустойчиво локализует свою личность. Он также легко может быть другим как и самим собой. Каждая вещь может принять любой облик» [29 - с. 325-326]. Л. Леви-Брюль, К. Коффка, и Ж. Пиаже уверенно характеризуют мировоззрение ребенка как магическое или мистическое.
Казалось бы, действительно признаки первобытного и детского способов мышления совпадают почти полностью. Поэтому сам собой напрашивается вывод о необходимости признать игровую природу культовых обрядов архаических культур. А поскольку культ является, собственно говоря, генетическим ядром данных культур, а также синкретической основой генезиса многих культурных форм, то игровой элемент в архаических культурах постепенно начинает осознаваться как доминирующий, в силу своей преимущественной по сравнению с другими элементами культуро-образующей значимости. И все же, несмотря на несомненное сходство между играющим ребенком и танцующим в маске первобытным охотником, разница во внутреннем восприятии ими своих действий есть. На эту разницу указывает тот же Л. С. Выготский, отмечая, что ребенок всегда отличает игру от серьезной деятельности, легко переходит из одной сферы в другую, никогда не путая их [29 - с. 326]. Того же мнения придерживаются и сторонники сосуществования в психике ребенка двух миров - мира взрослых и их собственного (Ж. Пиаже, К. Коффка). Игровой предмет входит в две несопоставимые по значению сознательные структуры, и если в одной он имеет неизмеримую ценность, то в другой он пренебрежительно отбрасывается и мгновенно забывается, стоит ребенку отвлечься от игры.
Необходимым условием возникновения игры Л. С. Выготский считает возникновение такой психической функции как воображение, что приводит к возможности создания мнимых ситуаций, которые являются не просто иллюзорными образованиями, а такими образованиями, иллюзорность которых очевидна для самого играющего ребенка. Это становится возможным на основе расхождения видимого и смыслового поля, появляющегося в дошкольном возрасте [28 - с. 65]. Большинство теоретиков детской психологии ставят под сомнение возможность классифицировать как игры такие действия, в которых субъект игры не осознает условности и мнимости игровой ситуации. Поэтому, скажем, К. Коффка говорит о том, что игры в собственном смысле слова нет ни у животных, ни у маленьких детей [32 - с. 286]. Л. С. Выготский, возражая против определения мировоззрения ребенка как магического, говорит о том, что данным термином можно обозначить только мироощущение, свойственное младенческому и возможно раннему возрасту. В это время у ребенка «еще не произошло формирования личности, и она совершенно слита с его мировоззрением, проявляется в его действиях» [29 - с. 321]. Ж. Пиаже называл эту стадию парадоксальным состоянием солипсизма - с одной стороны ребенок находится во власти внешних вещей, а с другой стороны внешние вещи в его поведении совершенно не отличаются от процессов, происходящих в его собственном теле [29 - с. 321].
Игра как взаимосвязь онтологического и политического принципов: древнегреческая философия. «Игра-в-себе»
Впервые мотив игры как некоего способа бытия космоса встречается у Гераклита, в одном из фрагментов сказано: «Вечность - ребенок, забавляющийся игрой в шахматы: царство ребенка» [79 - с. 46]. Для того, чтобы осознать в полной мере емкость этого образа, необходимо коротко затронуть способ осознания идей вечности и времени, свойственный для античной культуры. Эпоха античности в целом может быть охарактеризована, как аисторическая. О. Шпенглер отмечает, что: «... в земном сознании эллина все пережитое, не только свое личное, но и прошлое вообще, тотчас же превращалось в некую безвременно неподвижную, мифически оформленную подоплеку ежемгновенно протекающего настоящего...» [141 - с. 135]. Понятия прошлого и будущего не имеют для человека античности никакого специфического значения, любая завершившаяся история начинает сливаться в сознании грека с мифом, а всякое событие замыкается на структуру первособытия - античное время сворачивается в ритмически воспроизводящиеся циклы. Замкнутое в цикл время и есть вечность.
Отсутствие интереса к земной истории сочетается с отсутствием исторических и временных модусов в понимании космоса. О. Шпенглер пишет: «То, что грек называл космосом, было картиной мира не становящегося, но сущего» [141 - с. 136-137]. Мир становления не признается греческой философией в качестве подлинного. В вечности же ничего не меняется, пульсация космических циклов это не изменение, а вечное повторение: «Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создан никаким богом и никаким человеком, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами потухающим» [79 - с. 44]. Космос заполнен и не содержит пустот, поэтому, образ игры у Гераклита и Платона не случаен, ведь в таком мире единственно возможное движение - это движение замкнутое на себя (вперед и назад, по кругу), повторяющееся, а такое движение представляет собой простейшую структуру игры.
Вечность не допускает присутствия в себе смерти, конца, у Гераклита говорится: «Общи начало и конец у периферии круга» [79 - с. 50]. Таким образом, в вечность не допускается история, которая есть «...прежде всего, преодоление смерти, только и создающее непрерывность исторического времени. В игровом хронотопе нет смерти, а поэтому нет и опыта ее преодоления...» [94 - с. с. 138]. Игра не знает смерти как раз по причине своей обратимости на себя - она не имеет цели за пределами самой себя, не нацелена ни на что помимо себя и, следовательно, как бы «не может» завершиться. Поэтому любой акт игры есть своеобразный осколок вечности, его завершение подобно не смерти, а затуханию гераклитовского огня, всегда готового вспыхнуть вновь. Кстати, в качестве одной из важнейших причин исчезновения мотива игры в средневековой литературе может быть названо утверждение исторического сознания в христианской культуре. Мир, понятый как история, без сомнения, с трудом может быть по-мыслен в терминах игры.
Замкнутость космического цикла обусловлена наличием двух противоположных сил - стремлением к разделению единого (Прокл в комментариях к «Тимею» называет его дионисийским) и стремлением к приведению частей к гармонии (аполлоническое) [71 - с. 303-304]. Первоединое в своем самоутверждении рождает инаковость и множественность: «В дио-нисийском восторге забывает оно себя самого и рождает из себя мир, эту вечную игру вечности с самой собой... Дионисийский восторг и безумная музыка экстаза зацветают аполлонийским мифом гармонии и вечно юного цветущего космоса, равнодушно и блаженно завершенной в себе неугомонной жизни» [71 - с. 304]. Хорошо известен мотив вражды противоположностей, столь часто встречающейся в античной философии, так Гераклит утверждает: «Следует знать, что война всеобща, и правда - борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости» [79 - с. 48]. Несомненно, можно согласиться с Й. Хейзингой в том, что этот мотив «...корреспондирует с антитетическим и агональным устройством раннего общества. Люди испокон веку привыкли мыслить все сущее в дуализме противоположностей, видеть во всем господство состязательности» [129 - с. 137]. Эмпедокл называет в качестве двух противоположных принципов, управляющих миром, «pilia» (связь, склонность, симпатия) и «neikos» (спор, распря, вражда), Гесиод упоминает добрую Эриду, наряду со злокозненной [129 - с. 137]. Однако в этой агональности мирового процесса не стоит усматривать реального развития, подобно тому, как социальный агон не нацелен на продуцирование новых моделей поведения. Греческий космос, разумеется, не статичен, но его динамика не предполагает возникновения, либо исчезновения чего-либо, это игра длящаяся по раз и навсегда установленным правилам. Космический агон является формой этой игры: «Враждующее соединяется, из расходящихся образуется прекрасная гармония...» [79 - с. 42].
Таким образом, мы видим, что миф о людях-куклах и богах-игроках, который излагается Платоном в его «Законах», не может рассматриваться как случайный пассаж. Тем более удивителен тот факт, что долгое время исследователи не обращали внимание на игровую мифологию, судя по всему воспринимая ее как малозначительную деталь. На самом деле едва ли случайно Платон возвращается к теме игры в разных местах диалога, тема эта настолько уместна для античной онтологической модели вообще, что А. Ф. Лосев считает ее естественным продолжением учения об идеях. Он пишет: «Всякий замечал, что это учение, при всей его глубине и серьезности, отличается удивительной легкостью, игривостью, как бы беспредметностью. Платон как бы играет антиномиями, радуется и блаженст вует в этой сплошной логической эквилибристике... Это тот блаженный смех, в котором пребывают гомеровские боги на Олимпе... В этом статуарном бытии все вечно, все постоянно и невозмутимо... На этой духовной пластике выросли знаменитые «афинейские плетения», вся эта риторика и диалектика, вся эта страсть к судам, базару, к произнесению речей и ораторскому искусству» [74 - с. 656].
Обратимся теперь к самому мифу. Платон говорит: «Представим себе, что мы, живые существа, - это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью, ведь это нам неизвестно; но мы знаем, что внутренние наши состояния, о которых мы говорили, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока» [97 - с. 108-109]. Как видим, Платон предпринимает попытку сопоставления внешних и внутренних игровых структур. Агон переносится им в сферу морального поведения, однако «состязание» нитей добродетели и порока есть не что иное, как зеркальное повторение движений, производимых богами-игроками, отражение вечной игры бытия. Подобная трактовка внутренней душевной жизни весьма далека от представлений, характеризующих сферу личности, но это и не удивительно - тот тип человека, который предстает перед нами в гомеровском эпосе и в дальнейшем выступает своего рода культурным архетипом, - «... не самодостаточная величина, он сосредоточие внешних сил и воль. Когда герой после взвешивания альтернатив, приходит к решению, он чувствует, что оно задано богами» [50 - с. 53].
Классическая рефлексия игры как «игры-для-себя» в поле субъективности и антропологии
Вся приведенная выше аргументация напрямую подводит нас к необходимости вкратце остановиться на принципе субъективности или, говоря словами М. Фуко, на том открытии «трансцендентального поля субъективности», который с необходимостью начинает обеспечивать познавательные синтезы новой европейской эпохи, начиная с конца XVIII в., что является как бы оборотной стороной открытия труда и примыкающих к нему квази-объектных эмпиричностей [122 - с. 275]. Подробное рассмотрение этого вопроса представляется нам излишним, поскольку как справедливо заметил М. Хайдеггер «...звучит чуть ли не общим местом, если мы, например, упомянем, что метафизика Нового времени отмечена особой ролью, которую в ней играет «субъект» и аппеляция к субъективности человека» [125 - с. 111]. Однако нельзя не отметить той «странности» новоевропейского субъективизма, на которую обращает внимание М. Хайдеггер.
В работе «Европейский нигилизм» он пишет: «Само новоевропейское определение человека как «субъекта» тоже не так однозначно, как соблазняло бы думать расхожее употребление понятий «субъект», «субъективность», «субъективистский» [125 - с. 117]. Проблема заключается в том, что латинское sub-iectum означает «...под-лежащее и лежащее-в-основе, само собою заранее уже пред-лежащее» [125 - с. 118]. Таким образом, «...вплоть до начала новоевропейской метафизики у Декарта, и даже еще внутри самой его метафизики все сущее, поскольку оно есть сущее понималось как sub-iectum... Через Декарта и после Декарта «субъектом» становится в метафизике преимущественно человек, человеческое «Я» [125 - с. 118]. В начале новоевропейской эпохи происходит как бы радикальная подмена понятия, в силу чего в качестве пред-лежащего основания начинает мыслиться исключительно человек, сущее же как таковое отодвигается на второй план научной картины мира и занимает роль безмолвного «объекта». Центральный вопрос метафизики: «Что есть сущее?» - превращается в вопрос о методе поиска истинного знания о сущем, о непоколебимом основании истины [125 - с. 118], каким и оказывается чело веческое «Я», и, таким образом, метафизика превращается в антропологию.
М. Хайдеггер пишет: «В начале новоевропейской философии стоит тезис Декарта: ego cogito, ergo sum... Всякое осознание вещей и сущего в целом возводиться к самосознанию человеческого субъекта как непоколебимому основанию всякой достоверности ... Ницшевское учение, делающее все, что есть и как оно есть «собственностью и произведением человека», осуществляет лишь предельную развертку ... декартовского учения, по которому вся истина восходит к самодостоверности человеческого субъекта... Недаром сегодня одна мысль доступна всем, а именно антропологическая, требующая, чтобы мир был истолкован по образу человека, а метафизика заменена антропологией» [125 - с. 11-112]. Более того, в учении о воли к власти Ф. Ницше на место метафизики становится не просто антропология, но психология, когда в основание сущего помещается «психическое», т. е. некая утверждающая себя самость, осколок живого. Так метафизика в конечном итоге превращается в «психологию», в которой «психология» человека имеет, конечно, исключительное преимущество [125-с. 78].
Недаром XIX век - это время возникновения психологии как научной дисциплины и век психологизации философского и гуманитарного знания. Интересующая нас проблема монополизируется как предмет изучения эстетикой и психологией, при этом хронологический приоритет эстетических теорий несущественен в силу крайнего психологизма содержания этих теорий. Образно говоря, психологизм утвердился раньше самой психологии, им и объясняется не вполне очевидная связка эстетики и психологии XIX в., которая возникает когда речь заходит об игре-искусстве. Основа последнего располагается исключительно в особом субъективном переживании или психической фикции, присущей сознанию творящего или воспринимающего. И. Кант говорит об игре исключительно в контексте анализа суждения вкуса. Собственно сам образ игры появляется как средство разрешения некоторого парадокса, который заключается в том, что суждение вкуса, с одной стороны субъективно и основано на чувственном удовольствии, которое не может носить общего характера, с другой же стороны оно обладает сообщаемостью и общезначимостью. В связи с этим возникает вопрос о возможности суждения вкуса: «Как возможно суждение, которое позволяет нам исходя только из собственного удовольствия от предмета независимо от его понятия, априорно, не дожидаясь одобрения других, предполагать, что это удовольствие, связанное с представлением о данном объекте присуще каждому субъекту?» [60 - с. 129]. Поскольку понятие в данном случае не может быть основой общезначимости, то такой основой выступает некоторый общий для всех способ представления предмета эстетического наслаждения, выступающий в образе свободной игры познавательных способностей. И Кант пишет: «Субъективная всеобщая сообщаемость способа представления в суждении вкуса, поскольку она должна иметь место без того, чтобы ей было предпослано определенное понятие, может быть только душевным состоянием при свободной игре воображения и рассудка» [60 - с. 55].
На первый взгляд мотив игры возникает у И. Канта совершенно из ниоткуда, будучи основанием эстетического переживания, сама игра остается абсолютно безосновна, также и в том смысле слова, что понимается как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в определении. Действительно И. Кант не видит никакой необходимости в том, чтобы пояснить, что же он понимает под игрой и почему он предпочел этот образ всем остальным возможным. Кантовская игра - это именно образ, отсутствие определения не дает возможности говорить о ней как о понятии; понятием требующим пояснения и подлинного обоснования является не «игра», а продуцирующее ее «суждение вкуса». На самом же деле появление игры в контексте кантовской мысли не может быть случайным. Только такой способ представления как представление в игре дает возможность особого использования правила, которое сопрягалось бы с воображением и удовольствием. Более того, удовольствие достигается здесь в результате подчинения правилу, которое направляет воображение так, что оба этих элемента пребывают в гармонии друг с другом. И. Кант пишет: «Это субъективное (эстетическое) суждение о предмете или представлении, посредством которого дан предмет предшествует удовольствию от него и служит основанием удовольствия от гармонии познавательных способностей; на этой всеобщности субъективных условий суждения о предметах только и основана всеобщая субъективная значимость благоволения, которую мы связываем с представлением, называемом нами прекрасным» [60 - с. 55].
Игра, таким образом, это особое гармонично упорядоченное динамическое сочетание познавательных сил, участвующих в представлении чего-либо, и поскольку сама возможность такого сочетания относится к априорным формам сознательной жизни, то, следовательно, игра выступает у И. Канта исключительно как один из способов представления, доступный познающему субъекту. Другими словами: «...эстетическое суждение соотносит представление, посредством которого дан объект только с субъектом и позволяет обнаружить не свойства предмета, а лишь целесообразную форму в определении способностей представления, занимающихся этим предметом» [60 - с. 56].
В этом же направлении развивает свои идеи Ф. Шиллер. Эстетическая игра, о которой он говорит, есть исключительная привилегия человеческого существования и факт наличия особой взаимосвязи субъекта с реальностью, ключевым понятием к осознанию которой является понятие «видимости». Ф. Шиллер видит в последней ключ к пониманию антропогенеза, он пишет: «...равнодушие к реальности и внимание к видимости является истинным расширением человеческой природы и решительным шагом к культуре» [136 - с. 343-344]. Возникновение внимания к видимости является доказательством относительной свободы человека от наличной ситуации его бытия и свидетельствует о появлении автономного субъекта творческого действия, что Ф. Шиллер выражает девизом: «Реальность вещей - это их дело, видимость вещей - это дело человека» [136 - с. 344].
Правило и повторение в структуре игры: онтологический разворот проблемы
Л. Витгенштейн представляет правило языка, что в контексте его размышления тождественно игровому правилу, как нечто обладающее абсолютной императивностью, намного превышающей повелительную силу юридических и нравственных законов. Он пишет: «Наш язык изначально рисует какую-то картину. Очевидно ее нужно исследовать, если мы хотим понять смысл наших высказываний. Но картина кажется нам чем-то таким, что снимает с нас необходимость этой работы; она уже указывает нам определенное применение. Таким образом, она берет нас в плен» [25 - с. 269]. Но завороженность языком никем не воспринимается как плен, что существенно отличает правило языковой игры от правила, чей искусственный характер осознается. Как бы не было сурово такое установленное правило, человек, зная его социальное происхождение способен дистанцироваться по отношению к нему. Другое дело с правилом языка, поскольку естественная установка сознания склонна воспринимать его как естественный же порядок вещей, поэтому сознательные защиты от устойчивых форм словоупотребления кажутся излишними. Говоря словами Л. Витгенштейна: «Мы не ждем с напряжением, когда правило нам что-то скажет. Оно всегда говорит нам одно и то же, и мы выполняем то, что оно диктует нам» [25 - с. 168].
Главная причина такой повелительности языка, состоит в его способности упорядочивать мир, а склонность к упорядочиванию является безусловным свойством разума, почему в частности Л. Витгенштейн отмечает, что наблюдающий игру всегда способен выделить ее правила, не зная их изначально [25 - с. 105]. Само обучение речи (примитивная языковая игра), он, основываясь на Августине, описывает, как процесс передающий, именно правило, что выражается в повторении за учителем, серии типовых высказываний [25 - с. 80-81].
Можно сопоставить вышесказанное с соображениями П. Бергера и Т. Лукмана относительно установки сознания применительно к правилам, конституирующим повседневную реальность, отношение к которой наименее рефлексивно, поскольку все другие реальности (наука, искусства, религия) проблематичны, только повседневная реальность представляется безусловной. В работе «Социальное конструирование реальности» мы читаем: «Я полагаю реальность повседневной жизни как упорядоченную реальность. Ее феномены уже систематизированы в образцах, которые кажутся независимыми от моего понимания и налагаются на него. Реальность повседневной жизни оказывается уже объективированной, т. е. конституированной порядком объектов, которые были обозначены как объекты до моего появления на сцене. Язык ... постоянно предоставляет мне необходимые объективации и устанавливает порядок, в рамках которого приобретают смысл и значение и эти объективации и сама повседневная жизнь» [13 -с. 41].
С другой стороны упорядочивание жизненно необходимо, поскольку означает обретение некоторой власти над обстоятельствами. В конечном итоге воля к власти парадоксальным способом приводит к подчинению диктату языка: «Нас берет в плен картина, и мы не можем выйти за ее пределы, ибо она заключена в нашем языке, и тот как бы нещадно повторяет ее нам» [25 - с. 128]. Мы принимаем способы представления, свернутые в правилах нашей языковой игры за фактическое положение вещей, онтологизируя искусственный порядок языка. А поскольку язык остается тем же самым, постольку он вновь склоняет нас к постановке одних и тех же вопросов и к тем же решениям [24 - с. 426]. Призвание философии Л. Витгенштейн видит поэтому, прежде всего, в борьбе против зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка [25- с. 126].
В то же время важнейшей особенностью языковой игры является присущая ее правилам неопределенность, поскольку, как отмечает Л. Витгенштейн, употребление слова не всецело определяется правилами [25 - с. 112], что, впрочем, касается и любой другой игры. Более значительный акцент на идее неопределенности правил языковой игры делает Ж.-Ф. Лиотар, правда речь идет почти исключительно о научной языковой игре. Он также констатирует властную природу правила: «Эти правила являются требованиями, по крайней мере, некоторые из них. А требование разновидность предписания» [70 - с. 105]. Однако здесь же отмечается, что их происхождение не является естественным, правила языка не могут быть доказаны, являясь результатом консенсуса между экспертами. Консенсус сам по себе не является показателем истины, однако же, именно он придает высказываниям легитимность, а, следовательно, и принимается за истину [70-с. 65].
Консенсусная природа языковой игры имеет двойной смысл. С одной стороны, она допускает автономию игроков, придает им некоторую власть над правилами. Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар:«...даже самый обездоленный никогда не бывает лишен власти над сообщениями, которые проходят через него и его позиционируют... Ибо его перемещение относительно эффектов этих языковых игр... допускается - по меньшей мере, в определенных пределах, которые к тому же весьма расплывчаты» [70 - с. 45]. Речь идет о гибкости, вариативности правил и, соответственно, сам консенсус приобретает характер процесса. Ж.-Ф. Лиотар указывает: «Сегодня нам известно, что граница, которую ставит институция потенциалу языка, на «деле» никогда не была установлена... Эта граница сама скорее является промежуточным результатом и ставкой языковых стратегий, применяемых как в, так и вне институций» [70 - с. 50], Граница, фиксирующая правило, становится незыблемой, если перестает быть ставкой в игре.
Таким образом, ситуация постмодерна предполагает, что основной целью игры является установление правил, это обстоятельство, разумеется, говорит в пользу свободы игрока. Но, с другой стороны, сама игра за установление правил не является полностью очевидной, и действия большинства игроков носят в их собственном понимании псевдоестественный характер. Действительно реальные открытость знания и свобода действия имеют значение только в том случае, если человек способен увидеть различные возможности осуществления знания и действия, в противном же случае игра выступает перед ним в свернутой форме, не предполагающей духовного факта свободы. Парадокс в данном случае заключается еще и том, что скрытой оказывается не только свобода, но и собственно само подчинение, поскольку агентам действия положение вещей представляется как результат их индивидуального выбора.
Идея невидимой власти развивается М. Фуко в его концепции дисциплинарного общества. Современный тип общества предполагает, согласно этой концепции, такую форму власти, которая воздействует на свои объекты не напрямую карательно, а косвенно, посредством нормализации человеческих отношений, через воспитательные, образовательные, корректирующие институты (школа, фабрика, армия, больница, тюрьма) [102 - с. 250]. В таком обществе, как указывает Г. Маркузе, индивиды «хотят» именно того, что нужно системе для достижения наибольшей результативности [150 - с. 208], а то, что их вынуждает «хотеть» абсолютно невидимо. Невидимость власти лучше всего поддерживается иллюзией личностной автономии. М. Фуко говорит по этому поводу о ловушках, выставляемых властью, одна из ловушек как раз и состоит в том что «...стать субъектом означает стать субъектом Субъекта, т. е. принять необходимые правила подчинения, имя, место, время, память» [102 - с. 232]. Речь идет о заданности переживания человеком своей субъективности, позволяющей в действительности сделать только однозначный выбор. М. Фуко говорит, в частности о структуре языка, который предполагает обязательное наличие субъекта высказывания, некоторого пустого «я», предполагающего возможность его присвоения любым носителем языка [102 - с. 233].
Таким образом, характерные для современной культуры языковые и социальные формы игры представляют собой, так сказать, дважды свернутую структуру. С одной стороны субъекты игрового действия часто не осознают условного характера своих коммуникаций, полагая правила своих поступков и принятые на себя роли вполне естественными. С другой стороны любой современный человек искренне считает себя свободным в ситуациях, которые носят предданный его воле характер, т. е. игрок, полагающий себя драматургом, чаще всего исполняет сценарий в некоторых заданных рамках, загоняет себя в ловушку сложившихся обстоятельств и однозначных выборов. Другими словами там, где действие выглядит как свободная игра, мы вновь имеем контролируемую игру, захватывающую в плен игрока, благодаря невидимому, но строгому правилу, которое должно быть имманентно игре.