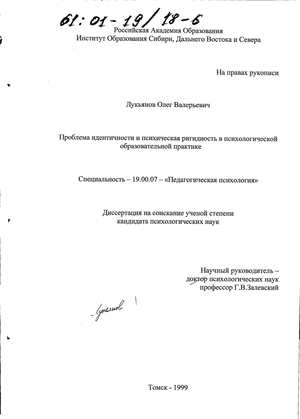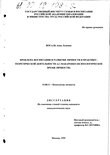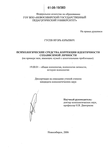Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Рабочая модель психологического пространства самоопределения и идентичности 23
1.1. Методологические основания для построения психотехнической модели 23
1.2. Система координат рабочей модели 31
Глава 2. Психическая ригидность в установках достижения идентичности 35
2. 1. Феноменологические описания установок на достижение идентичности в контексте организации воспитывающего, образовательного, развивающего воздействия 36
2.2. Феноменологический анализ идентичности как способа существования. Идентичность и психологическая зрелость. Подлинность идентичности психологического возраста 72
2.3. Феноменологический анализ идентичности как позиции принятия другого. Идентификация себя как себя с другими 105
Глава 3. Практическое и теоретическое применение результатов исследования 113
3.1. Интуиция и идентичность. Интенсивное психологическое воздействие в контексте образовательного процесса 113
3.2. Интенсивное психологическое воздействие 112
3.3. Тренинг социально-психологического самоопределения 126
3.4.Теоретическое применение результатов исследования 137
Заключение 144
Библиографический список используемой литературы 148
Приложение 152
- Методологические основания для построения психотехнической модели
- Феноменологические описания установок на достижение идентичности в контексте организации воспитывающего, образовательного, развивающего воздействия
- Интуиция и идентичность. Интенсивное психологическое воздействие в контексте образовательного процесса
Введение к работе
Актуальность.
Процесс перехода мировой образовательной системы к новым парадигмам вызвал необходимость психологизации образования. В образовательном пространстве России, на фоне современного социально -экономического кризиса, усиливающего кризисы личностного порядка, психологизация образования ставит ряд проблем, которые до этого либо вовсе не проявляли себя, либо находились в тени других проблем, казавшихся более актуальными.
Слом социальных и профессиональных ценностей и установок, «ценностный нигилизм» представителей активно работающего поколения, меркантилизм, проникающий в гуманитарные профессии, утеря смысловых координат бытия - все это усложняет прохождение человеком естественных кризисов идентичности (Эриксон Э., 1996), которые фиксируются в неаутентичные формы существования, приводят к деструкции (распаду, трансформации, искажению) самости (Дмитриева Н.В., 1999), потере чувства подлинной идентичности (Бьюдженталь Д., 1998), спутанности и диффузности психосоциальной идентичности (Эриксон Э., 1996), патологиям воли (Мэй Р., 1997), потере способности человека относится к себе рефлексивно (Габермас Ж., Тэджфел X., Брейкуэлл Г., 1976), усилению психологического отчуждения (Каган В.Е., 1996). Образованный и дипломированный психолог не всегда подготовлен к участию в решении проблем, связанных с личностной идентификацией людей, втянутых в естественные социально - психологические процессы, и особенно в образовательные, что определяет специфическую «наивность» психологического образования и практики (Василюк Ф.Е., 1992). При том, что проблемы личностной идентичности остаются сверхсложными - их нельзя упростить и нельзя гарантированно снять каким либо специальным образованием, и школьному и вузовскому психологу необходима подготовка для квалифицированного участия в решении подобных проблем.
Кроме того, сложность проблемы личностной идентификации не означает обреченности погружения в деструктивные процессы. Одной из целей данного исследования является доказательство того факта, что взаимодействие специально подготовленного психолога с субъектами образовательного процесса может приводить к позитивной трансформации идентичности человека, инициируя и облегчая процесс жизненного самоопределения, актуализируя или формируя мотивы самодвижения и самореализации в профессионально-педагогической и учебной деятельности. Такое взаимодействие может создавать зону ближайшего развития для обоих субъектов - как психолога, так и того с кем он взаимодействует.
Эффективная работа психолога и эффективная его подготовка к работе в указанной сфере должна обеспечиваться как солидным теоретическим, так и выверенным психотехническим обеспечением. Противоречие же подготовки психолога заключается в том, что проблема личностной идентичности не может быть адекватно поставлена и решена в рамках только естественнонаучного подхода. В ней превалирует экзистенциальный аспект, факторы внутренней детерминации, феноменологический план. Проблема идентичности требует интегративных, антропологических и гуманитарных форм знания (Брушлинский А.В., 1997). Гуманистическая (и гуманитарная - Братусь Б.С., и др.) парадигма и парадигма естественнонаучного подхода сближаются между собой (Леонтьев Д.А., Зинченко В.П. и др. 1994), но пока они не пришли к общему знаменателю. Замысел данной работы и заключался в том, что бы на предмете решения конкретной проблемы, показать возможность соотнесения и взаимодополнения методов и практик двух сближающихся «психологии» в процессе создания работающей модели психологического пространства идентичности, доступной психологу в контексте и процессе образования, как в теоретическом плане, так и в плане понимания им психотехнического обеспечения его профессиональной деятельности.
На необходимость такого сближения указывал Г.Оллпорт, предлагая принцип системного (конструктивного) эклектизма (Оллпорт Г., 1960). Он же отмечал и актуальность современного экзистенциализма, как одной из возможных концептуальных основ эклектической теории, в силу того, что «экзистенциальная точка зрения - наиболее всеобъемлющая из всех ныне существующих» (Ван Каам., 1963) и что «гораздо более продуктивно соотносить частные образы со всей целостностью человеческой экзистенции», нежели «изолированные аспекты человеческого поведения» с чем-то внечеловеческим - с низшими животными, с математическими переменными, с машинными моделями.
Постановка проблемы и ее теоретическая разработанность.
Повышение качества психологического образования и подготовки психологов связано с теоретическими практическим обеспечением их способности решать проблемы, связанные с идентичностью. В сложном и трудном пространстве обыденной действительности, психолог встречается с неопределенной, спутанной, диффузной идентичностью, когда и он сам не уверен в смысле своего нахождения в ситуации, и когда его собеседники не отдают полного отчета в вопросе «кто есть кто здесь и теперь?». Когда не достаточно ясно идентифицируются и субъекты, и объекты психической реальности, и их связи. Недостаток определенности, тревога вызванная этим недостатком, компенсируется психическими средствами (Хорни К., 1998), в частности ригидизацией процессов восприятия и осознания, или даже личности в целом (Залевский Г.В., 1993). Человек, как правило, не может контролировать ригидность «сам с собой», ему необходимо участное общение, коммуникация (Кабрин В.И., 1999), что, вероятно, и должен обеспечить практический психолог (Роджерс К., 1994). Но одна из проблем психологической образованности заключается в том, что сам психолог во многих отношениях «ригиден», фиксирован на своих ожиданиях и образах собственного Я, что мешает ему быть реально более психологичным в своей деятельности. Ригидная абстрактность, отвлеченность и не феноменологичность (не бытийность) часто бывает характерна и для профессиональной позиции человека и для предметов научного знания.
Проблема фиксированной, но не проживаемой по настоящему, идентичности не является новой (Эриксон.Э, 1996), попытки ее решения предпринимались множеством психологов в рамках исследований психологии личности, психосоциального развития, психологии и педагогики самоопределения (Попов А.А. и др., 1997), психотерапии.
Но, при множестве наработок проблема идентичности сохраняет свою актуальность, так как отражает все сферы жизни и понимания человеком самого себя. В проблеме идентичности отражается:
- Противоречивость мировоззрений, незаконченность философского спора о сознании (Мамардашвили М.К., 1984).
- Противоречивость индивидуального, социального и духовного в практике психологического образования. Противоречивость необходимости иметь убедительную систему и теорию (высокий уровень абстракции знаний), и необходимость непосредственной связи с реальным, неизвестным, новым, изменяющимся.
Противоречивость проблем воли и волевого регулирования, амбивалентности измененных состояний сознания, дуализма субъекта и объективной действительности.
На уровне мировоззрения разработанность проблемы представляется следующим образом:
Понять идентичность как тождество неких сущностей не позволяет тайна, которую представляет собой само сознание. Предполагая сознание чем-то закрытым, неким «вместилищем», «неразрешимой загадкой остается проблема соответствия предмета - представлению о нем» (Левицкий С.А., 1996), попытки «выпрыгнуть» из сознания для того, чтобы сравнить представление и предмет, противоречат логике и здравому смыслу (гноссеологическая проблематика).
Попытки осознать феномен идентичности как соответствия, тождества сознания - действительности (онтологическая проблематика) приводят к различным тезисам о субординации субъекта и объекта (материализм или спиритуализм), отказу от поиска этих соответствий (позитивизм). В большинстве случаев философский спор ведется по вопросу преодоления или принятия субъективности истины. Предполагая сознание открытым (интуитивизм) философы достигают построений о гноссеологической координации - равного значения субъекта и объекта, при четком различении их роли в познавательном акте. (Лосский Н.О., 1991). При этом указывается на сверхрациональный характер интуиции - «факта непосредственного обладания предметом в его подлиннике». В свете интуитивизма феноменологический подход к проблеме трансцендентности человеческого Я приобретает новые перспективы: постичь Я другого человека можно непосредственно разделив его точку зрения (Мамардашвили М.К., 1984).
Разрешение психологической противоречивости проблемы идентичности синхронистично с философской проблематикой. Начало нашего века, проблема идентичности - это проблема соответствия субъекта и культуры (Ницше Ф., Фрейд 3.,), конец века - соответствие интенциональности субъекта его выборам (Хайдеггер М., Роджерс К.,). В российской психологии проблема идентичности решалась через определение характеристик человека как субъекта деятельности, на основании анализа перцептивных процессов (Ананьев Б.Г., 1968). Структурная целостность идентичности понималась как согласованность функциональных, операциональных и мотивационных механизмов. На первый план выводились закономерности онтогенеза, социальная история личности, практическая деятельность. Феноменологически описывались и экспериментально подтверждались психические свойства индивида и личности, определяемые как высшая интеграция всех феноменов психического развития человека (психических состояний и процессов, потребностей, психофизиологических функций). При таком подходе проблема идентичности соответствует проблеме личностного развития (Эриксон Э., 1996). Соответственно изучаются вопросы структуры личности как соотношения содержательных тенденций (Мясищев В.Н., 1969), динамической функциональной структуры личности и соотношения ее особенностей и черт (Платонов К.К., 1965), «структуры психической жизни личности» формирующейся через упорядочивание динамических процессов на субстрате «природных свойств» (Ковалев А.Г., 1963). Можно заметить, что авторы большинства концепций отражают свои собственные или традиционные взгляды на субординацию субъекта и объекта. В советский период Российские психологи обосновывали свои построения различными объектами, «источники движущих противоречий надо искать в предметной деятельности субъекта» (Братусь Б.С., 1998), в последние годы предпринимаются попытки перемещения центра детерминации в изучение субъективной сферы (Брушлинский А.А., 1997). В целом проблема идентичности сводится к мотивационно - потребностным системам, опосредующим отношения субъекта и объекта. В этом направлении достигнуты значительные результаты по обобщенному пониманию проблем идентичности в различных аспектах: культурно - историческом, социальном, когнитивном, психофизиологическом, антропологическом и т.д., достигнуто значительное разнообразие объяснений причинно -следственных связей в переживаниях идентичности. (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Узнадзе Д.Н., Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Слободчиков В.И., Исаев И.Е.). Не достаточно решенными остаются вопросы практического применения имеющихся эмпирических данных, психотехнического обеспечения психологической деятельности, направленной на развитие личности (Василюк Ф.Е., 1992).
Психотехническая неразработанность проблемы, вероятно, связана с положением М.Хайдеггера об озабоченности предметным содержанием бытия и забвении самого бытия, что приводит к неаутентичному способу жизни, когда субъект вкладывает свое внимание в ожидаемое им знание о предметах, в знание «о них», фиксируясь на заранее выбранных характеристиках предметов, погружаясь в ответы на вопросы «почему?» и «какой?». При этом от осознания ускользает экзистенциальная данность, вмещающая в себя субъекта с его отношениями и установками и мир в постоянном обновлении и динамике. Рассуждения о характеристиках предмета скрывают сам предмет. Даже в научных работах часто корреляции явлений ищутся раньше, чем будет найден и внятно описан сам феномен (Ясперс К., 1997).
В большинстве современных научных работ феноменологическое знание признается лишь как начальный этап, но как только появляется нечто в некоторой степени «твердое», внимание исследователя переключается на устойчивые характеристики этого «нечто» и на его корреляции с другими «нечто». Но в психической реальности, в коммуникативном контексте, «твердое» и понятное сейчас превращается в нечто новое в следующий миг, вследствие изменения отношения субъекта (Узнадзе Д.Н., 1997; Ясперс К., 1997). Проблему не аутентичного существования теоретически и практически решают представители экзистенциального и гуманистического направления в психологии. Приоритет в этих исследованиях принадлежит зарубежным психологам (Л.Бинсвангер, М.Босс, К.Ясперс, Р.Мэй, К.Роджерс, Д.Бъюдженталь, И.Ялом, Маслоу и др.). При множестве различий, их работы объединяет усилие честно присутствовать в разворачивающемся мире экзистенциальных данностей, основные из которых определяются понятиями смерть, изоляция, тревога, абсурд, вина, вера, духовность, трансценденция и другие. Комплементарны им и взгляды многих российских психологов. Научная значимость этих ориентиров в том, что, будучи экзистенциальными, они оставляют психологу жизненную силу научного знания.
В связи с психологическим образованием проблема идентичности стоит перед психологами и педагогами как проблема релевантной человеческому существованию логики и системы верификации. Особое значение в этой связи придается категории смысла (Леонтьев А.Н., Клочко В.Е., Братусь Б.С., Франки В.). Можно отметить две тенденции в связи с изучением смысла: тенденцию мыслить конкретное абстрактно, достигая системности понимания жизни в виде законов на высоком уровне абстракции (Клочко В.Е., 1996), и тенденция мыслить абстрактное конкретно, «заземляя» высшие аспекты бытия в конкретные акты (Кочюнас Р., 1995). Для иллюстрации различий этих тенденций приведем цитату Льва Шестова. «Эмпирическое доказательство, конечно, неопровержимо, особенно ввиду того, что его столько раз уже проверяли по всевозможным случаям. Но объяснение никуда не годится или, проще говоря, нет никакого объяснения, так же как нет никакого объяснения тому, что из свекловичного семени никогда не вырастают ананасы, и что ни один луч никогда не шел по кривой. ... Мы ведь убеждены ... и думаем, что «метафизическая потребность» есть потребность «понять» жизнь! Этот предрассудок еще древнее, чем добродетель честности, и по крайней мере в тысячу раз живучей, чем все добродетели вместе взятые. ... Всякое, даже очевидно бессмысленное объяснение люди охотно принимают - только бы мир не имел таинственного вида. Они хотят «понять» жизнь, найти ее смысл, когда на самом деле, если что и нуждается в объяснении, то не жизнь, а «смысл», стало быть, если уже нужно объяснять, то не жизнь, в терминах смысла, а смысл в терминах жизни». (Шестов Л., 1993).
Методологическая теория в этом направлении связана с работами М.Хаидеггера, с его «фундаментальной онтологией», предлагающей решать проблему идентичности через соответствие бытия и времени, «бытие, имеющее место, всегда уместно. Таким же уместным оказывается и всякое из его изменений.» Тогда идентичность - это не столько проблема «вмещаемого» в событие, сколько «вмещения». «Вмещение - посылающая уместность». Методология М.Хаидеггера позволяет герменевтическим методом (интерпретируя речь и тексты) понимать идентичность человека. «Человек - это устоявший в захваченности присутствованием, однако так, что он принимает присутствие, имение Места, как дар, воспринимая то, что являет себя во вмещении присутствующего».
Цель и задачи исследования.
Целью предпринятого нами исследования было создание модели: - для описания и понимания феноменов сознания в переживаниях идентичности обучающихся психологии,
- для выявления психологических обстоятельств, порождающих смыслы ригидной идентичности,
- для систематизации психологической образовательной практики.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- Найти методологические основания, позволяющие обозначить психологическую реальность идентичности в виде хронотопа. Представить диспозиции идентичности, позволяющие описывать планы психологической реальности в виде системы координат в смысловом квазиизмерении жизненного мира.
- Описать феномены, составляющие переживание идентичности и смыслы ригидных установок достижения идентичности, тем самым представить содержание психологической реальности, обозначаемой с помощью данной модели.
- Соотнести реальность идентичности с формами неизбежных необходимостей различных планов жизни. Тем самым исследовать области смыслов и ответственности в проблеме достижения подлинной идентичности в контексте воспитательного, образовательного, развивающего воздействия.
- Провести феноменологический анализ переживаний идентичности как способа существования и достижения психологической зрелости.
- Провести феноменологический анализ переживаний идентичности в плане отношений, в связи с коммуникативной и транскоммуникативной необходимостью.
- Обосновать теоретическое и практическое применение модели для психологической образовательной практики. Разработать и представить систему интенсивного психологического взаимодействия по проблеме идентичности.
В практическом смысле предлагаемое нами исследование имеет целью выделить простые, достаточно «легкие» и обычные единицы в переживании и достижении идентичности, пригодные к тому, что бы строить интенсивное взаимодействие на обыденном легко доступном психологическом материале. Но выделение этих единиц не связано с редукцией и упрощением реальности, а вызвано необходимостью оперативного уточнения смыслов повседневных событий, то есть ведет как раз к усложнению и расширению сознания. Уточнять смыслы необходимо в связи с задачей верификации условий достижения подлинной идентичности, которые включают:
1. Интуитивное достижение субъектом уверенной идентичности.
2. Адекватную констатацию субъектом своей идентичности во времени и пространстве.
Эти условия обеспечиваются наличием внутренней системности (Клочко В.И., 1998), имплицитной концепции (Кабрин В.И., 1998) опредмечивания объектов действительности - ответственного превращения объектов действительности в предметы психический актов и деятельностей.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования являлась психологическая образовательная практика, представленная взаимодействием со студентами и слушателями образовательных курсов.
В исследовательские группы их объединял интерес к своему развитию. Они соглашались на сотрудничество, так как видели смысл в таких совместных усилиях, предоставляли свои рефлексивные отчеты, дневники, описания субъективного опыта. Большинство материалов использовалось для достижения прагматических целей психологической помощи, тогда результаты анализа использовались в устной форме, некоторые материалы подвергались тщательному научному исследованию, тогда суждения об опыте интерпретировались в связи с исследовательскими целями. Общее число людей, предоставивших свой опыт и принявших участие в групповой работе и консультациях, за семь лет составило более пятисот. Обстоятельства, в которых оформлялась работа, были различны: тренинги со школьниками - участниками программы «Философский клуб» (Мурашов А.Б., 1998), семинары по психологии со студентами факультета психологии ТГПУ, совместные исследования со студентами и слушателями в рамках курсовых и дипломных работ, консультации и динамические группы. Материал накапливался в виде текстов, отражающих психологический опыт. Данное исследование иллюстрируется шестью случаями, различными по своему характеру. Каждый случай является одним из целой серии подобных ему (одним из нескольких десятков сочинений, описаний субъективного опыта, тематических или свободных творческих произведений), встреченных, но не проанализированных в этой работе, из них иногда используются небольшие части, как и из обыденного опыта, зафиксированного в афористических суждениях. Можно заметить, что в связи с принятыми условиями исследования - изучение обыденных переживаний, материала, представляющего данные качественного характера собрано множество и может быть собрано еще больше, но при выбранном нами подходе, каждый случай требует очень большого количества времени, которое не может быть механистически сокращено. Иногда понимание опыта не достигалось целыми месяцами, анализ некоторых случаев проводился несколько лет, при этом отбрасывались десятки предположений и пониманий, пока не достигался консенсус с внутренним опытом исследователя и исследуемого. Было бы научно некорректно использовать материалы, которые не сопровождаются ясными описаниями контекста, которые не согласовывались с субъективным опытом, не выдерживали проверки временем. Для данной работы были выбраны случаи, удовлетворяющие данным условиям, анализ которых кажется нам убедительным на протяжении достаточного долгого времени использования в работе с различными людьми, анализ которых неизменно задевает других людей в соответствующих этим случаем контекстах.
Предмет исследования.
Предметом исследования являлась психологическая реальность идентичности, которую мы открывали феноменологически, как качественное знание на материале переживаний растерянности-собранности. Начиная с пересечений опыта растерянности у различных субъектов и в различных ситуациях, мы редуцировали весь психологический материал переживаний до устойчивых согласованных диспозиций и установок.
Гипотеза.
Мы предположили, что образованный психолог займет достойное во всех отношениях место, найдет себя, свое пространство и время в жизни и профессиональной деятельности, если:
- будет способен нести ответственность за свою инициативу в пространствах идентичности;
- сможет определять в пространствах идентичности предметы своей практики и теоретической компетенции;
- сможет осознанно относится к психической ригидности, которая приводит к ограничению возможностей согласовывания неизбежных необходимостей жизни с высшими аспектами человеческой природы;
- будет иметь достаточный опыт осознанных переживаний идентичности, который можно получить в повседневной жизни из осмысления состояний растерянности и собранности.
Методологические подходы и методы исследования.
Методологическим основанием для данного исследования являются:
- экзистенциальная психология - «эмпирическая наука о человеческом существовании, использующая метод феноменологического анализа» (Бинсвангер Л., Босс М., Ван Каам Э., Мэй Р., Бьюдженталь Д., Ясперс К. и ДР-)
- концепция системного (конструктивного) эклектизма - психология оперирования целостным представлением о действительности (Оллпорт Г., Левин К., Маслоу А., Роджрс К., Кабрин В.И., и др.)
- концепция гноссеологической координации Н.О.Лосского - концепция не субординации предмета - субъекту или наоборот, а координации, то есть «равенства субъекта и предмета познания, при четком различении их роли в познавательном акте» (Лосский Н.О., Левицкий С. А.)
На основании вышеназванных подходов мы предположили, что поставленная цель будет достигнута, если будут исследованы следующие сферы человеческого существования:
- сфера внутренних решений, определяющих сознание, составленная установками, спонтанностью, волей, настроенностью. Этой сфере соответствовал метод экзистенциального анализа. (Бинсвангер Л., Ясперс К., Франкл В.);
- сфера условий, определяющих сознание, составленная вовлеченностью, необходимостью, коммуникацией и траскоммуникацией. Этой сфере существования соответствовал метод системного анализа (Оллпорт Г., Кабрин В.И., Залевский Г.В.);
- сфера смыслов, реализующих целостность и непрерывность сознания, составленная реальными событиями. Этой сфере существования соответствовал метод феноменологического анализа (Giorgy А., 1970). Материалом исследования являлись тексты, анализы высказываний и суждений, проводившиеся в живом общении консультативного процесса или . групп опыта. Рефлексивные тексты подвергались феноменологическому анализу, творческие продукты (художественные тексты) - экзистенциальному (Франкл В., 1997; Morano D., 1973; Ясперс К., 1997). Систематизировать полученный материал позволило выделение психотехнических уровней:
1. Уровень анализа фактов, историй из индивидуальных случаев достижения чувства собственной идентичности.
2. Уровень анализа рефлексивных текстов, дневников, творческих продуктов с целью понимания психической реальности такой, какой она является субъекту переживания.
3. Уровень моделирования переживаний, аналогичных реальным случаям. Создания психотехнической ситуации, сущность которой состоит в том, что она вмещает в «здесь и теперь» идентичность психического события, случившегося в прошлом.
На каждом уровне осуществлялся поиск продуктивных парадоксов (Оллпорт Г., 1998) сознания, необходимых для выполнения главного условия верификации возникающих при попытках понимания гипотез -усложнение структуры сознания при обязательном внимании к смыслу:
1. Путем выделения отдельных психических феноменов, их дифференциации и объективации в типы и группы переживаний. Например, были выделены переживания утверждения, потери, прощения, заботы, обязанности и др.
2. Путем анализа психических связей. Выделялись: сущность диалогической интенции, характер установки, ригидность связи и др.
3. Путем анализа психических целостностей. Анализировалась идентичность в определенном плане психической реальности, в плане психической активности (бытие в физическом теле), в плане способа жизни (внутренний психологический мир), в плане отношений с другими людьми (Ясперс К., 1997; Кочюнас Р., 1996).
Основные методы нашего исследования - это качественные методы (идеографические), ориентированные на показатели, которые не могут быть измерены, а могут быть только субъективно констатируемы в качестве переживаний, таких как растерянность, собранность, уверенность, ответственность, благодарность, жалость и др. Измерением, в таком исследовании можно считать смысл события, элементами понимания -интенции актов и ответов, способом оформления знания - экспликацию. Позиция исследователя определялась как позиция включенного, участного наблюдателя и протагониста.
Основной методикой, если таковую можно определить в отношении подобных способов исследования, является система феноменологического анализа, описанная американским психологом A.Giorgy (1970). Для автора этой работы феноменологический анализ стал доступен благодаря обучению в Институте Экзистенциальной и Гуманистической психологии Литвы, представили метод профессор Римас Кочюнас и преподаватель Артурас Дялтува.
Основные этапы процедуры исследования можно обозначить так:
1. Формулирование вопроса о феномене. Вопрос должен быть открытым, стимулирующим рефлексию, вопросом об опыте, а не о мнении.
2. Сбор данных. Данными являются тексты, представляющие оформленный опыт. Анализ начинается с пересечений опыта исследователя и респондента.
3. Анализ данных или феноменологическая интерпретация. На этом этапе мы двигаемся от общего впечатления текста к конкретным смысловым частям, определяя смысл события таким, каким он является субъекту переживания.
4. Трансформация текста в психологический язык. Понимание достигается интуитивно и часто «на уровне жестов». Исследователь пытается «перевести» субъективный опыт, понятный одному человеку в термины, понятные всем. Достоверность трансформации текста достигается в беседах с респондентом, на основании достижения консенсуса, когда исследователь проверяет, понятна ли его интерпретация самому субъекту опыта и соответствует ли она его чувствам. Если интерпретация не находит соответствия, то исследователь возвращается на предыдущий этап, делает новую интерпретацию и снова уточняет. Мы должны признаться, что не все авторы текстов были доступны для согласования с ними наших интерпретаций, но тогда мы согласовывали их с другими людьми в подобных ситуациях. Поскольку мы имеем дело с тем, что считается нормой, повседневностью, обыденностью, мы считаем, что такая «замена» правомерна. Интерпретация считалась адекватной, если она была понятна другим людям и соответствовала их подобным переживаниям. Эта же процедура являлась и способом верификации теоретических результатов. 5. Представление результатов. Результатом является описание феноменов и субфеноменов. В данном исследовании найденные феномены представлены в виде топологической модели, отражающие планы или миро-проекты человеческого бытия-в-мире (dasein).
Положения, выдвигаемые на защиту:
1. Конструктивное решение проблемы идентичности в психологической образовательной практике нуждается в модели, представляющей субъекту структурную целостность взаимоотношений человека с миром и с самим собой, позволяющую регулировать имплицитные концепции согласования смыслов психологических новообразований и психологических базисов, регулировать значимость проявлений психической ригидности идентификаций.
2. Идентичность как онтологическая характеристика существования человека является комплексом «внутренних решений», установок по отношению к экзистенции, объективных условий и обстоятельств ситуации, смыслов событий. Конкретные значения идентичности могут быть представлены «квазиизмерениями» реальности: такими как смысл, воля, вера, ответственность и др. и могут быть зафиксированы конкретными фактами проявлений психической ригидности -флексибильности.
3. Проблема идентичности в психологической образовательной практике не может быть решена на основании только объективных характеристик, она требует от психолога осознанной вовлеченности в субъективную и транссубъективную реальность, то есть способности нести психологическую ответственность за свои установки по отношению к человеку. Следовательно, в процессе подготовки психолога необходима система воспитания ответственной вовлеченности в транскоммуникативный контекст, система критического контроля за фактами психической ригидности, изолирующей субъекта от ситуации фиксированными формами поведения.
4. Отражая идентичность (тождественность существования осуществляющемуся в событии осознанию) на фиксированные плоскости своих привычных представлений, субъект проявляет психическую ригидность, которая позволяет констатировать его идентичность в качестве образа, но при этом и ограничивает его коммуникабельность. Достижение большей аутентичности и большей психологической образованности связано с необходимостью проверки идентичности осознанной коммуникацией и транскоммуникацией.
5. Осуществить проверку идентичности (верифицировать осознание) позволяет психотехническая система координации смысла конкретных интенциональных взаимоотношений человека с действительностью (отношение к неизбежной необходимости) с фактами психической ригидности (фиксированной замены ясности осознания смысла на ясность осознания значений).
Достоверность исследования.
Результатом исследования является модель, предназначение которой -способствовать теоретической и психотехнической основательности в психологической практике. Убедиться в надежности модели, являющейся, в сущности, тщательно дифференцированной гипотезой, можно двумя способами: первый - проверить однозначность и повторяемость содержательных понятий и связей. Как правило, этот способ предполагает эксперимент. Использовать его на данном этапе не представляется возможным, так как феномены, выступающие в качестве переменных, не могут быть ясно определены (это бы противоречило сущности гипотезы и подхода) и разнообразие факторов настолько велико, что выделение одного фактора резко расширяет поле его смыслов, так как он начинает вмещать в себя и все остальные факторы. Перед экспериментальным этапом, вероятно, необходимо психолингвистическое и психосемантическое исследование, позволяющее установить диапазон тождественности смыслов переживаний используемым в модели понятиям. Кроме того, мы исследуем идентичность в контексте вовлеченности в процесс психологических новообразований и нам важно как субъект руководствуется именно гипотезами, установками, предположениями, а не знанием закономерностей.
Второй способ (реализованный в данной работе) предполагает, что любое гипотетическое знание не обладает однозначной достоверностью и гарантированной истинностью, но обретает смысл в практике его испытания и применения. Качество модели, в таком случае, определяется надежностью данных, которые были использованы для ее построения. Для создания данной модели использовались вербализации субъективного опыта, полученные в результате феноменологического анализа, афористические суждения, интуитивные и логические согласованности опыта. Объективность данных в феноменологическом исследовании определяется достижением консенсуса, непротиворечивостью субъективного опыта, отраженного в интерпретациях и вербализациях. Сама коммуникация в своей мультиперспективе является критерием истинности. Истинность в данном случае - это отсутствие абсурда, а не отсутствие вероятных ошибок. Теоретическое мышление позволяет нам двигаться от практической проблемы к продуктивной гипотезе, затем к попыткам практического решения проблемы через осознание смысла происходящего. В научной традиции такая верификация соответствует методам идеографического исследования (репрезентация случаев), герменевтического метода (анализ текстов), феноменологического метода (анализ событий относительно человеческого существования).
Следует отметить и ограничения достоверности, как данных, так и самой модели. Во-первых, это неподтверждаемость данных с точки зрения повторяемости, каждый материал уникален и является случаем, «научная прибыль» понимания случая, состоит в увеличении возможности понимания множества аналогичных случаев. Но, даже при наличии кажущейся повторяемости смысл этой повторяемости может не повторяться. Несмотря на то, что первичного материала (текстов, отражающих субъективный опыт) может быть собрано, и действительно собрано, много, они не могут быть все одинаково использованы для исследования. Их обработка требует неопределенно длительного времени, пока не будет достигнуто продуктивное сопереживание. Во-вторых, не возможно достичь однозначного и окончательного анализа, неизбежен контекст неполноты и незаконченности, что связано с неизбежной тревогой такого знания. В-третьих, не возможно избежать присутствия и вовлеченности субъекта, абстрагироваться от субъекта, соответственно сохраняется элемент непредсказуемости в любой точке пути использования данных. Любой другой человек может интерпретировать полученные данные, по-своему, добавив свой опыт или отказаться от них, «не понять их», не достигнув консенсуса со своим опытом.
Поэтому экстраполяция полученных данных неизбежно проблематична. Оправданием же научности такого подхода, несмотря на эти недостатки, является тот факт, что психологической реальности всегда свойственны отмеченные сложность и трудность, если мы изучаем субъективную сферу.
Новизна исследования.
Новизна исследования состоит в следующем:
- В контексте психологической образовательной практики осуществлен экзистенциальный анализ переживаний идентичности. К естественным повседневным ситуациям, выражающимся в обыденных суждениях, применен научный подход, доказавший свою эффективность в психотерапии и психопатологии. Предложены предметы интенсивного психологического взаимодействия по проблеме идентичности в контексте психологической образовательной практики.
- Разработана модель, позволяющая опредмечивать в профессиональном взаимодействии объекты многомерного жизненного мира, лежащие в квазиизмерениях смысла, ответственности, веры, воли, стиля и др.
- Модель, позволяет осуществлять экзистенциальный анализ обыденных, повседневных переживаний самоопределения (идентичности). Изучать психологические события повседневности как модус существования, что позволяет говорить о психологической ответственности и психологической дисциплине понятным феноменологическим языком, на основании фактов психологических решений и фактов психической ригидности.
- Произведен психологический анализ феномена растерянности собранности как переживания, открывающего исследователю, естественный пульс осуществления «здесь и теперь» высших аспектов человеческой природы. Психическая ригидность использована как плоскость проекции высших аспектов природы на пространство идентичности.
- Составлены феноменологические описания психической ригидности как психологического праксиса самоопределения (Лэнг Р., 1984).
- Обобщен опыт решения проблемы идентичности через ее активную постановку (провокацию), что может способствовать увеличению эффективности деятельности социального, школьного психолога.
- Достаточно новым (не привычным, но комплементарным многим современным исследованиям), для педагогической психологии, является и экзистенциальный подход, учитывающий непосредственную вовлеченность психолога в процесс психологического образования, позволяющий проникать в область подлинной идентичности не с точки зрения правильности значений опыта и тождественности друг другу различных сущностей, а с точки зрения смысла, праксиса, интуитивного знания, веры, труда. Это направление исследований позволяет занять школьному (или в более широком смысле социальному) психологу позицию экзистенциального прагматизма, и соответственно повседневно совершенствовать свою профессиональную деятельность с точки зрения выяснения подлинной уместности своего «бытия в мире», себя в реальности.
Теоретическая значимость исследования.
В соответствии с современными тенденциями интеграции различных форм знания в психологической образовательной практике, тенденцией к антропологизации психологии и педагогики, теоретически значимым является опыт применения экзистенциального подхода, который может служить основанием для конструктивного эклектизма - целостного взгляда на всю совокупность достоверных данных о жизни, полученных различными учеными и различными методами.
Теоретически значимо утверждение возможности экзистенциального партнерства в контексте образовательного пространства, в отсутствии явного кризиса, невроза или психической патологии, в контексте повседневного жизненного опыта. Кроме того, исследование открывает теоретическую возможность актуальности экзистенциального опыта для людей в первой половине жизни.
Значимым результатом является внедрение в педагогическую психологию феноменологического анализа, как способа уменьшения взаимного непонимания и недопонимания субъектами образования своей ответственности, смысла и инициативы.
Теоретически расширен смысл категории «психическая ригидность» в связи с проблемой идентичности, феноменологически исследованы соответствия определяющих ригидность категорий «трудность» и «необходимость» (Залевский Г.В).
Предложена модель психологического пространства идентичности, в которой идентичность представлена не как тождественность сущностей при их определенной субординации: субъекта - объекту, сознания -предмету, представления о предмете - самому предмету и т.д., а как тождественность существования сущности. Модель представляет пространство переживаний, (интеракций, трансакций, ситуаций). В центр модели поставлена минимально опредмеченная идентичность -растерянность, в пространстве модели расположены варианты идентичности с абстрактными сущностями, которые естественно и необходимо мыслить конкретно в повседневном опыте.
Модель может служить теоретическим основанием для усиления и совершенствования способности нести психологическую ответственность. В контекстах воспитания и развития психологическая ответственность выступает не только как способность отвечать за свою собственную деятельность или отзываться на предложения других людей, но и как ответственную открытость неопределенному будущему, открытость развитию, восприимчивость к метапсихическим и трансцендентным аспектам реальности.
Модель обеспечивает теоретическую обоснованность психотехнического аспекта психологического образования, уточняет смыслы, условия и возможности использования в образовательном контексте психотерапевтических систем.
Исследование решает теоретическую проблему дуализма субъекта и объекта, формальной заданности целей и причин образовательного взаимодействия, ставит в качестве предмета психологической образовательной практики не цели, причины или предметы сами по себе, а идентичность - соответствие человеческой жизни нажитому человеком осознанию.
Модель и описания феноменов могут служить теоретическим основанием (основанием формулировки гипотез) для дальнейшего исследования проблемы идентичности в психологической образовательной практике, например методами психосемантического анализа или экспериментальными методами.
Практическая значимость исследования.
Исследование решает практические задачи по улучшению понимания субъектами образовательного взаимодействия актуальной действительности, психотехнически обеспечивает такие практики как воспитание способности нести психологическую ответственность, способность к психологической инициативе, коммуникабельность и широкое целостное восприятие, что является основанием для подготовки психолога как естественного психологического лидера. Кроме того, представленный подход, опыт и модель психотехнически обеспечивают практику в широком диапазоне высших аспектов человеческой природы, таких как вера, самореализация, трансценденция, свобода, духовность, при этом обеспечивается «заземленность» самого человека, возвращение ему ответственности за действительность, избегание «опьянения» трансцендентными соблазнами.
Результаты проведенного исследования позволяют активно и деятельностно подойти к таким проблемам психологии как спутанность идентичности, порождающая абсурдный внутренний конфликт и иррациональную тревогу, повседневная патология воли и ответственности, психическая ригидность, задерживающая подлинное развитие личности.
На основании проведенного исследования осуществлено несколько образовательных программ, разработан проект программы повышения квалификации работников системы образования.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в процессе психологической практики в рамках образовательных программ с молодежью, в курсах лекций и практических занятий на факультете психологии ТГУ. Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедр социальной и гуманистической психологии ТГУ, клинической и генетической психологии ТГУ, на методологических семинарах факультета психологии ТГУ. Основные идеи и научные результаты отражены в публикациях по теме исследования.
Одним из замыслов данного исследования относительно психологической образовательной практики являлось стремление удерживать в ситуациях опыта личностной идентификации кроме психотехнических конструкций, мировоззренческие основания, относительность ситуативного контекста, взгляд на природу человека. В связи с этим для объяснения сути исследования использовались понятия, употребляющиеся в различных науках и научных парадигмах (психологии, психотерапии, философии), которые требуют специального пояснения их значений в данном конкретном исследовании.
Основные понятия, используемые в работе
Идентичность - В традиционном употреблении «тождественность самому себе». «Конфигурация, которая постепенно складывается путем последовательных «я - синтезов» и перекристаллизации, в которую последовательно интегрируется конституциональная предрасположенность, особенности либидных потребностей, предпочитаемые способности, важные идентификации, действенные защитные механизмы, успешные сублимации и осуществляющиеся роли.»
«Идентичность достигается человеком через призму личного опыта взросления, помноженного на индивидуальный интеллектуальный коэффициент и открытость интуитивному постижению знаний.» (Толстых А.В., 1996).
Экзистенциальный подход, утверждающий что «экзистенция прежде сущности», позволяет поставить, в качестве предмета внимания, не соответствия сущностей друг другу, а соответствие существования образовывающейся в этом существовании сущности, соответствие процесса жизни осознающему себя живущим существу. Таким образом, идентичность - это тождественность праксиса идентификаций осознанию человеком своего Я. (Лэнг Р., 1995; Бъюдженталь Д., 1998).
Подлинная идентичность - «Способность отдавать себе отчет в своем собственном существовании», решимость пересматривать и верифицировать общением «свой способ бытия в мире, который является разумным компромиссом между тем, как человек понимает себя и свои потребности, и тем, как он понимает мир с его возможностями и опасностями». (Бьюдженталь Д., 1998; Тиллих П., 1995).
Психическая ригидность - «Трудность коррекции программы поведения в целом или ее отдельных элементов в связи с объективной необходимостью и разной степенью осознания и принятия этой необходимости», «сложное многомерное свойство личности (или состояние), сочетающее в себе содержательную и формально -динамическую стороны». (Залевский Г.В., 1993).
В рамках естественнонаучного подхода, подразумевается, что сущность, субстанция прежде ее функционирования, а необходимость является одним из детерминирующих проявление ригидности факторов. Экзистенциальный подход позволяет расширить диапазон смысла психической ригидности как свойство «dasein», человеческого бытия-в-мире (Кочюнас Р., 1995). Если необходимость - это не причина, а задача, то психическая ригидность - это проявление внутреннего решения, способа или позиции человека отказаться от свободы искать смысл актуальных взаимоотношений с миром.
Коммуникация - «универсальный информационно-энергетический, смысло-творческий жизненный процесс на качественно различных уровнях существования человека, процесс обеспечивающий потенциальную сообщаемость, на первый взгляд несоизмеримых жизненных миров человека.» (Кабрин В.И., 1992)
Транскоммуникация - «центральная эволюционная универсалия жизни, не зависящая от материала носителя, но вырабатывающая информационно-энергетические голограммы, инвариантные относительно разнопорядковых жизненных миров.» (Кабрин В.И., 1992)
Акцентируя экзистенциальный подход, мы можем добавить к данному определению следующее: коммуникация и транскоммуникация есть условие психологической ответственности. Таким образом, учет коммуникативного и транскомуникативного контекста, позволяет говорить о способности быть ответственным как об объективной форме проявления коммуникации.
Психотехническая теория - теория, помогающая научить психологов не уходить от переживаемых и доступных переживанию фактов и феноменов, позволяющая этим феноменам, как бы самим сказать психологу о своем смысле и отношениях, теория, позволяющая «воздать встречным объектам должное, чем сделать их вновь более объективными.» (Босс М., цит. по Холл К., Линдсей Г., 1997) (Василюк Ф.Е., 1992)
Топологическая модель - модель жизненного пространства как «психологического поля в его тотальности.» «Поле - тотальность сосуществующих фактов, которые мыслятся как взаимозависимые» (Левин К., 1951). В связи с экзистенциальным подходом, в модель психологического пространства мы включаем экзистенциальные данности, выступающие как необходимость быть в связи и в отношении с формой времени и формой существования (Хайдеггер М., 1993).
Структура диссертации отражает три аспекта исследования:
- Методологический. Проблема идентичности в непосредственной связи с повседневной «нормальной» жизнедеятельностью выражена в абстрактных категориях, которые при своем конкретизировании в ситуацию способствуют постижению противоречий и парадоксов идентичности. Для отражения используемого нами подхода к проблеме идентичности (проблеме соответствия существования - осознанию человеком своего бытия-в-мире), предлагается топологическая модель, отражающая психологическое пространство идентификаций. Этому посвящена первая глава.
- Психологический. Психологическое понимание проблемы идентичности в терминах психологического опыта. Во второй главе диссертации обобщен феноменологический анализ субъективного опыта, когда суждения субъекта редуцировались до парадокса идентичности, порождающего смысл конкретного психического акта.
- Образовательный. Третья глава отражает возможности применения результатов исследования в психологической образовательной практике, в подготовке психологов, в улучшении психологического образования.
Методологические основания для построения психотехнической модели
Для того, чтобы изложить методологические основания, на которых мы строим исследование и предлагаемую модель, следует начать с мировоззренческих предположений. Каждая психологическая концепция имеет связь с некоторой мировоззренческой системой, задающей синтаксис языка исследования и понимания. При достаточно ясном уяснении мировоззренческих предположений мы можем переходить к собственно психологическим и психотехническим аспектам методологии. Прежде всего, обозначим предположения, касающиеся природы сознания. Психологические феномены мы понимаем как продолжение идеи, что сознание «по своей исконной природе носит открытый, а не закрытый характер, что оно подобно не психологическому вместилищу, в которое предмет должен «попасть», неизбежно субъективно преломившись в нем, а скорее, средоточию лучей, освещающих своим вниманием те или иные отрезки бытия» [32, с.295] Эта мировоззренческая позиция обоснована философами - интуитивистами и прежде всего Н.О.Лосским. Данная идея находит свое продолжение в психологических построениях. «При предпосылке «закрытого» сознания неразрешимой загадкой остается проблема соответствия предмета - представлению о нем» [32, с.295] Мы предполагаем, что установки на закрытость сознания являются онтологическими основаниями психической ригидности, как свойства сознания и психики. Ригидные установки сознания связаны с неразрешимыми несоответствиями между предметом и представлением о нем, в отношении нашей темы - между Я и представлением об Я.
Несоответствия приводят к спутанной идентичности, переживаемой как абсурд, бессмысленность моего собственного существования. Кроме того установки на закрытость сознания приводят к игнорированию коммуникативного и транскоммуникативного контекста. Мы исходим из того, что Н.О.Лосским на мировоззренческом уровне в достаточной степени доказано «наличие транссубъективного бытия в познавательном акте» [32, с.307]. Предмет познания по Н.О.Лосскому, - «не психическая копия, не субъективное отражение или конструкция, а само бытие, как оно существует независимо от познавательного акта» [32. с.307] Но доказанное на уровне философской теории не является обязательно доказанным на уровне психологического осознания, иначе говоря, конкретный субъект может продолжать «заблуждаться» и идентифицироваться на основании других представлений. Следовательно имеет смысл продолжить теоретические построения Н.О.Лосского в область психических актов и психических взаимодействий. Это можно сделать методами феноменологической психологии, позволяющей схватить идею сущности непосредственно, даже если сама сущность вещей остается в принципе непознаваемой [85]. Теперь обратим внимание на условия, которые необходимы для того, что бы познание Я было возможным.
По Н.О.Лосскому это «непосредственная сочетанность субъекта и предмета в познавательном акте, при направленности субъекта на предмет». [32, 309] Для психологического исследования это условие выражается в интенциональности события. Интенциональность осознается в коммуникативном поле, следовательно, психологические данные имеют смысл при «сочетанности», коммуникабельности, транскоммуникабельности субъекта. «Гноссеологическая координация» Н.О.Лосского позволяет нам говорить не о причинности в осознании человеком своего подлинного Я, а о направленности Я, осуществляеющегося в интенциональных актах. Тогда взаимодействия субъекта с миром носят не-причинный характер, предметы мира являются лишь поводами для того, чтобы человек обратил внимание, следовательно, имеет место психологическая ответственность за идентификацию и за идентичность. Психолог-практик, взаимодействуя на уровне идентичности способен развивать психологическую способность нести ответственность, при этом взаимодействия с человеком не являются убедительными и доказывающими, а скорее побудительными и приглашающими. Своеобразной мишенью для систематических усилий может служить психическая ригидность. Психическая ригидность непосредственно связана с представлениями субъекта о причинности взаимодействий, с оправдательным характером познания, тогда как флексибильность обеспечивается интенциональностью события, гибкость восприятия обеспечивается субъектом, его намерениями и установками. [21] Поведение психолога, опирающегося на систему идентификаций в непосредственной сочетанности субъекта и предмета, ставит перед собеседником преграду стереотипным причинным идентификациям, приводя ситуацию к абсурду, при достаточной эмпатии друг к другу, человеку открываются новые перспективы познания самого себя, когда то, что его задевает в конкретном коммуникативном событии является поводами, переставая быть причинами. Для осуществления полноценного интенсивного психологического сотрудничества в планах переживания идентичности и самоопределения, психологу не достаточно иметь в сфере внимания и осознания слова, вещи, образы и идеи. Необходимо иметь доступ к тому, что порождается самим существованием субъекта, доступ к его (субъекта) выражениям в психических актах, деятельностях, оппозициях. То есть психологу необходимо сохранять (возможно, в определенных смыслах и создавать) коммуникативный контекст. Кроме доступа (непосредственного и интуитивного) к объектам и субъектам реальности, необходимо иметь возможность объективации выражающегося субъекта, его констатации без потери коммуникативного контекста. Обозначенная необходимость не может быть обеспечена каким либо значением, она обеспечивается смыслом. В психологических теориях, решающих подобную задачу, категории описывающие реальность в значительной степени подразумевают именно смысл, а не область значений. Примеры - гештальт, архетип, персональный миф, Я-концепция и т.д. [4, 50, 65].
Феноменологические описания установок на достижение идентичности в контексте организации воспитывающего, образовательного, развивающего воздействия
Одной из самых убедительных концепций психогенеза личности является концепция дифференциации реальности на ранних стадиях формирования личностного сознания [55, 56, 35, 34]. Дифференцированная реальность обрекает человека на необходимость постоянного выбора. В плане объективной реальности быть нормальным, быть самим собой -значит быть выбирающим. Необходимость выбора - это обстоятельство, фундаментально влияющее на самосознание человека. [33]. Выбирая, человек определяет себя, свою идентичность. Я человека непосредственно связано с предметом и фактом его выбора. Я - это мой выбор. [29, 30] Отказ от выбора это тоже своего рода выбор. Растерянность выбора определяет и растерянность самоосознания, спутанность, диффузность идентичности. [76]. Реальность выбора символизирует в нашей системе координат противоречивость, неоднозначность, неопределенность, незавершенность, и таким образом сложность, душевной реальности человека. [12].
Но человек живет не только в реальности выбора, но и в реальности времени. Это означает, что с каждым совершенным выбором, человек встает перед искушением повторить этот выбор, зафиксировать его, продлить его, или наоборот закрыть эту возможность, вытеснить этот выбор, тем самым не подвергать себя риску растерянности в будущих и произошедших аналогичных случаях. Такая фиксированность выбора фиксирует и идентичность, помогает автоматизировать свое поведение в аналогичных случаях, снять тревогу, напряжение, сэкономить жизненные ресурсы. Но за это человек платит определенную цену. Он больше не является выбирающим, выбор делается как бы за него, по привычке. У.Джеймс считал привычками и человеческие добродетели и человеческие пороки. Известная поговорка «Привычка - вторая натура» указывает на того, кому принадлежит ответственность за такой выбор, ответственна за выбор привычка. Идентичность человека ускользает от него, как будто на пути образовалась колея, или маска приросла к лицу.
Психологическое воздействие, воспитывающее личность в данном случае имеет целью сделать человека снова выбирающим, встряхнуть его, сделать его растерянным, дать время собраться и показать весь этот процесс. Благодаря растерянности, ситуация приобретет трансцендентные перспективы, откроются возможности для смыслообразования и осознания себя в мире, своем психическом, личностном мире, и в мире трансцендентном. Не стоит преуменьшать выгодность и полезность привычек, но и опасность рабства у привычек так же не следует уменьшать.
Ригидность установки в данном случае будет выглядеть как отказ, отвержение возможностей сделать себя выбирающим. Она проявляется в различных видах сопротивления, хорошо известного и описанного в психотерапии. Например, сопротивление может выглядеть как отказ от пересмотра своей идентичности в связи с актуальной ситуацией, утверждения своего «идеализированного Я» , [69], ригидного стереотипизированного образа себя. Такое поведение клиента, ученика, подчиненного, собеседника часто выражается словами: - не знаю, что от меня требуется, не понимаю, чего вы хотите, что собственно здесь выбирать и т.д.
Ригидность установки по отношению к себе выбирающему аналогична ригидности эстетика [29], который без всяких доказательств уверен, что он уже умеет выбирать и значит всегда будет это делать. Что он уже знает, что для него хорошо, а что плохо. Он оказывается в растерянности, когда действительность не предоставляет ему ни одного хорошего выбора, когда все выборы плохие. Но, будучи обладателем ригидной установки, по отношению к реальности выбора, он продолжает выбирать тогда, когда следует увидеть бессмысленность выбора. Ригидность тем самым приводит к отказу от непосредственного восприятия парадоксальной, но полной и живой реальности и к собиранию себя неуспешного. В буквальном смысле «не успевающего» за реальностью.
Альтернативой пространствам выбора являются диалектически противоположные пространства, где действительность не является выбором, где нет или-или, где есть и-и. В этом своеобразии сложной действительности человек не только есть то, что он есть, он и то, что он не есть. В психологии существует известное понятие гештальт. Опираясь на него можно сказать, что реальность «Или - Или» - это когда человек видит то одну фигуру, отмечая при этом фон, то видит другую фигуру, которая казалась фоном. Реальность «И - И» - когда человек видит картину в целом, не выделяет фигуру и фон, но при этом он и не видит ничего, все сразу, но ничего по существу. Аналогично и с идентичностью, выборы постоянно разделяют и выделяют субъекта, отсутствие выбора не разделяет, но и не ограничивает, как будто растворяет субъекта в действительности. Растерянность человека в реальности этих пространств характеризуется открытостью, незавершенностью, неизвестностью, неожиданностью, новизной. Переживая такую открытость, становясь открытым, восприимчивым, бесконечным, человек обретает свою идентичность относительно всеобщего, абсолютного. Цена за это - искушение быть всегда связанным со всеобщим, быть всегда причастным к трансцендентному, «дышать синевой». Ригидность в этом случае -качество, имеющее следующую психическую выгоду: автоматизировать достижение своей идентичности за счет стандартизации и стереотипизации своей установки на слияние, объединение, взаимопроникновение. Назовем эту позицию ригидностью этика, привычно воспринимающего только сектора хронотопа с, ничего не значащими, внутренними границами пространства причастности ко всеобщему. Ригидность такой идентичности становится заметна, когда субъект абсурдно упрощает и редуцирует реальность. Привыкает быть растворенным.
Интуиция и идентичность. Интенсивное психологическое воздействие в контексте образовательного процесса
Из всего разнообразия возможностей психологической помощи сосредоточимся на одной. При всех достижениях современного гуманистического знания, битва за достижение своей истинной идентичности ведется, в буквальном смысле, не на жизнь, а на смерть. Вероятно, особенности социальной эволюции обостряют эту борьбу. Будучи далеким от философских и психологических теорий, каждый человек отвечает на вопрос «кто Я?». И делает он это не однажды, а постоянно, перед каждым своим психическим и психосоциальным актом. Конечно, если допустить, что человек существо самостоятельное, а не жестко детерминированная внешними стимулами система. При понимании человеческого бытия в мире как целостности, когда целое не только больше чем просто сумма частей, но и часть вовсе не меньше целого, без ясности в вопросе "кто я есть?", не может быть принято осознанное решение по поводу любого «что я хочу»? Следует отметить, что мы утверждаем, приоритет вопроса «кто я есть?» над вопросом «что я хочу?», в связи с выбранным нами предметом изучения и воздействия. В понимании обыденной идентичности, в повседневных самоопределениях, спонтанность «Я хочу» часто открывает «кто же Я после этого, после таких желаний». Установить абсолютную истину в генетическом смысле, какой вопрос первичен, видимо не возможно. Разговаривая на русском или любом другом языке, с которого можно перевести суждение на русский, мы должны иметь в виду того, «кто есть», иначе мы не сможем выразиться, не сможем построить суждение, а значит, усомнимся в том живем ли мы на самом деле. Психологам практикам известны частые случаи такого состояния клиентов, когда они не уверены, живут ли они на самом деле, не приходится долго искать и аномалии, с которыми это состояние связано. Тут можно вспомнить и отклоняющееся поведения, и извращения, алкоголизм и наркоманию, и многое другое.
Мы остановимся на признании того факта, что у многих людей нашего времени идентичность спутанная. [76, 70, 38]. Наша работа отражает попытку определить место психолога в образовательном контексте как специалиста озадаченного проблемой помощи в достижении учениками истинной идентичности. Это на наш взгляд весьма актуально, в том числе и в связи с тем, что основная задача школы и Вуза - передача традиции, чего-то уже имеющегося, своеобразное делегирование прав на владение.
Почему помочь в достижении истинной идентичности не так просто как кажется?
Человек не может никем быть в отрыве и в отчуждении от своего жизненного мира. Ощущение уверенности в вопросе «кто я?», означает уверенность в подлинности своего пути и своего жизненного мира. В жизненной реальности все делается одновременно и в целом. Ответы на вопрос «что я хочу?», «что я должен?», «что я могу?» непосредственно связаны с сознанием идентичности и значит с ответом на вопрос «кто же Я?».
Сформулируем общие и абстрактные утверждения, которые по мере продвижения будем толковать все более конкретно, предоставляя тем самым в нашей работе читателю возможность для продолжения своего собственного осознания феномена идентичности в процессе получения собственного опыта.
Иметь уверенную идентичность, - значит, оставаться постоянным в процессе непрерывных изменений. Мы понимаем это как совокупность непосредственного эмпирического и теоретического опыта, которая выражается в способности человека определять свою установку, свое настроение и намерение в отношении объектов психической реальности.
Уверенность чувства идентичности не определяется потребностями, ценностями и целями, их удовлетворенностью, актуальностью, или фрустрированностью. Уверенность переживается интуитивно, то есть как непосредственное имение субъектом предмета своей психической активности.
Каждый акт восприятия, произведенный с ответственным вниманием, ведет к растерянности, целостность Я при этом не теряется совсем, но, будучи динамическим целым, приходит в состояние избытка различного [59]. Это определяет необходимость принятия в структуру динамического целого новых элементов общего. Таким образом, растерянность является естественным состоянием, обеспечивающим открытость Я новым элементам действительности, становящимися общим с субъектом, то есть становящимися составляющими его идентичности. Но в естественности растерянности есть проблемный элемент, идентичность может быть спутанная, диффузная. Соответственно и растерянность такой идентичности будет трагична, так как она чревата большей опасностью для целостности осознания субъекта. Действительно, если идентичность ясная, проверенная и уверенная, то растерянность преодолевается без существенных потерь. Так же как карточки в картотеке, расположенные в строгом алфавитном порядке и случайно перепутанные могут быть восстановлены любым субъектом, знающим, что собой представляет эта картотека, а не обязательно составителем. Другое дело, если карточки хранились в беспорядке, тогда практически не возможно установить, сколько их потеряно, а сколько прибавилось. Это может сказать только сам автор, собиратель системы, да и то лишь в том случае если он помнит все.