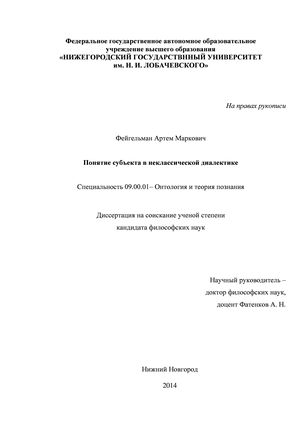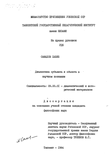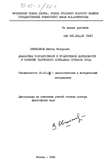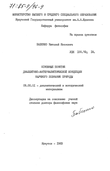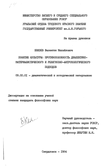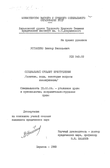Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Человек как субъект негативности (онтологический аспект)
1.1 Диалектика Господства и Рабства: неклассическая интерпретация 18
1.2 Концепция «конца истории» и «смерть» человеческой субъективности 34
Глава 2. Трансформация субъект-объектной парадигмы в негативной диалектике и философии постмодернизма
2.1 Критика классического субъекта и инструментальной рациональности 53
2. 2 От тотальности к констелляции в мышлении: принцип преимущества объекта 74
2.3 Радикальная децентрация субъекта в философии постмодернизма 96
Заключение 124
Список литературы 129
- Диалектика Господства и Рабства: неклассическая интерпретация
- Концепция «конца истории» и «смерть» человеческой субъективности
- От тотальности к констелляции в мышлении: принцип преимущества объекта
- Радикальная децентрация субъекта в философии постмодернизма
Диалектика Господства и Рабства: неклассическая интерпретация
Переходя к степени разработанности темы, необходимо начать с родоначальника неклассического диалектического дискурса о субъекте – Карла Маркса. Развивая диалектику Гегеля в материалистическом ключе, он отрицал антагонистическое противопоставление субъекта и объекта. Утверждая единство субъекта и объекта, Маркс понимал субъект-объектные отношения прежде всего как активную практическую деятельность субъекта с объектом. Знание об объекте является моментом этой деятельности, «превращенной формой» процесса познания, в которой выражается возможная познавательная деятельность субъекта. Опосредованный практикой, объект становится у Маркса приспособленным для человека предметом. При этом в ходе практики субъект не только трансформирует объект, но и изменяется сам; другими словами, происходит становление субъекта по отношению к объекту. В целом для Маркса характерно новаторское понимание субъекта как в первую очередь субъекта праксиса, а не познания.
В дальнейшем развитии философской мысли имеет смысл выделить три типа диалектики, каждая из которых имеет свою специфику в интерпретации субъекта – неогегельянская, неомарскистская, экзистенциальная.
Одним из наиболее влиятельных неогегельянцев был французский философ русского происхождения Александр Кожев. По мнению Кожева, только человек благодаря способности к негативному действию способен приносить диалектическое развитие в налично-данное бытие. Исток человеческой негативности философ видит в желании признания, то есть в желании быть объектом другого человеческого желания. В ходе истории человек деятельно противостоит налично-данному природному и социальному бытию, которое он подвергает отрицанию ради удовлетворения желания признания. Конец истории Кожев связывает с утверждением империи Наполеона, в которой все граждане имеют равные возможности для удовлетворения желания признания. В такой империи «негативный» субъект (человек) и позитивный объект (налично-данное природное и социальное бытие) образуют Тотальность, знаменующую остановку диалектического развития. Концепция Кожева, которая ввела в европейский дискурс о субъекте проблематику желания, а также развивала мысль о зависимости человека от Другого (человека, природы, государства), оказала сильное влияние на последующую философию (недаром Кожева называют «отцом» постмодернизма). Поэтому в данной работе на его философию также обращается особенное внимание.
Параллельно Кожеву работал другой известный французский неогегельянец Жан Валь. Последний поставил в центр своей концепции категорию «несчастного сознания», раскрывающую, по его мнению, сущность гегелевской диалектики. Согласно Валю, несчастное сознание отражает структуру мира, наполненную противоречиями, главное из которых – трагический разрыв между человеком и Богом. Более того, негативность, разрыв обнаруживаются и в самом Боге – как его гнев и страдание. Страдающий Бог нисходит в мир, отделяется от себя самого, чтобы страдающий человек смог обрести соединение с Абсолютом. Это соединение происходит в лоне божественной любви, где исчезает противопоставление субъекта и объекта.
Отчасти продолжая линию Валя, Жан Ипполит также отталкивается от категории «несчастного сознания». По мнению мыслителя, эта категория отражает трагическое отчуждение человека от окружающего мира, а также осознание человеком своей конечности и ограниченности своей свободы. Более того, согласно Ипполиту, и сам гегелевский Абсолют не свободен от внутренних различий и противоречий. Последний преодолевается в ходе прохождения сквозь череду «исторических тотальностей», однако окончательный синтез невозможен. При этом человек (как родовое существо) в системе Ипполита является субъектом лишь настолько, насколько он способствует самопознанию Абсолюта.
Французские неогегельянцы способствовали появлению экзистенциальной диалектики, представленной, в частности, Жаном-Полем Сартром. Развивая идеи Хайдеггера и Кожева, Сартр выделяет две сферы бытия – бытие-в-себе и бытие-7 для-себя. Бытие-в-себе – это налично-данное, природное, социальное, культурное и пр., которое служит субстанцией и основанием для деятельности человека. Сам человек в качестве субъекта предстает как бытие-для-себя, живое сознание, которое входит в налично-данный мир как преобразующее его ничто. Картезианский дуализм в концепции Сартра уравновешивается категорией «тотальности», в которой обе вышеназванных сферы бытия существуют, постоянно взаимопроникая друг в друга. Кроме того, Сартр заостряет проблематику Другого, непрестанно подчеркивает взаимно опосредующую и конституирующую зависимость субъектов друг от друга. Георг Лукач, напротив, продолжает марксистскую линию на понимание субъекта прежде всего как субъекта праксиса. Однако в буржуазном обществе, по мнению Лукача, субъективность трактуется в качестве возможности прагматического манипулирования как людьми, так и природными объектами в ходе промышленного производства. Буржуазный субъект, таким образом, оторван от своего объекта благодаря отчуждению, пронизывающему капиталистическое общество. Преодолеть подобное отчуждение, а вместе с ней и пропасть между субъектом и объектом, согласно Лукачу, призван пролетариат. Преобразовывая природный и социальный мир вокруг себя, пролетариат обретает все более высокое классовое сознание, то есть меняется сам. Отвергая разделение на теорию и практику, Лукач утверждает единство праксиса как целостной деятельности людей, в ходе которой пролетариат как мета-субъект сливается с субстанцией – преображаемым природным и социальным миром.
Концепция «конца истории» и «смерть» человеческой субъективности
С другой стороны, самой способности человека отделять субъект от объекта, субъект от субстанции, понятие от обозначаемой им вещи, то есть способности к абстрактному мышлению, Кожев придает огромное значение. Комментируя слова Гегеля об «изумительнейшей и величайшей мощи» рассудка, осуществляющего абстрагирующее «разложение» [42, c. 22-23], Кожев пишет: «Вполне очевидно, что под рассудком подразумевается здесь то, что есть в Человеке поистине и собственно человеческого, ибо от животного и неодушевленной вещи его отличает как раз способность речи…» [83, c. 670].
Напомним, что, согласно Кожеву, человека от животного также отличает желание желания, порождающие борьбу и труд. Теперь к этой диаде можно прибавить речь (мысль) – проявление абстрагирующей «силы» рассудка, которая также имеет своим основанием негативность. «…Мы имеем здесь, – отмечает Кожев, – отрицание налично-данного как оно дано (с его «естественной» связью сущности и существования); иными словами, созидание (понятий…); иначе говоря, действование или работу» [Там же, c. 678].
Негативность абстракции раскрывается в том числе через ее связь со временем и смертью. Отталкиваясь от мысли Гегеля о том, что «всякое концептуальное познание есть убийство», Кожев приводит следующий пример: «Пока… Смысл (или Сущность) «собака» воплощен в чувственно воспринимаемой реальности, этот Смысл (или Сущность) живет: это реальная собака, живая собака, которая бегает, ест и пьет. Но когда Смысл (Сущность) «собака» перемещается в слово «собака», т.е. становится абстрактным Понятием…, Смысл (Сущность) умирает; слово «собака» не бегает, не есть и не пьет» [Там же, c. 465]. Если бы собака и вообще любое живое существо или предмет не изменялись во времени и в конечном счете не умирали бы, то в абстрагирование было бы невозможно, ведь сущность его объекта всегда была бы равна своему существованию. Напротив, если объект постоянно изменяется, «перемещается» из настоящего в прошлое под воздействием негативного будущего, то появляется возможность отделить сущность от исчезающего в прошлом эмпирического существования. Все это, по мнению Кожева, иллюстрирует гегелевскую мысль о том, что «понятие есть время».
Время здесь предстает как субъективное человеческое время, в котором превалирует будущее-ничто, ведь только человек способен созидать абстрактные понятия. В свою очередь, эта способность, как мы уже отмечали выше, порождена антропогенной борьбой и трудом, то есть желанием (точнее борьба порождает труд, а труд – понятийную речь). «Стало быть, – делает вывод Кожев. – «Понятие есть Труд, а Труд есть Понятие. И, если, как очень справедливо отмечает Маркс, Труд для Гегеля – это «сама сущность человека», то можно сказать, что для Гегеля сущность человека – это Понятие… Если же Человек – это Понятие и Понятие – это Труд, то и Человек, и Понятие суть также и Время» [Там же, с. 470]. Итак, человек – это понятие, то есть субъект абстрагирующего, раскрывающего реальность дискурса. Последний возможен только во времени, которое, в свою очередь, приносит в мир трудящийся, изменяющий налично-данное бытие человек. Именно поэтому человек, по мысли Кожева, есть также и труд, и время.
Важно отметить, что абстрагирование (образование понятий) может быть описано не только как диалектика субъекта и объекта, субъекта и субстанции, но и как диалектика всеобщего и единичного. Отрицая с помощью абстрагирования налично-данное единичное существование, человек творит понятие, обладающее свойством всеобщности. В этом, по мнению Кожева, также проявляется та самая «изумляющая сила рассудка», о которой не устает говорить Гегель. И, что еще важнее, диалектика всеобщего и единичного приоткрывает здесь онтологическое основание человеческой свободы, которая, как мы уже отмечали, имеет свои истоки в человеческой конечности, смертности. Обитающее в природе животное, поясняет Кожев, представляет собой налично-данное бытие, существующее здесь и сейчас (hic et nunk). Болезнь «смещает» животное из этого естественного «топоса», то есть делает то же самое, что и абстрагирование – отрывает объект от своей единичности и превращает его во всеобщее понятие. Иначе говоря, болея, животное превосходит свое налично данное бытие. Однако, создав напряжение (различие) между единичным и всеобщим, болезнь в конце концов недиалектически «устраняет» его, «просто напросто упраздняя единичное животное» [Там же, c. 690]. Человек (точнее животный, природный субстрат человека) также болеет и умирает. Но человек способен диалектически синтезировать единичное и всеобщее, созидая свою индивидуальность. Единичное здесь – все тот же налично данный природный субстрат, в то время как всеобщее предстает как «всеобщность речи и разумного действия» [Там же], то есть борьбы и труда. Однако сама возможность диалектического превосхождения налично-данного, сама возможность человеческой свободы и индивидуальности «предполагает противостояние Единичного и Всеобщего, которое обнаруживается в виде болезни и смерти животного, в том числе животного в человеке» [Там же, c. 470]. Характеризуя диалектику животного и человеческого в учении Кожева, Дж. Агамбен пишет: «В лекции Кожева о Гегеле человек фактически не представляет собой ни биологически детерминированный род, ни раз и навсегда определенную субстанцию; скорее, это поле диалектических напряжений, которое, будучи пронизанным цезурами, постоянно – по меньшей мере, виртуально – делится на «антропофорную» животность и на воплощающуюся в ней человечность. Исторически человек существует только в таком напряжении: он может быть человечным лишь постольку, поскольку трансцендирует и преображает несущее его «антропофорное» животное, лишь постольку, поскольку как раз посредством своей отрицающей деятельности он способен преодолеть и – при необходимости – уничтожить собственную животность (в этом смысле Кожев прав, что "человек – это смертельная болезнь животного”» [2, c. 20]. Пронизанность цезурами, о которой говорит Агамбен, – это различие внутри человека, создаваемое включением в его субстанциональное, природное бытие его негативной сущности, ничто. Благодаря этому различию и создается диалектическое напряжение, которое позволяет человеку непрерывно отрицать свою внутреннюю природу – с тем, чтобы, изменившись самому, изменить и мир вокруг себя. Так, по мнению Кожева, человек движется по пути антропогенеза и самосознания.
Будучи конечным существом, человек тем не менее в силах раскрыть с помощью речи бесконечную тотальность бытия. Являясь частью этой тотальности, человек, как уже отмечалось, осмысляет с помощью речи и мир, и себя самого в мире. Иначе говоря, раскрытая речью тотальность – это дух или человек-в-мире. Кожев поясняет структуру раскрытия тотальности следующим образом: «Человек постепенно, один за другим, с помощью отдельных слов и частичных речей, раскрывает отдельные моменты тотальности, и, дабы мочь это сделать, раскладывает ее на части, только лишь целое растянувшихся во времени речей может раскрыть реальность тотальную… Ведь на самом деле эти моменты неотделимы от того целого, которое они составляют, будучи связанными между собой пространственными и временными, читай материальными, узами, которые нерасторжимы. Их расторжение, стало быть, “изумляет”, и “мощь”, его производящая, вполне может быть названа “абсолютной”» [83, c. 674]. Таким образом, человек вначале совершает «разлагающую» аналитическую деятельность, расторгая с помощью абстрагирования материальные связи, скрепляющие тотальность. Материальные объекты и связи перерабатываются рассудком в идеальные объекты (понятия) и связи внутри дискурса.
Совокупность всех речей (дискурсов), раскрывающих отдельные фрагменты тотальности, раскрывает ее как целостность. Последнее и истинностное раскрытие тотальности, по мысли Кожева, возможно лишь в рамках «Науки» – философии Гегеля, возникшей в империи Наполеона – прототипе всемирного гомогенного государства.
От тотальности к констелляции в мышлении: принцип преимущества объекта
Важно отметить, что, согласно авторам «Диалектики Просвещения», культуриндустрия в современном обществе теснейшим образом связана с техническим прогрессом и техникой вообще, которые также служат подавлению субъективности: «Потребность, способная противостоять центральному контролю, уже подавляется контролем индивидуального сознания. Шаг вперед от телефона к радио привел к отчетливому распределению ролей. Первый все еще позволял его пользователям либерально играть роль субъекта. Второе демократично превращает всех одинаковым образом в слушателей с тем, чтобы совершенно авторитарно отдать их во власть между собой полностью идентичных программ различных станций» [Там же, c.151]. Подобные размышления сегодня кажутся несколько наивными, т. к. в данном случае сравнивается средство связи и средство массовой информации, однако для нас важно другое: технический прогресс в концепции Хоркхаймера и Адорно тесно связан с регрессом человека и его субъективности.
Кроме того, здесь критикуется иллюзия выбора, существующего в рамках культуриндустрии. Сегодня часто можно услышать утверждение, что телевизионный зритель всегда имеет возможность переключить на другой канал в случае, если та или иная программа ему не нравится. Однако для авторов «Диалектики Просвещения» подобная возможность лишь маскирует реальное отсутствие выбора, так как сущностно продукты различных передач не отличаются друг от друга. В любом случае они будут направлены на развлечение, получение прибыли и тот самый «контроль индивидуального сознания».
В обществе, отравленном инструментальным «субстратом властвования», культуриндустрия наряду с экономикой, политикой, наукой, философией и другими сферами человеческой деятельности образует тотальность (господства). Человек в подобной тотальности – пресловутый «винтик», чья субъективность сведена к функции, которую он обязан выполнять в рамках системы. Построенный на рациональных началах социум, призванный всесторонне развивать человеческую индивидуальность, на деле приходит к противоположному результату – репрессивному подавлению личности. Рациональное стремление к самосохранению и саморазвитию, которое когда-то вывело человека из лона природы, оборачивается иррациональным стремлением к саморазрушению, то есть безумием: «В тот момент, когда человек в качестве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: социальный прогресс, рост всех материальных и духовных сил, даже само сознание, а возведение на престол средства в качестве цели, принимающее в эпоху позднего капитализма характер откровенного безумия, различимо уже в праистории субъективности. Господство человека над самим собой, учреждающее его самость, виртуально есть во всех случаях уничтожение того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обузданная, подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и предназначены все действия самосохранения – собственно как раз тем, что должно быть сохранено» [Там же, c. 75]. По мнению Хоркхаймера и Адорно, цена, заплаченная за высвобождение из природы, слишком велика, а средства этого высвобождения подменили собой цели, обернулись против самого человека, что свидетельствует о конечном безумии Просвещения.
Наиболее ярким выражением порожденного разумом безумия, по мнению авторов «Диалектики Просвещения», является фашизм, который становится закономерным этапом мнимого социального прогресса: «Подобно тому, как свергнутый бог возвращается в обличии более жестокого идола, прежнее буржуазное охранительное государство возвращается в насилии фашистского коллектива» [Там же, c. 146].
В фашистском обществе субъект лишается даже той видимости выбора, которая присутствует в либеральных демократиях. При этом для подавления личности фашизм использует не только пропагандистскую мощь техники и культуриндустрии, но и активно обращается к архаике – празднествам, парадам, факельным шествиям: «Все то, что с самых давних пор было принудительным, подневольным и иррациональным в психологическом механизме, тщательно подверстывается сюда» [Там же, c. 253]. Последнее, в свою очередь, демонстрирует важнейшее свойство Просвещения – его оборачиваемость в миф.
Растворенный в тоталитарном (просвещенческом) мифе, человек, с одной стороны, насильственно лишается индивидуальности, с другой стороны – сам становится источником и воспроизводителем этого мифа, превращаясь таким образом в «субъект-объект репрессии» [181, c. 251].
Какой же выход видят Хоркхаймер и Адорно из просвещенческого безумия? Еще раз отметим, что позиция франкфуртцев здесь максимально пессимистична: Просвещение как «грехопадение» цивилизации, выраженное в инструментально-рациональном отношении к природе, с необходимостью приводит человечество к безумию и саморазрушению. Однако для отдельной личности спасение все еще возможно – в первую очередь за счет развития собственной индивидуальности (разумеется, вопреки общественной системе).
Подобное саморазвитие личности Хоркхаймер и Адорно прежде всего связывают с критическими и креативными возможностями человека. Развитие этих возможностей осуществляется благодаря приобщению к культуре и высокому искусству (под которым франкфуртцы подразумевают прежде всего искусство авангарда) – неважно, в качестве творца или реципиента. Способность искусства возвышать индивидуальность говорит о его причастности истине, которая «как раз и требует активно действующего субъекта» [Там же, c. 296]. Поэтому с помощью искусства человек способен научиться чувствовать и мыслить самостоятельно, выйти за пределы стереотипов, навязываемых культуриндустрией.
Радикальная децентрация субъекта в философии постмодернизма
«Структурализм вовсе не являются мыслью, уничтожающей субъекта, но такой, которая крошит и систематически его распределяет, которая оспаривает тождество субъекта, рассеивает его и заставляет переходить с места на место: его субъект всегда кочующий, он сделан из индивидуальностей, но внеперсональных, или из единичностей, но доиндивидуальных» [55, c. 171], – пишет Делез. С одной стороны, здесь он как будто открещивается от расхожей концепции «смерти субъекта». С другой, достаточно очевидно, что картезианский субъект вряд ли бы узнал в своем постмодернистском визави самого себя. Произошедшая перемена столь радикальна, что впору, действительно, говорить о «смерти».
Говоря языком Герберта Маркузе, постмодернистская философия осуществляет «великий отказ» от классического понимания субъекта; отказ, необходимый, по мнению ее представителей, для творческого, свободного от репрессий и адекватного времени развитию философской мысли. (Пост)модернистская культура XX столетия знает немало подобных великих отказов. Один из них – это отказ от фигуративного искусства в пользу абстрактной живописи. «Смерть» фигуративности ознаменовало собой появление знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича (разумеется, это лишь одна из возможных интерпретаций). Казалось бы, история искусства завершена и никакая живопись (по крайней мере, фигуративная) после «Черного квадрата» невозможна. Однако более поздние работы самого Малевича доказывают обратное. В таких его картинах 20-х годов, как, например, «Косарь», возникает новая фигуративность – фигуративность после «Черного квадрата». Здесь художник прибегает к условно-геометрическим формам. Фигуры людей на этих полотнах фрагментированны, их лица лишены отпечатка индивидуальности. Видно, как мучительно происходит «воскрешение» фигуративности, словно бы собранной из осколков (кубов, кругов и треугольников) модернистского искусства.
Похожим образом заново пересобирается, «воскрешается» субъективность в философии постмодерна. Кочующий посреди бесконечного потока сингулярностей субъект мгновенен, фрагментарен, не имеет глубоких, «оседлых» корней. Однако, согласно философам-постмодернистам, именно такая модель субъективности отображает подлинное многообразие и неостановимую процессуальность жизни. Классический субъект нацелен на достижение тождества – прежде всего, тождества самому себе. Такое тождество достигается за счет отрицания всего неравного себе в рамках синтеза диалектических оппозиций, соразмерных и опосредованных общим знаменателем логических законов. Постмодернистская философия, напротив, ориентирована на различие, утверждаемое вне диалектических оппозиций, включенных в жесткую схему соразмерности и взаимоподобия. Делез характеризует эту тенденцию как «обобщенное антигегельянство», суть которого выражается в следующем: «...Различие и повторение заняли место тождественного и отрицательного, тождества и противоречия» [59, c. 9]. При этом повторение и различие – отнюдь не диалектическая пара, их отношения призваны отразить не «борьбу и единство противоположностей», а реальное многообразие жизни (в ницшеанском смысле).
Различие Делеза – это различие без отрицания, которое не продуцирует противоречие и оппозиции. Последнее подразумевало бы, как уже отмечалось выше, наличие ведущего к тождеству взаимоподобия противоположностей. Подобно теоретикам Франкфуртской школы, Делез критикует гегельянские схемы за их умозрительность, подчиняющие жизнь логическим законам. Вслед за Кьеркегором и Ницше французский философ упрекает Гегеля в том, «что он ограничивается ложным, абстрактным логическим движением, то есть ”опосредованием”» [Там же, с. 21]. Кьеркегор и Ницше как раз и стремились привести метафизику в подлинное движение, заставить ее «действовать», другими словами, открыть с помощью метафизики присущее жизни многообразное становление. Более того, Кьеркегор и Ницше покидают диалектическое поле репрезентации, в рамках которого антигегельянство становится лишь его противоположностью, а значит сохраняет имманентную тождественность с ним: «Им [Кьеркегору и Ницше. – А.Ф.] недостаточно предложить новое представление о движении, поскольку представление уже есть опосредование. Речь, напротив, идет о том, чтобы вызвать в произведении движение, способное привести в движение рассудок вне всякого представления; без опосредования превратить самое движение в произведение; заменить опосредующие представления непосредственными знаками; изобрести вибрации, вращения, кружения, тяготения, танцы и прыжки, достигающие рассудок непосредственно» [Там же]. Перед нами интенция, характерная для неклассической философии: попытаться совершить прорыв к подлинному и непосредственному, которое предстает в облике не всеобщего, но единичного. Редуцирующему через опосредование рациональному мышлению здесь противопоставляется телесный, чувственный и эстетический опыт. Именно последний, по мнению неклассиков, позволяет ухватить жизнь в ее непрерывном становлении и развитии.
Ницшеанское осмысление жизни как становления для Делеза невозможно без концепта «повторения». Следует напомнить, что, например, в концепции Адорно и Хоркхаймера повторение подвергается сильной критике.
Повторяемость – характеристика мифологического, искажающего реальность мышления, которое устанавливает ложное тождество между объектами окружающего мира с целью получения практической пользы. Ее исток, по мнению Адорно, лежит в магическом мимезисе природных законов, для которых характерно циклическое движение. Иначе говоря, характерное для человеческого общества господство повторения, – это отголосок отчужденной от человека природы, в которой отождествляющая повторяемость властвует, подобно античному року. Делез, напротив, утверждает, что постоянство природных законов не является синонимом повторения: «Если повторение возможно, оно вытекает скорее из чуда, чем закона. Оно противозаконно… Если повторение можно найти даже в природе, то во имя противозаконно самоутверждающейся силы, работающей под законами, быть может, превосходящей их. Если повторение существует, оно одновременно выражает особенность – против общего, универсальность – против частного, примечательное – против обычного, единовременностъ – против переменчивости, вечность – против постоянства. Во всех отношениях повторение – это трансгрессия» [59, c. 16]. С одной стороны, повторение у Делеза, так же как и различие, направлено на воспроизводство особенного и уникального в противовес всеобщему. Повторение касается того, что не может быть уподоблено, приравнено, замещено. В этом смысле оно действительно характеризуется трансгрессивностью – то есть стремлением к преодолению собственных границ и выходу за пределы возможного, к становлению абсолютно другим. С другой стороны, повторение относится к области вечного и универсального, то есть осуществляется глубинной онтологической силой, по отношению к которой кажущиеся незыблемыми природные константы являются лишь переменными. Такая сила есть сила самой жизни, непреодолимая мощь ницшеанского вечного возвращения, бытия-становления, которое противостоит бытию-подобию и бытию-равенству.