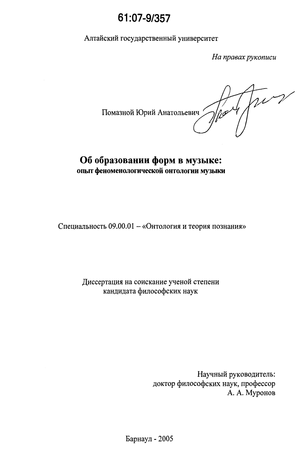Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Абсолютное - в музыке 11
1. Музыка - язык (чувств): перспективы аналогии 11
2. Абстрактное и конкретное; конкретное в музыке 37
Глава вторая. О некоторых подходах к толкованию сущности музыки (в аспекте вопроса об образовании формы) 67
3. Метафизическое толкование сущности музыки в аспекте вопроса о формообразовании (на примере А. Шопенгауэра) 67
4.Диалектическое толкование сущности музыки (на примере первого очерка работы «Музыка как предмет логики» А. Ф. Лосева) * 72
5. «Математическое» толкование сущности музыки (музыка и математика Лосева) ' 81
Глава третья. О возможности образования музыкальной фразы как формы, которая есть непрерывная последовательность упорядоченных тонов как элементов её материи 107
6.0 «формальном условии чувственности» - субъективном условии явления «тона» как материи музыки (опираясь на толкование «суждения о форме в музыке» И. Канта) 107
7. О музыкальной фразе как синтетическом единстве тонов 146
Заключение 170
- Абстрактное и конкретное; конкретное в музыке
- Метафизическое толкование сущности музыки в аспекте вопроса о формообразовании (на примере А. Шопенгауэра)
- «Математическое» толкование сущности музыки (музыка и математика Лосева)
- О музыкальной фразе как синтетическом единстве тонов
Введение к работе
Актуальность темы исследования
В попытках осмысления сущности музыки - и в философских исследованиях, и в музыковедении - явно или подспудно почти всегда присутствует вопрос: есть ли музыка язык, быть может язык особенный, или она таковым не является?
Само (явное или неявное) присутствие перед исследователем этого вопроса с необходимостью порождает следующее специфическое отношение к музыке как к объекту исследования: собственно тем, что называют «музыка», он (вопрос) вынуждает полагать разной продолжительности локальные единства - музыкальную интонацию, мотив, мелодию и т.д., - синтетические образования, формируемые из нескольких (множества) звуков и, в качестве таковых образований, отсылающие к какому-то значению или содержанию, которое, в свою очередь, предположительно и должно выступить основанием единства этих образований. Но попытки закрепить за подобными формообразованиями (по аналогии со словом - в языке) какие-либо устойчивые значения, что и позволило бы однозначно наделить музыку статусом языка, были и остаются безрезультатными.
Вышеуказанный факт даёт подавляющему большинству собственно музыкантов и весьма существенной и авторитетной части музыковедов возможность утверждать, что музыка - не язык, рассматривать её в качестве «автономной реальности» и, как естественное следствие, сконцентрировать своё внимание на изучении внутренних особенностей и структуре музыкальных форм (в узком, не онтологическом смысле слова), их возникновении и формировании в условиях культурных традиций и т.д. Попытка же рассмотреть в рамках такого «формалистского» музыкознания содержательную сторону музыки как «простого» множества упорядоченных звуков, наиболее показательным примером каковой попытки может, пожалуй, служить теория Э. Ганслика («О музыкально-прекрасном»), привела его к заключению о принципиальной невозможности создания эстетики музыки - на том основании, что в музыке невозможно различить «форму» и «содержание», в «перекрестье координат» каковых категорий всякая эстетика как наука, по его мнению, себя только и обнаруживает.
Сущность музыки, «ускользающая» от музыковедения, неизбежно становится объектом интереса в рамках философских исследований (точнее, она никогда не переставала быть объектом интереса философов). Будучи же перенесённой «на почву» философии, музыковедческая дилемма - есть ли музыка язык (набор знаков, символов - словом, абстракций любого уровня) или нет? - в подавляющем большинстве случаев разрешается положительно, при неизбежном, естественно, следовании этому - вопроса: что же, в таком случае, этот «язык» выражает и каким образом? И поскольку вряд ли возможно предположить, что звук сам по себе может нечто выражать или обо-
значать (подобное предположение Ганслика, например, вызвало в своё время лишь недоумение), единицами «музыкального языка», следовательно, остаётся предположить разного рода (одновременного или последовательного) целостные образования, состоящие из нескольких звуков. Понять специфические особенности таких образований как «знаков» и понять механизм отсылки к тому, что они каким-то образом выражают, и означало бы разгадку бытия музыки и её необъяснимого «душевного влияния» (или, если воспользоваться выражением А. Бергсона, «гипнотического внушения»), - так, видимо, и представлялась «философская задача» в отношении «музыки-знака». Попытки же осмыслить музыку - в рамках философских исследований - как семиотическую систему (вопреки известному факту невозможности установить «предмет» выражаемый «музыкой-знаком») зачастую приходили к обобщающим заключениям, наподобие того, что, если её и сопоставлять, сравнивать с языком, то каждую новую музыку нужно сравнивать с языком в целом; каждая новая музыка - всякий раз новый язык (Мишель Дюфренн); или если музыка есть символ (набор символов, «язык символов»), то весьма специфический символ, выражающий не чувство, но «морфологию чувства», некий момент перехода от непосредственного восприятия к «разумному оформлению» в символическую абстракцию (когда, и неизвестно ещё - символ чего?) - «незавершённый символ» (Сьюзан Лангер). Эти версии (и схожие с ними, некоторые из которых критически рассматриваются в контексте работы подробнее) истолкования сущности музыки, изначально исходящие из представления о ней как «знаке» или «символе» (словом, абстракции любого уровня), сталкивались с различной степенью неприятия со стороны разных сообществ, имеющих отношение к музыке (композиторов, музыковедов, исполнителей, философов...). Однако авторы этих версий зачастую и не настаивали чрезмерно на своих концепциях, видимо, предусматривая их некоторую «не до конца обоснованность» и предлагая воспринимать их как «не более чем версии».
Учитывая вышеизложенное, осмелюсь предположить, что в рамках именно философского исследования музыки в достаточной степени актуален подход, вовсе игнорирующий изначальное отношение к ней, как к семиотической системе или «символической абстракции», или «языку» и т.п., подход, позволяющий философии оказаться, с позволения сказать, «над ситуацией». Дело в том, что вне зависимости - соглашаться ли с положением, что какой-либо продолжительности единство звуков разной высоты тона, упорядоченных во времени, например интонация или мелодия, есть выразитель какого-то «скрытого содержания» (психологического или, быть может, метафизического плана), то есть в своём бытии мелодия как «знак» отсылает к отличному от неё бытию как «означаемому»; или, напротив, считать, что музыкальная тема либо мотив есть «автономная реальность», а всякое предположение «скрытого за» ними значения не более чем искусственное навязывание музыке чуждого ей «означаемого» (каковая в целом дилемма и представляет собой изначальное предположение музыки в качестве «языка» или отказ от такого предположения), - в любом случае существует вопрос,
предшествующий самому этому выбору и предстоящий любой попытке «разгадать» значение музыкальной интонации или мелодии, или музыкального произведения целиком. Всякая такая попытка в своей исследовательской интенции нацелена на мелодию (или интонацию, или мотив) как на нечто уже имеющееся; но есть в отношении мелодии проблема, находящаяся в исключительной компетенции философии (если, конечно, философия по-прежнему претендует на то, чтобы почитаться областью человеческого знания, нацеленного на истолкование того или иного рода «начал») и сводящаяся к тому, что мелодия или мотив, прежде всего, должны образоваться в нашем сознании, точнее, быть образованы нашим сознанием. Фактически это вопрос о том, почему у людей есть музыка. Как вообще возможно, что музыка имеется у нас? Попыток дать ответ на вопрос о бытии музыки в таком его аспекте в философии нет.
«Музыка есть», - такими словами заканчивает «Резюме» довольно объёмного исследования «Музыка как мир человека» В. Суханцева. Но, как мне кажется, философии следовало бы как раз начать с этого, задаться вопросом: как возможно, что музыка есть у нас? Прежде чем делать допущения (если есть желание делать таковые) о том, что «обозначают» или «выражают» те или иные музыкальная интонация, мотив, музыкальная тема и т. д., не следовало бы задуматься над тем, как они образовались в нашей голове и, образовавшись, удерживаются там по крайней мере всё то время, пока мы (те, кто занимается этим разгадыванием) разгадываем их «значение». Если бы это не было возможно, музыки бы не было у нас: разгадывать было бы нечего. Речь, стало быть, пойдёт о формообразующей, или, можно так сказать, «формотворящей» способности человеческого сознания как условии того, что у людей есть музыка.
Степень разработанности проблемы
Подавляющее большинство попыток истолкования бытия музыки можно обобщить в виде двух «генеральных направлений»: а) «музыка - поющее число», б) «музыка - язык чувств». В своей попытке понять музыку и то, и другое «направление» подходили к ней изначально как к чему-то вторичному, «слепку с оригинала» (исключение есть, кажется, одно, и мы оговорим его отдельно).
В первом случае «оригиналом» является «жизнь числа», под которым следует понимать, естественно, не цифру, но Число как некий «онтологический закон мирозданья». Эта традиция берёт начало в европейской философии от Пифагора и его «музыки сфер». «Венцом» же этой концепции можно, пожалуй, считать второй, третий и четвёртый очерки широко известной работы А.Ф.Лосева «Музыка как предмет логики» («Очерк первый» в этом смысле исключение, на которое будет подробно указано в контексте диссертации, наряду и в сравнении с вышеупомянутыми), где он, толкуя Число как основание Времени, нечто объективно существующее в природе чему даже присуще становление («время есть становление числа»), даёт объяснение и музыке - своеобразное конструирование «инобытия бытия числа» (конструирование «меонизированного эйдоса»). Поскольку музыка, таким образом,
является выражением «сокровенной жизни» числа, которое само есть «сокровенное начало» мира (сродни Пифагоровым представлениям о «началах» как «музыке сфер», или наподобие Платоновских «идей», или «предустановленной гармонии» Лейбница), предполагается, что соприкосновение с этой «изнанкой мирозданья» должно само собой уже и объяснять «тайное» влияние музыки на человека. (В качестве «промежуточного развития» идеи математического истолкования музыки могут быть, помимо Лейбница, упомянуты Боэций, И. Кеплер, И. Риттер, М. Мерсенн и даже О. Шпенглер, высказавшийся в «Закате Европы» в том смысле, что «и цвета, и контуры, и звуки, и гармония зависят от числа»). Но дело в том, что подобные метафизические (можно было бы сказать - до-кантовская метафизика) попытки толкования бытия музыки вовсе не задаются вопросом, каким образом та или иная, допустим, конкретная мелодия образовалась, явилась человеку в качестве таковой? Более того, они просто-таки аннулируют сам вопрос об условиях и возможности её образования, имея в виду мелодию в качестве «готового» феномена; они, как критически и точно замечал Эрнест Ансерме, «разъясняют музыку в её трансцендентности, а не в её феномене».
То же (в смысле аннулирования проблемы) можно повторить и о воззрениях на музыку Шопенгауэра, кстати, высказывавшего недоумение относительно того, что можно было бы считать первичным по отношении друг к другу - музыку или число, но, тем не менее, вполне в духе метафизики «сделавшего» музыку самым непосредственным выражением «Воли» - «самовоплощением Воли», уравняв музыку с «Идеями», которые есть также «самовоплощение Воли», а мир есть уже воплощение «Идей». (Отсюда его замечательное «по форме», но, конечно же, сомнительное по существу выражение: «До известной степени, музыка могла бы существовать, - даже, если бы не существовал мир»).
О втором случае. Версия истолкования музыки как разного рода абстрактного «обозначения-выражения» чувств, эмоций, аффектов, то есть «музыка - язык чувств», зародившаяся, подобно и вышеочерченному представлению о её «числовом происхождении», в Древней Греции (учение об «этосе» и «ладах» дорийском, лидийском, фригийском и т. д., соответствующим различным типам человеческих характеров), получившая развитие в Средние века, нашедшая поддержку позже, в лице Декарта («Компендиум музыки», «Трактат о страстях»), затем Гегеля, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Хэрриса, Д. Уэбба, в целом представляющая собой попытку провести аналогию между музыкой и речью, и на этом «пути» истолковать её сущность и т.д., так же оказалась в тупике («в растеренности», по выражению уже упоминавшегося Э.Ансерме). «Увязать» определённые (даже устойчивые) музыкальные формообразования, в каком-то смысле уподобляя их словам речи и их значениям, с конкретными, им соответствующими, проявлениями человеческой психики не возможно (предварительного «договора» нет), и, например, Сьюзен Лангер, заключая рассмотрение примеров безрезультатных попыток -экспериментальным путём обнаружить связь каких-то определённых звуков, их характеристик или сочетаний с чем-то «фиксированно-достоверным» из
области аффектов, - в конце концов, приводит мнение весьма уважаемых (Риман и Пратт) учёных о том, что «некоторые проявления музыки столь похожи на чувства, что мы ошибочно принимаем их за последние, хотя в действительности они полностью от них отличаются»: «Скорее часто, чем редко, эти формальные черты музыки остаются безымянными; они являются просто тем, чем является музыка...»
Наконец, о ещё одном возможном подходе к осмыслению музыки, каковым является феноменологический метод. Последний представлен точкой зрения Романа Ингардена (известное и доступное автору исключение из «философского правила» - изначально рассматривать музыку как знак или символ чего-то, что не есть она сама, - которое было обещано оговорить отдельно), состоящей в том, что пытаться понять музыку, изначально полагая её абстракцией или (что то же самое) уподобляя речи, бесперспективно. В книге «Исследования по эстетике» Ингарден предпринял попытку обосновать необходимость подхода к пониманию музыки как к «интенциональному объекту», и этим подход должен быть строго ограничен. Как представитель феноменологической философии, Ингарден попытался «препарировать» музыку на уровне «непосредственных данных сознания», выделяя в музыкальной ткани «звуковые моменты», «звуковые «виды», «незвуковые элементы», обнаруживая в ней некие «формы, которые, как он писал, не совсем формы в онтологическом смысле, однако...», на которые не обращалось (и не могло обратиться) внимание «математических толкователей» сущности музыки, мимо которых прошли и концепции «музыки как языка чувств» и т.д. Однако данный опыт феноменологического исследования музыки оказался незавершённым: именно вопрос о том, каким образом «мотив», который Ингарден и предложил считать «единицей музыкального смысла», представляет собой целостность в нашем восприятии музыки (то есть вопрос, поставленный «во главу угла» данного исследования) не нашёл у него своего решения, - от попытки поисков ответа Ингарден просто уклонился.
Кроме предыдущего примера феноменологических исследований музыки, хотелось бы указать работу Ивана Микиртумова «Сущность и смысл музыкального объекта», опубликованную в одном из сборников «Санкт-Петербургского феноменологического общества» и содержащую важные для автора диссертации идеи. В частности, именно из этой работы был заимствован - как регулятивная идея - сам вопрос относительно условий возможности образования форм в музыке, который, будучи как бы «вскользь упомянут» во вступлении статьи, но не рассматриваем в качестве вопроса, требующего непосредственного ответа, звучал так: «Как мы можем запоминать и воспроизводить музыкальные фразы?»
Объект исследования
Музыка, рассматриваемая как множество упорядоченных относительно друг друга и упорядоченных во времени звуков.
Предмет исследования
Наиболее простые целостные упорядочивания звуков, то есть формы, такие как - музыкальный мотив, мелодия.
Цель исследования
Обосновать и описать условия возможности и процесс образования форм музыки, то есть условия возможности становления музыкальных формообразований. Где имеется в виду: а) преимущественно простые формообразования, упомянутые в предыдущем пункте; б) формообразование в онтологическом смысле в рамках аристотелевского отношения «материя-форма»; в) «форма» понимается в соответствии с кантовскими представлениями - как субъективное, а именно, «способ, посредством которого элементы вещи, образующие её материю, объединяются в целое».
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
Сконцентрировать внимание на особенностях элементов, составляющих материю мелодии как формы, каковыми являются звуки.
Уточнить и разграничить, что в звуке, по сути являющемся целостным феноменом - совокупностью качеств громкости, тембра и высоты тона, составляет собственно материю мелодии, а что к таковой материи отношения не имеет.
Исследовать вопрос, каковы условия возможности созерцания человеком различных качеств (в частности, интересующих нас в связи с темой диссертации и указанных в предыдущем пункте качеств, совокупность каковых мы и называем «звук»), как мы можем многие качества различать и идентифицировать вообще.
4. Исследовать проблему оснований человеческих представлений о
«единстве» и «числе», а так же возможность концептуального приведения
происхождения этих представлений к одному основанию, что и позволило
бы описать процесс образования мелодии как формы, которая по сути пред
ставляет собой непрерывную последовательность звуков, то есть единство,
но многих элементов материи.
Теоретическая и методологическая основа:
Концепция Иммануила Канта об условиях возможности чувственного опыта и созерцании как первоначальном познании. Рассматриваемая в качестве развития указанной концепции И. Канта, теория сознания Жана-Поля Сартра; метод - феноменология.
Новизна исследования
Предлагается истолкование сущности и смысла музыки, рассматриваемой не в качестве того или иного рода знаковой системы, несущей какое-то «привнесённое содержание» или «переносное значение», но - как становящееся формообразование; истолкование, таким образом, выступающее общетеоретической основой для так называемых «формалистских» (по существу, антипсихологических и неметафизических) эстетических теорий, в качестве примеров каковых в области музыкальной теории, в частности, могут быть приведены эстетические исследования Р. Ингардена или Э. Ганслика, предполагающие рассмотрение и изучение музыки как «автономной реальности» - что согласуется с пониманием музыки собственно музыкантами.
Предложена версия истолкования человеческой способности (проблема природы которой, относящаяся к исключительной компетенции философии сознания, прежде не рассматривалась), обычно называемой «музыкальный слух», как способности - открывать качество «высота тона звука». Описанный в диссертации «механизм» открытия указанного качества без труда экстраполируется на проблему возможности открытия человеком других (любых) качеств, представляя, таким образом, в определённом отношении иную версию (в сравнении, например, с представлением о «созерцании многообразного» И. Канта) истолкования того, что есть «чувственное созерцание», и каков его «механизм».
Рассматривается вопрос о том, каким образом и на каком основании множество тонов может в то же время являться единством их непрерывной последовательности - мелодией (как это возможно, если не на основании предполагаемой какой-либо «идеи» как идеи последовательности для этого множества, что обычно и имеется в виду под «содержанием» или «значением» музыки, при этом вне всякой возможности - хоть до какой-то степени точного прояснения этого «содержания»). Мелодия, таким образом, являясь логически противоречивым «разорванным континуумом» или, что то же самое, «дискретной непрерывностью» (и то и другое - оксюморон, если угодно), выступает своеобразной «моделью», позволяющей - в процессе истолкования условий возможности её образования как формы - дополнительно прояснять проблемы, проявляющиеся в известных и, на первый взгляд, взаимоисключающих представлениях о дискретности и непрерывности («длительности») времени, о «простоте» и одновременной «составно-сти» вещи и т. д., то есть проблемы, обобщающиеся в рамках отношения «единства» и «числа».
Положения, выносимые на защиту
Звук не есть феномен пассивного созерцания, но «творчество нашего ума» (если воспользоваться выражением Д. Юма), это есть совокупность трёх качеств - громкость, тембр, высота тона - как продуктов спонтанной различающей активности сознания, то есть звук как материя музыки существует постольку, поскольку существует человек, его воспринимающий; выражаясь же короче: esse звука est percipi.
Тот же самый, один спонтанный акт сознания (принимая же концепцию Ж.-П.Сартра, такого рода акты и есть Сознание - активность без субъекта активности) суть и функция различения тонов разной высоты (то есть качеств как элементов материи мелодии как формы), и функция разделения на многие тоны-качества, и функция связи тонов в синтетическое целостное формообразование, - только обоснованные в качестве такой универсальности, спонтанные акты сознания могут быть истолкованы в качестве условие возможности мелодии как формы.
Человеческие представления о «единстве» и «числе» онтологически восходят к одному основанию; предположение же того, что представление о «единстве» и представление о «числе» имеют различные основания (хоть субъективное и объективное основания, хоть равно субъективные основа-
ния, но - различные), есть препятствие к пониманию возможности мелодии как упорядоченного множества тонов (то есть дискретного множества), объединённого во временную непрерывность (то есть континуум).
4. Лишь феноменологический подход к музыке как объекту исследования, в частности, феноменологическая онтология сознания Ж.-П.Сартра, взятая за основу и рассматриваемая в качестве дополнения и «исправления» философских представлений И.Канта об условиях возможности созерцания качественного многообразия и условиях возможности звязи «многообразного созерцания» в целостные образования, позволяет дать истолкование тому, как возможно образование мелодии как формы (то есть синтетического единства многих тонов), и как возможно созерцание, как таковое, тонов (качеств «высота тона») как материи указанной формы.
Теоретические и практические результаты
Достигнутые результаты позволяют углубить понимание проблемы «чувственного опыта», или «созерцания», рассматриваемого не как пассивное воспринимание качественного многообразия, но как творческая активность сознания по свободному почину. Основные выводы могут быть использованы при разработке общей методологии творчества. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке учебных курсов по философии, философской антропологии, философии и психологии творчества. Основные выводы могут найти применение в учебно-воспитательном процессе, в педагогической деятельности, где в процессе обучения возникает необходимость формирования мировоззрения.
Апробация полученных результатов
Основные моменты диссертационного исследования получили своё отражение в статьях, опубликованных в научных сборниках. Работа обсуждалась на кафедре философии и истории Алтайской государственной академии культуры и искусств, а также научно-практических конференциях: 5-я Международная конференция молодых учёных и студентов, г. Самара, 7-9 сентября 2004 г.; «Мелос и логос: диалог в истории» - международная научно-практическая конференция (в рамках «Дней петербургской философии-2004»), Санкт-Петербург, 16-18 ноября 2004 г.
Структура диссертации
Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, и заключения. Общий объем текста 183 стр. Библиография - 171 наименование.
Абстрактное и конкретное; конкретное в музыке
Попробуем оттолкнуться от собственных обыденных представлений. Передо мной стоит стол, реальный стол, за которым я пишу; конкретный стол. Сказав о нём - «стол», я обозначил его этим абстрактным термином, связывающим собой все существующие, существовавшие и предполагаемые к существованию в мире столы тем, что, видимо, он фиксирует тождество абстрактных объектов, в качестве каковых выступает свойство вещи -предназначаться для «сидения за ней для какой-либо цели или без таковой». В противоположность абстракции «стол», фиксирующей тождество абстрактных объектов, о конкретном столе, стоящем передо мной, я могу сказать просто, что он тождественен самому себе.
Заметим сразу, что такое содержание термина «конкретное» - тождество в точном смысле - это «общепринятая» в философии характеристика абсолюта, начиная от парменидова «единого» или платоновского «неба, находящегося в беседе с самим собой» и даже «питающегося собственным гниением», через Бога, характеризованного Фомой, как «тождество сущности и существования» (в отличие от вещей, которым присуще лишь существование - сущности вещей принадлежат Богу), через «единую субстанцию» Спинозы или «монаду» Лейбница, через гегелевское «понятие» - «в себе и для себя сущее есть осознаное понятие, а понятие, как таковое, есть в себе и для себя сущее» [21, с. 102] и до диалектико-исторического процесса смены общественно-экономических формаций, ничем не обусловленного, кроме самих формаций, внутри которых - сам по себе - «назревает» конфликт между производительными силами и производственными отношениями, приводящий к смене одной формации другой.
Подобная же моей характеристика «абстрактного», как выясняется по прочтении «Понимания абстрактного и конкретного в диалектической и формальной логике» Э. Ильенкова, совпадает по сути с тем, что было сказано об этом у Христиана Вольфа: «Согласно Вольфу, "абстрактное понятие -это такое понятие, которое имеет своим содержанием свойства, отношения и состояния вещей, обособленные (в уме) от вещей" и "представленные как самостоятельный объект"» [37, с.178]. Выясняется так же, что «X. Вольф 38 не первоисточник. Он лишь воспроизводит взгляд, сложившийся еще в логических трактатах средневековой схоластики. ... И номиналисты и реалисты одинаково называют конкретным отдельные, чувственно-воспринимаемые, наглядно-представляемые "вещи", единичные предметы, а абстрактным - все понятия и имена, обозначающие или выражающие их общие "формы"» [там же]. Вообще-то хотелось бы познакомиться с самим «первоисточником» - «тончайший доктор» Иоанн Дуне Скот, как известно, ввёл понятия «абстрактное» и «конкретное», - но это, к сожалению, мне недоступно (нет переводов его латинских текстов). Остаётся делать предположения в том смысле, что виднейший номиналист, отдававший приоритет сущности единичной вещи по отношению к её существованию (в отличие и в противостоянии Фоме Аквинскому), фактически абсолютизировавший единичности в мире, вполне мог иметь в виду идею индивидуального тождества - содержанием вводимого им понятия «конкретное»: сущность как средоточие (concretus - сросшееся) многих внешних, проявляющихся в её существовании свойств вещи. Это если иметь в виду функционирование терминов «абстрактное» и «конкретное» в области онтологии и метафизики. При перенесении же их в сферу логики (в том числе и в особенности -диалектической), они приобретают форму понятий «абстрактное понятие» и «конкретное понятие», превращаясь в методологический спекулятивный принцип, вообще не имеющий в виду онтологическую «вещь» (то есть скажем так: «онтологическое конкретное»). В этом смысле читаем в «Логике» Канта: «Выражения абстрактный и конкретный относятся не столько к самим понятиям самим по себе - ибо всякое понятие есть абстрактное понятие (курсив мой - Ю.П.) - сколько лишь к их применению. А это применение опять-таки может иметь различные степени - соответственно тому, как понятие трактуется - более абстрактно, менее абстрактно или конкретно, т.е. сообразно тому, больше или меньше отбрасывается от него или соединяется с ним определений. При абстрактном применении понятие приближается к высшему роду; при конкретном, напротив, к индивидууму...» [47, с.355]. В диалектической же логике, естественно вопреки агностицизму Канта (в рамках которого отнесение выражения «конкретный» возможно, видимо, только к «вещи самой по себе»), выражение «конкретный» стало принято откосить к «понятию самому по себе», и была открыта даже новая человеческая способность - «мыслить конкретно» («вся хитрость в том, чтобы мыслить конкретно» [37, с.191]).
Однако же мы не будем здесь вдаваться в подробности «противостояния» диалектической и формальной логик, но попытаемся сосредоточиться на выражении «конкретное» (в том числе, и «конкретное понятие») - какую дефиницию оно в разных случаях приобретало? - и быть может, проясним природу моей опрометчивой абсолютизации его содержания, проявившейся в возникшей идее тождества «позади» него.
В этом, пожалуй, нам не лишним будет прибегнуть к помощи Дэвида Юма и обратить внимание на одно из удачно указанных им положений в отношении принципа индивидуации, а именно: в суждении «объект тождественен самому себе» имеет место «подлежащее и сказуемое» (см. [167, с. 169-170]). Действительно, сказав, что мой конкретный стол тождественен самому себе, я имел в виду его тождество с ним же самим, находящимся где! -нигде, иначе как в моём кабинете, моё воображение не стремилось допустить наличие моего стола. Очевидно - я имел в виду этот же стол, но, например, вчера (позавчера, завтра и т.д.); я «умножил во времени» свой стол на произвольное число п, при этом не допуская вероятности, «чтобы какая-нибудь причина своим действием произвела изменение» [167, с. 169]. Таким образом, силою воображения я сконструировал тождество - ирреальное постоянство как «гарантию реальности» вещи (поскольку, строго говоря, сама возможность «постоянства» как такового вызывает сомнение ещё со времён Гераклита). И наверняка, вольно или невольно, я должен был «присоединить сюда фикцию чего-либо непрерывного и неизменного» или «по крайней мере чувствовать склонность к подобной фикции» [167, с.313]: это могла быть «материя» или, если я придерживаюсь точки зрения Филонуса («esse est per-сірі» см. [11]), «Некто, непрерывно воспринимающий» все вещи мира, - в любом случае, в моем «глубинно-онтологическом» понимании значения термина «конкретное» мы обнаруживаем фикцию воображения - тождест 40 во как юмовское «философское отношение», - фикцию, «гарантирующую» мне реальность стола («реальное» - это ведь синоним «конкретное»?).
Метафизическое толкование сущности музыки в аспекте вопроса о формообразовании (на примере А. Шопенгауэра)
Сьюзен Лангер называет Шопенгауэра «пионером» в представлениях о музыке, как о «разновидности языка» - предположении, имеющем «не сиюминутный, а концептуальный характер». А к примеру, А.Клюев утверждает, что «...А.Шопенгауэр, предложив в своём знаменитом труде «Мир как воля и представление» трактовку музыки как «мировой воли», или, иначе говоря, как космического, мирового начала... в сущности обобщил достижения всех мыслителей, разрабатывавших данную тему до него, от Пифагора до Ритте-ра» [ , с. - ].
На это можно бы заметить, что если и «обобщил», то - напрочь отвергая, в особенности Пифагора (наряду с Лейбницем): «Музыка. Она стоит совершенно особняком от всех других. Мы не видим в ней подражания, воспроизведения какой-либо идеи существ нашего мира; и тем не менее она такое великое и прекрасное искусство, так могуче действует на душу человека и в ней так полно и глубоко им понимается в качестве всеобщего языка, который своей внятностью превосходит даже язык наглядного мира, что мы, несомненно, должны видеть в ней нечто большее, чем exersitium arithmeticae occultum nessientis se numerare animi (скрытое арифметическое упражнение души, не умеющее себя вычислить), как определил её Лейбниц... Мы должны приписать ей гораздо более серьёзное и глубокое значение: оно касается внутренней сущности мира и нашего Я, и в этом смысле численные сочетания, на которые может выть сведена музыка, представляют собой не обозначаемое, а только знак (курсив мой - Ю.П.). Что она должна относиться к миру в известной мере как изображение к изображаемому, как снимок к оригиналу, это мы можем заключить по аналогии с прочими искусствами, которым всем свойственен этот признак и с действием которых на нас действие музыки однородно, но только более сильно и быстро, более неизбежно и неотразимо. И её воспроизведение мира должно быть очень интимным, бесконечно верным и метким, ибо всякий мгновенно понимает её...» [ , с. - ].
Также, по Шопенгауэру, не выражает музыка и чувства, поскольку чувства, испытываемые нами, есть явления, у которых всегда присутствуют внешние «мотививы», и есть у них «внутренняя сущность», и в этом смысле, чувства - «удаление» (abstractio): «Никогда нельзя забывать, что музыка имеет к ним [чувствам] не прямое, а лишь косвенное отношение, так как она выражает вовсе не явление, а исключительно внутреннюю сущность, в себе всех явлений, самую волю. ...она выражает радость, печаль, муку, ужас, ликование, веселие, душевный покой вообще, как таковые, сами в себе..., выражает их сущность, безо всякого придатка и без мотивов к ним» [ , с. ].
Надо помнить, что Шопенгауэровская «воля» - это ведь не умозрительная метафизическая «сущность», а попытка «выразить в понятии» универсалию восприятия (иным словом, «субъективный идеализм»): «...[кто] овладел так же in abstracto, т.е. ясно и твёрдо, тем познанием, которое in соп-creto есть у всякого непосредственного, т.е. в виде чувства, кто овладел познанием, что внутренняя сущность его собственного явления... что эта сущность его воля и что она составляет самое непосредственное в его сознании (курсив мой, ЮЛ.) ...кто, говорю я, пришёл вместе со мной к этому убеждению, для того оно само собой сделается ключом к познанию внутренней сущности всей природы...» [ , C. ].
С другой стороны, Шопенгауэр всё-таки «присвоил» Волю и «вещам» как - их «предел конкретности», открывающийся человеку «как в себе его собственного явления» («я-явление» и «вещь-явление» - суть явления одного и того же): «С констатированием вещи в себе у Канта произошла та же история, что и с априорностью закона причинности: оба учения верны, но способ их доказательства ложен; таким образом, они являются правильными заключениями из ложных посылок. Я удерживаю и то и другое, но обосновываю их совершенно иным и верным способом. Вещь в себе... я вообще достигаю её не какими-либо окольными путями, а непосредственно констатирую её там, где она непосредственно лежит, - в воле, непосредственно от крывающейся каждому как в себе его собственного явления. Это непосредственное уразумение собственной воли и есть тот источник, из которого возникает в человеческом сознании понятие свободы: ибо, конечно, воля, как мирозиждительная сила, как вещь в себе, свободна от закона основания, а вместе с тем от какой бы то ни было необходимости, - а следовательно, она совершенно независима, свободна и даже всемогуща» [ , с. ].
«Непосредственной объективацией» воли, по Шопенгауэру, выступают «идеи (Платоновы)»; их «воспроизведение» и «подражание» им - функция иных, кроме музыки, искусств. Но и «музыка - это непосредственная объективация и отпечаток всей воли, подобно миру, подобно идеям... не отпечаток идей, а отпечаток самой воли, объектностью которой служат и идеи...» [ ,с. ]
Поэтому-то: «...музыка ...могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вовсе не было, чего о других искусствах сказать нельзя» [ ,с. ].
А также: «...если бы удалось найти совершенно правильное, полное и простирающееся до самых мельчайших деталей объяснение музыки, т. е. если бы удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях, что она собой выражает, то это вместе с тем оказалось бы достаточным воспроизведением и объяснением мира в понятиях, или было бы с последним вполне согласно, т. е. было бы истинной философией...» [ , с. ]. (Только для сравнения: это то же самое, как и сказать, допустим, - «будет истинной философией, если в мельчайших подробностях, в понятиях объяснить, откуда в нашей голове берутся apriori синтетические суждения»).
Конечно, интуиция «in concreto» трудно описывается (в этом смысле к «истинной философии» - что подразумевал здесь Шопенгауэр - вполне уже может быть отнесена философия Хайдеггера). А пока что: «...я нашёл разгадку её (музыки) внутренней сущности и характера её подражательного отношения к миру... Но доказать эту разгадку я считаю невозможным по существу, ибо она принимает и устанавливает отношение музыки как представления к тому, что по существу никогда не может быть представлением, и требует, чтобы в музыке видели копию такого оригинала, который сам непосредственно никогда не может быть представлен» [ , с. ].
И поскольку поставлен знак равенства - две «адекватные объективации воли» - между музыкой и «идеями (Платоновыми)», воплощением которых являются вещи и явления объективной реальности, то и: «Мир можно назвать как воплощённой музыкой, так и воплощённой волей» [ , с. ].
По существу, мы сами - «мы-явление» есть «как воплощённая воля, так и воплощённая музыка». Такое смелое предположение означает, что «восприятие-понимание» музыки есть встреча, «слияние» со своей сущностью (которая, конечно же, предшествует всяким психическим состояниям-эмоциям) и суть идеал познания: «Мелодии до известной степени являются, подобно общим понятиям, абстракцией действительности ...музыка даёт предшествующее всякой форме сокровенное зерно, или сердцевину вещей. Это отношение можно было бы очень хорошо выразить на языке схоластиков: понятия - universalia post rem, музыка даёт - universalia ante rem, а действительность - universalia in re» [ , c. ].
«Математическое» толкование сущности музыки (музыка и математика Лосева)
В отличие от первого очерка - там Лосев пытался утвердить ту точку зрения, что музыка «не сводима на иное бытие», - уже вторым очерком он утверждает прямо противоположное, сводя бытие музыки - на «бытие числа».
После сомнительного истолкования «истинного бытия» музыки, на пути противопоставления его упорядоченности «лже-феноменов» звуков, предпринятого Лосевым в первом - написанном в 1921 году - очерке «Музыка как предмет логики», Лосев делает в своих философско-музыкальных изысканиях довольно большой перерыв и «Очерк второй» указанной работы датирован 1924-м годом. За это время была написана «Философия имени», где возникают и - в истолковании «имени» - с полным успехом применяются понятия «эйдос» и «меон».
За это время он так же, видимо, утвердился в мысли, что его неудачу следует отнести на счёт феноменологического метода - существенного недостатка «новейшей феноменологии, возникшей под руководством гения Гуссерля..., который ярко бросается в глаза тому, кто вообще всматривался в историю понятия эйдоса. Это - анти-диалектичностъ конструкции» [64, с.271].
Надо полагать, что на возможности, открывающиеся именно в диалектическом методе, он и рассчитывает, провозгласив новую цель: «Нужно отбросить далеко от себя всякие абстрактно-метафизические, будь то спиритуалистические или материалистические, выведения чистого феномена музыки» [там же, с.268].
В целом - я согласен: нужно отбросить... Разве что смущает выражение - «выведение чистого феномена». Тем не менее, цель поставлена: «...обнаружить идеальность музыкального бытия и указать его спецификум (не опечатка; примеч. моё - Ю.П.) по сравнению с бытиём логическим», [там же, с.269] И как мы видим, у музыки есть все-таки два бытия - «бытие идеальное» и «бытие логическое».
Заметим, впрочем, забегая вперёд, что это - та же самая двойственность, но - приобретшая другие формулировки в связи с новым аспектом её рассмотрения: что в первом очерке полагалось «упорядоченностью» и «эстетическим бытиём, выделенным из бытия истинного в целях анализа», теперь названо - «логическое бытие»; что называлось «истинным бытиём», теперь -«бытие идеальное». Что касается «нового аспекта», предполагается рассмотрение бытия музыки в аспекте числа.
Сразу возникает вопрос о том, как Лосев понимает «число»? Что, в этом смысле, нам может дать, например, следующая дефиниция: «.. .время есть длительность и становление чи ел а» [там же, с.310].
Что фактически означает сказанное? - это означает, что числу присуще становление и длителъносъ. Это означает не иначе как его «вездесущность».
Допустим, что «длительность» мы должны отнести, видимо, к человеческой реальности, - от нас не скрылось, что, говоря о «связности и взаимо-проникнутости частей» музыки, Лосев явно имел в виду именно концепцию времени Бергсона (она, кстати, очень близка к пониманию временности Гуссерлем, его «ретенциям» и «протенциям» - на это он сам указывает в переписке с Г.Шпетом; см. [27]), о котором (Бергсоне) в первом очерке Лосев упоминает в самых превосходных тонах (см. [64, с.237]), и в примечаниях к «Музыке...» читаем замечание редактора: «Благодаря А. Бергсону (1859-1941) жизнь для Л. «навсегда осталась... драматургически-трагической проблемой» [там же, с.624]. Во втором же очерке Лосев обнаруживает уже некоторое разочарование и в Бергсоне, называя его концепцию временности «ненаучной» и имеющей «наивно-опытный (хотя и правильный и притом глубокий) корень» (см. [там же, с.327]). «Становление» же, скорее, принято считать «свойством» универсума; и поскольку числу, по Лосеву, присущи и «длительность», и «становление», следовательно, число вездесуще; число существует объективно (а равно и в нашей голове): «И если бы сдвинулось подлинно с места система чисел и само число, то это было бы равносильно нашему помрачению. Без числа нет различения и расчленения» [там же, с.ЗП] (хотя, почему бы не предположить обратное: без различения - нет числа).
Каким образом у Лосева возникло представление о числе, как о своего рода «начале сущего», мы можем догадаться по редакторскому примечанию к «Музыке...» - в отношении даты написания частей произведения: «...1925 г., 3 - 4-й очерки МПЛ(2-й очерк написан накануне, в 1924 г., когда «антич 84 ный платонизм предстал», по словам Л., перед его взором «в законченной форме»)» [там же, с.620]. Это до определённой степени объясняет возможность возникновения мысли о вторичности времени по отношении к числу. Как известно, в 5-м веке до н.э. к сократовско-платоновскому направлению философии примкнул пифагорейский союз. Это было приобретение для платонизма - Е его противостоянии представлениям Элеатов о едином начале всего сущего. Сделаем небольшое отвлечение.
Несколько пафосно для сегодняшнего уха звучащую задачу философии «познать природу вещей» можно попытаться «расшифровать» более привычно: почему возникают качества, почему существуют разные качества, почему изменяются качества, почему исчезают качества?
Можно предположить (как Сократ), что качества имеют свои прообразы - в «идеях» (наряду с формами). Но мы помним, как Парменид, в одноимённом диалоге Платона, легко доказал Сократу, что полагать в основе вещей «идеи» - неправильно, потому что идей «множество», а многого не существует - с чем Сократ и соглашается, видимо, «под давлением авторитета» (см. [89, с.352]; есть мнение, однако, что авторство этого диалога Платону не принадлежит). А затем, поддавшись уговорам собравшихся, Парменид, в диалоге с Аристотелем, преподаёт всем «урок» диалектики, общий смысл которого в том, что к «единому», которое суть онтологическая основа сущего, вообще не применимы никакие количественные или качественные характеристики, оно не движется и не пребывает в покое, не вращается, не совпадает с собой и т. д. Всё заканчивается утверждением: «Если единое не существует, то ничего не существует» [там же, с.412]. Что касается качеств сущего, то они, равно как и «многое» (словом, всё, что мы наблюдаем вокруг нас в мире ежедневно), видимость и иллюзия - таково было мнение «позднего» Парменида.
О музыкальной фразе как синтетическом единстве тонов
Это совершенно верно: именно - «должно быть что-то такое, что придаёт единство», - что, собственно говоря, и делает мотив целостным временным формообразованием. Но сказать, что единство мотиву придаёт его целостность, которая есть целостность потому, что мотив есть целое (???) ... Нечто подобное - «музыка действует силой музыкальности» - мы уже встречали... Мотив и есть уже музыкальное формообразование, и надо понять, как возможна такая целостность; констатации того, что она - «целое», недостаточно. Нам, следовательно, предстоит рассмотреть, как «игра тонов», правила которой задаются «формальным условием чувственности» - «явлением-квинтой», вследствие каковой игры - тоны и являются, открываются человеку, «игра», рассматриваемая здесь как игра одновременно звучащего, становится возможной при последовательном звучании-явлении тонов. То есть как она становится «игрой ощущений (во времени)», то есть - мелодией или мотивом, или музыкальной фразой музыкальной фразе как синтетическом единстве тонов Прежде чем перейти к вопросу о возможности «игры ощущений (во времени)», как это названо у Канта, что и представляет собой мотив или мелодия, имея при этом в виду, что «играющими (во времени) ощущениями» в ней выступают те самые «ощущения степени настроенности (напряжённости) - тоны», то есть качества - высота тонов звуков, нам нужно будет снова обратиться к «Критике чистого разума», в частности, к условиям возможности связи представлений (в нашем случае всё ограничится только видом представления «ощущение (sensatio)»), как такую возможность объясняет Кант. Его разъяснение этого вопроса мы проследим постольку, поскольку мотив или, допустим, музыкальная фраза есть, будучи «игрой ощущений», естественно, и связь их, то есть синтетическое единство тонов -последовательно сменяющих друг друга явлений. Музыкальная фраза, если снова в терминах Канта, есть «репродуктивный синтез» тонов.
«Как мы можем запоминать и воспроизводить музыкальные фразы?» -так звучал вопрос, подвигнувший меня на данное сочинение; и для того, чтобы сделать его несколько «созвучнее», что ли, намечаемому здесь рассмотрению этого вопроса в свете некоторых аспектов теории Канта, мы его несколько переформулируем. В первом издании кантовской «Критики...» третий параграф главы «Дедукции чистых рассудочных понятий раздел второй» был озаглавлен «О синтезе узнавания в понятии». Естественно, рассмотрев и аспект, требуется ли, вообще говоря, в качестве условия узнавания музыкальной фразы «понятие», мы и зададимся конкретным вопросом в такой формулировке: как мы можем узнавать музыкальную фразу? Согласи 147 тесь, существо проблемы от этого не меняется; помня музыкальную фразу, мы её узнаём, узнавая - помним, помня - воспроизводим, - и во всех случаях мы именно связываем данные «внутреннего чувства»; условие же возможности последнего, по Канту, есть «способ, которым субъект подвергается внешним воздействиям», «чистая форма» этого чувства - время.
Есть, однако, как учил Кант, у чувственности и другое условие её возможности, а именно - «трансцендентальное единство апперцепции», выступающее условием возможности чувственного опыта в качестве, в свою очередь, условия возможности «чистого синтеза», «продуктивного воображения»; а «многообразное созерцания», в свою очередь, подчинено воображению как «спонтанному акту» по «связыванию» и «просматриванию» данного в созерцании качественного многообразия, вне каковой связи чувственный опыт также не был бы возможен:
«Представление, которое может быть дано до всякого мышления, называется созерцанием. Все многообразное в созерцании имеет, следовательно, необходимое отношение к [суждению] я мыслю в том самом субъекте, в котором это многообразное находится. Но это представление есть акт спонтанности, т. е. оно не может рассматриваться как принадлежащее чувственности. Я называю его чистой апперцепцией...; оно есть самосознание, порождающее представление я мыслю, которое должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть одним и тем же во всяком сознании; следовательно, это самосознание не может сопровождаться никаким иным [представлением], и потому я называю его также первоначальной апперцепцией. Единство его я называю также трансцендентальным единством самосознания, чтобы обозначить возможность априорного познания на основе этого единства. В самом деле, многообразные представления, данные в некотором созерцании, не были бы все вместе моими представлениями, если бы они не принадлежали все вместе одному самосознанию; иными словами, как мои представления (хотя бы я их и не сознавал таковыми), они все же необходимо должны сообразоваться с условием, единствен 148 но при котором они могут находиться вместе в одном общем самосознании, так как в противном случае они не все принадлежали бы мне» [45, с. 100].
Итак, с точки зрения Канта, есть два строго отличных друг от друга условия возможности чувственного опыта: «Основоположение о первоначальном синтетическом единстве апперцепции есть первое чистое рассудочное познание, на нём основывается всё дальнейшее применение рассудка; но оно вместе с тем совершенно не зависит ни от каких условий чувственного созерцания» [45, с. 103]. Эти два условия возможности чувственного опыта -«чистые формы чувственности» как способ, которым субъект подвергается воздействиям, и единство «первоначальной апперцепции» как необходимое условие связи являющегося. Вне такой связи - «изолированно», так сказать, являющееся качество было бы для нас ничем (здесь без труда просматривается одно важнейшее «пирроново положение», один из «тропов» скептиков о том, что всякое качество может нам открываться как таковое лишь в связи, в отношении с другим качеством - «твёрдое» для нас есть постольку, поскольку есть «мягкое», «высокий тон» - «высок» постольку, поскольку есть тон «ниже» его и т.д.).
Именно здесь и возникает та трудность, которая, я думаю, и принудила Канта переписать вышеупомянутую главу при последующем издании «Критики...». Трудность эту, однако, ему преодолеть так и не удалось, на что он сам и указал - во вторично переписанном тексте (я приведу ниже эти его слова).
Коллизия состоит в том, что строгое различие двух условий возможности чувственного опыта (а Кант во второй редакции настаивает на таком различии, и далее я поясню причину этой настойчивости) соблюсти трудно, точнее, невозможно. Невозможно отделить «синтез схватывания в созерцании» (так в первой редакции он называет первичный интеллектуальный акт, обусловленный единством самосознания и связывающий многообразное; за ним следуют акты - «синтез воспроизведения в воображении» и «синтез узнавания в понятии») от времени как «формального условия чувственности», «чистой формы созерцания». Одно ведь не может быть без другого. Если не открылись в созерцании, по крайней мере, два качества какого-либо явления, то связывать в целостность-феномен нечего. Но и обратно, если какое-либо качество не явилось в непременной связи с другим качеством (в составе целостности), то и не может быть никакого знания об этом - «одиноко явившемся» качестве: «Если бы всякое представление было чуждо другим представлениям, как бы изолированно и обособленно от них, то никогда не возникло бы ничего похожего на знание, так как знание есть целое, состоящее из сопоставимых и связанных между собой представлений. Поэтому если я приписываю чувству способность обозрения (Sinopsis), так как оно в своих созерцаниях содержит многообразие, то этой способности обозрения всегда соответствует синтез, и восприимчивость делает возможным знание, только если она связана со спонтанностью» [45, с.500], - так в первой редакции обнаружилась непреодолимая взаимная зависимость двух условий возможности чувственности, которая, однако, настоятельно отрицается Кантом - во второй редакции, когда, показав, что «эмпирическое сознание многообразного, данного в едином созерцании, точно так же подчинено чистому самосознанию a priori, как эмпирическое созерцание подчинено чистому чувственному созерцанию, которое также существует a priori» [45, с. 106], он напишет:
«Однако от одного обстоятельства я не мог всё же отвлечься в вышеприведённом доказательстве, а именно от того, что многообразное для созерцания должно быть дано еще до синтеза рассудка и независимо от этого синтеза (курсив мой - Ю.П.); но как - это остается здесь неопределенным» [45, с.107].