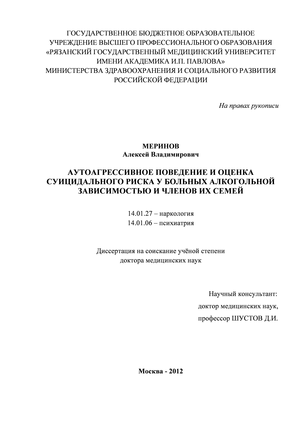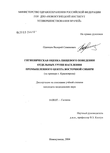Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Обзор литературы 13-39
1.1 Алкогольная зависимость и семейно-брачные отношения 13-22
1.2 Аутоагрессивное поведение в зависимо-созависимой диаде 22-33
1.3. Роль семейных отношений в суицидологической практике 33-35
1.4. Клинико-психологические особенности детей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью 35-39
Глава 2. Материал и методы исследования 40-53
2.1. Общая характеристика клинического материала 40-44
2.2. Основные методы исследования 44-53
Глава 3. Аутоагрессивная, экспериментально-психологическая и наркологическая характеристики супругов в семьях мужчин, страд а-ющих алкогольной зависимостью 54-92
70-92
3.1. Показатели суицидальной и несуицидальной аутоагрессии и лич-ностно-психологические характеристики мужчин, страдающих алкогольной зависимостью 54-59
3.2. Особенности диагностики суицидальных феноменов у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью 59-61
3.3. Показатели суицидальной и несуицидальной аутоагрессии и лич-ностно-психологические характеристики жён мужчин, страдающих алкогольной зависимостью 61-66
3.4. Метод оценки аутоагрессивного потенциала респондентов 66-70
3.5. Влияние наличия суицидальной активности у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, на несуицидальный аутоагрессивный спектр, наркологические и личностно-психологические характеристики самого респондента и его супруги 70-81
3.5.1. Сравнение аутоагрессивного профиля, наркологических и экспериментально-психологических характеристик мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, имеющих и не имеющих суицидальную активность в анамнезе
81-87
3.5.2. Сравнение аутоагрессивного профиля и личностно -психологических характеристик женщин, чьи мужья, страдающие алкогольной зависимостью, имеют и не имеют суицидальную активностьв анамнезе
3.6. Метод диагностики риска суицидального поведения у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью 88-92
Глава 4. Клинические варианты семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью 93-120
4.1. Описательная характеристика типов браков мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, с учётом степени и динамики проницаемости границ семейной системы
4.2. Аутоагрессивная и экспериментально-психологическая характеристики мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, из браков с первично, вторично открытой и перманентно закрытой семейной с и-стемами
4.3. Наркологическая характеристика мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, из браков с перманентно закрытой, первично и вторично открытыми семейными системами
4.4. Характеристики жён мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, из браков с перманентно закрытой, первично и вторично открытыми семейными системами
4.5. Эпискрипт в семьях мужчин, страдающих алкогольной зависимостью
Глава 5. Аутоагрессивная, наркологическая и э кспериментально-психологическая характеристики взрослых детей, выросших в семьях, где родитель, страдал алкогольной зависимостью
5.1. Аутоагрессивная, наркологические и экспериментально-психологические характеристики юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
5.2. Аутоагрессивная и экспериментально-психологические характеристики девушек, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
5.3. Сравнение показателей аутоагрессивной активности и личностно-психологических профилей юношей и девушек, вырос ших в с емьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
5.4. Сравнение показателей аутоагрессивной активности и личностно-психологических профилей юношей и девушек, выросших в с емьях, где родители не страдали алкогольной зависимостью
5.5. Роль детей из семей, где родитель страдал алкогольной зависимостью, в процессе образования аддиктивных браков Глава 6. Влияние развода на аутоагрессивные, наркологические, экспериментально-психологические характеристики мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, и их бывших супруг
6.1. Влияние развода на аутоагрессивные, наркологические и экспериментально-психологические характеристики мужчин, страдающих алкогольной зависимостью
6.2. Влияние развода на аутоагрессивные и экспериментально-психологические характеристики бывших жён мужчин, страдающихалкогольной зависимостью
Заключение 151-190
Выводы 191-192
Практические рекомендации 192-194
Приложения 195-234
Список литературы 235-273
- Клинико-психологические особенности детей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
- Особенности диагностики суицидальных феноменов у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью
- Описательная характеристика типов браков мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, с учётом степени и динамики проницаемости границ семейной системы
- Аутоагрессивная, наркологические и экспериментально-психологические характеристики юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
Введение к работе
Актуальность исследования. Алкогольная зависимость и ассоциированное с ней суицидальное и несуицидальное аутоагрессивное поведение, являются серьёзной проблемой многих стран, включая Россию (Кошкина Е.А., 2001; Брюн Е.А., Шустов Д.И., Бузик О.Ж., 2005; Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2005; Винникова М.А. [и др.], 2006; Пилягина Г.Я., Чумак С.А., Семенцул В.Э., 2006; Халтурина Д.А., Коротаев А.В., 2006; Немцов А.В., 2009; Cherpitel C.J. [et al.], 2004; Mitchell J., 2011). Уровень заболеваемости алкогольной зависимостью и популяционное количество самоубийств (как наиболее яркого примера саморазрушающего поведения), являются важным критерием благополучия любого государства (Винникова М.А. [и др.], 2006; Положий Б.С., 2006; Москаленко В.Д., 2007; Немцов А.В., 2009). Большинство современных исследователей констатирует достоверную связь между распространённостью алкогольной зависимости в обществе и уровнем суицидальной активности, а также преждевременной смертностью (Немцов А.В., 2003; Иванец Н.Н., Анохина И.П., 2004; Шустов Д.И., 2009; Kolves K., Varnik A., Tooding L.M., 2006; Rehm J., Taylor B., Patra J., 2006). В то же время, не подвергается сомнению факт влияния семейно-брачного фактора как на нозоморфоз алкогольной зависимости (Москаленко В.Д., 2002; Чернышова Л.А., 2006; Агибалова Т.В., Бузик О.Ж., 2007; Парран Т.В., Лиепмен М.Р., Фаркас К., 2007), так и на генезис суицидального поведения (Пилягина Г.Я., 2004; Буткова Т.В. [и др.], 2010; Hirch, J.K., 2006), причём, в условиях сформированной алкогольной зависимости, катализирующее воздействие семейной дисфункциональности в отношении реализации аутоагрессивного поведения, приобретает наиболее фатальное значение (Амбрумова А.Г., 1990; Войцех В.Ф., 2008; Cherpitel C.J. [et al.], 2004). Таким образом, мы имеем взаимосвязанные отношения между феноменами суицидального и иного аутоагрессивного поведения, алкогольной зависимостью и качеством функционирования семейного института.
К сожалению, большинство исследований, описывающих отношения перечисленных явлений, ограничиваются изучением связи каких-либо двух из них. До сих пор не имеется описания взаимодействия всех трёх феноменов с позиции их системных отношений, до конца не известна природа этой связи, ее динамические характеристики. Более того, все существующие классификации семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, не затрагивают аутоагрессивную составляющую подобных браков и, за редким исключением, носят статичный характер.
Традиционно к алкогольной аутоагрессии относят аутодеструкцию самих аддиктов (Разводовский Ю.Е., 2004; Немцов А.В., 2009; Mitchell J., 2011), однако, алкогольная зависимость, затрагивая всю семью, формирует созависимый контингент (супруги, дети, иные родственники и друзья пациента), обладающий высоким аутоагрессивным потенциалом (Пилягина Г.Я. [и др.], 2006; Hurcom C., Copello A., 2000), часто не ассоциирующимся в клинической работе с «основным» заболеванием.
Не изучеными остаются динамические особенности саморазрушающего поведения в зависимо-созависимой диаде. Можно утверждать, что вопросы клинической типологии и характеристики семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, являются недостаточно разработанными и нуждаются в дальнейшем изучении. Существующие концепции аутоагрессивного поведения способны помочь шире взглянуть на алкогольную зависимость и созависимость, найти точки их соприкосновения. Представляется, что подход, направленный на осознаннанное понимание и отказ от патологических семейных антивитальных стереотипов, должен быть одним из вариантов терапии больных алкогольной зависимостью и их созависимых родственников.
Цель исследования: комплексное изучение аутоагрессивных характеристик мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, их жен и детей; разработка клинико-терапевтической типологии супружеских отношений, учитывающей аутоагрессивные, наркологические и личностно-психологические особенности супругов; создание метода оценки риска суицидального поведения у пациентов, страдающих алкогольной зависимостью.
Задачи:
-
Изучить влияние наличия суицидальных паттернов на несуицидальный аутоагрессивный профиль, наркологические и экспериментально-психологические показатели респондентов и их жён;
-
Разработать метод оценки суицидального риска у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью;
-
Разработать клиническую типологию семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, описать аутоагрессивные, наркологические и экспериментально-психологические характеристики супругов;
-
Изучить аутоагрессивные, наркологические и экспериментально-психологические характеристики взрослых детей обоего пола, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью;
-
Исследовать аутоагрессивные, наркологические и экспериментально-психологические характеристики разведённых мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, и их бывших жён;
-
Изучить системное значение и место аутоагрессии в семьях мужчин, страдающих алкогольной зависимостью;
-
Предложить концепцию терапии алкогольной зависимости в контексте выявленной семейной типологии, а также аутоагрессивной и наркологической характеристик супругов.
Научная новизна
Впервые суицидальные паттерны у супругов, из семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, рассмотрены в контексте их связи с несуицидальными аутоагрессивными феноменами, наркологическими и личностно-психологическими характеристиками респондентов;
Впервые созданы методы оценки аутоагрессивности и суицидального риска у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью;
Впервые описана типология семей пациентов с алкогольной зависимостью, учитывающая динамику проницаемости семейных границ, в контексте ее наркологической и суицидологической значимости;
Впервые показана неоднородность созависимой реакции у супруг мужчин, страдающих алкогольной зависимостью;
Впервые изучены аутоагрессивные и экспериментально-психологические характеристики взрослых детей обоего пола, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью;
Впервые изучены аутоагрессивные, наркологические и экспериментально-психологические показатели разведённых мужчин, страдающих алкогольной зависимостью и их бывших жён;
Впервые, на основе выделенной типологии семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, предложены дифференцированные модели психотерапевтической работы.
Практическая значимость исследования. Использование предложенного коэффициента суицидальной опасности (КСО) позволяет проводить скрининговую оценку риска суицидального поведения мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, что имеет принципиальное прикладное значение для наркологии, позволяющее повысить количество выявляемых больных, нуждающихся в специфических профилактических мероприятиях. Использование коэффициентов просуицидальной напряженности (КПСН) позволяет параметрически оценивать аутоагрессивную сферу респондентов как в статике (КПСН), так и в динамике (КПСН за два последних года) и позволяет мониторировать указанный показатель с целью оценки эффективности психотерапевтических и профилактических интервенций, затрагивающих аутоагрессивные модели поведения.
Выявленные в исследовании данные, позволили выделить значимую для терапии типологию семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, учитывающую соответствующие наркологические и аутоагрессивные характеристики супругов, что повышает качество антиалкогольного лечения и снижает количество аутоагрессивных паттернов после проведённой терапии. Работа с созависимыми женами улучшает их общее состояние, уменьшает количество аутоагрессивных паттернов и неконструктивных семейных моделей поведения.
Установленный факт сокрытия суицидальных попыток у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, позволяет переосмыслить традиционные подходы к диагностике парасуицидального поведения в наркологической практике. Знание аутоагрессивных и личностно-психологических характеристик детей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью, имеет важное значение для психопрофилактики и создания психообразовательных программ, позволяющих корректировать их актуальный аутоагресивный статус и формировать здоровые основания для выбора брачного партнера.
Реализация результатов работы. Результаты проведенных исследований применяются в практической работе клинических отделений ФГБУ ННЦ наркологии Минздравсоцразвития России, ГУЗ РОКНД Минздравсоцразвития России, ГКУЗ РОКПБ имени проф. Н.Н. Баженова Минздравсоцразвития России, ГУЗ РОКПНД Минздравсоцразвития России, ГКУЗ ТамбОПБ Минздравсоцразвития России, а также в курсе преподавания психиатрии и наркологии на кафедре психиатрии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России. Основные положения и результаты работы докладывались на областных клинических врачебных конференциях, семинарах врачей психиатров-наркологов (2010, 2011), Первом национальном конгрессе по социальной психиатрии «Психическое здоровье и безопасность в обществе» (2004, Москва), межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы развития личности» (2008, 2010, Рязань), XIV съезде психиатров России (2005, Москва), республиканской научной конференции «Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения» (2007, Рязань), межрегиональной конференции к 120-летию РОКПБ им. Н.Н. Баженова (2008, Рязань), XI международной научно-практической конференции «Медицина и психология: пути поиска оптимального взаимодействия» (2011, Рязань), заседании Проблемной комисссии ННЦ Наркологии Минздравсоцразвития России (2012, Москва). Апробация работы проведена на межкафедральном совещании в ГБОУ ВПО РязГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздравсоцразвития России 14.10.2011 г.
Положения, выносимые на защиту:
-
Наличие суицидальных паттернов у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, ассоциируется с присутствием несуицидальных аутоагрессивных феноменов, клиническим своеобразием алкогольной зависимости. Их жён также отличают специфические аутоагрессивные особенности (в частности, собственная суицидальная активность);
-
Созданный коэффициент суицидальной опасности (КСО) позволяет валидно оценивать соответствующий риск у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью;
-
Выделенная типология браков мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, отражает особенности их образования, внутреннюю динамику, аутоагрессивную и наркологическую специфичность, с точки зрения проницаемости семейных границ и модели реагирования супруги;
-
Воспитание в условиях семьи, где родитель страдает алкогольной зависимостью, формирует у детей обоего пола высокие показатели аутоагрессивной активности, которые увеличиваются при образовании ими аддиктивно-коаддиктивных брачных пар;
-
Для мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, развод не является катализатором суицидальной активности и иного аутоагрессивного поведения. У их бывших жён, после развода, отмечается снижение уровня аутоагрессивности, не достигающее подобных показателей у женщин из браков, где супруг не страдает алкогольной зависимостью;
-
Предлагаемые терапевтические модели позволяют более гибко строить лечебный процесс зависимого и созависимого состояний, что улучшит качество антиалкогольной терапии и качество жизни созависимых.
Публикация результатов исследования. По материалам диссертации опубликовано 61 печатная работа (57 научных публикаций и четыре учебно-методические работы), перечень которых приводится в конце автореферата.
Структура и объем диссертации. Работа выполнена на 273 машинописных страницах, состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, приложений, библиографического указателя, включающего 417 наименований (254 работы отечественных, 163 - зарубежных авторов), содержит 30 таблиц, шесть рисунков, иллюстрирована восемью клиническими примерами.
Клинико-психологические особенности детей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
Около 40 лет назад внимание исследователей стал привлекать проблемный контингент детей, выросших в семьях людей, страдающих алкогольной зависимостью. Выяснилось, что актуальность этой проблемы обусловлена не только грубой социальной дезадаптацией и виктимностью да нной когорты, но и значительной распространённостью этого явления (Jordan S., 2010). Так в США около 40% взрослых людей (около 76 млн. человек) имеют в роду больных алкоголизмом (Hall C.W., Webster R.E., 2002). Доля детей, у которых хотя бы один из родителей страдает алкоголизмом (в дальнейшем мы будем использовать устоявшуюся формулировку «взрослые дети алкоголиков» (ВДА), в США по данным последних исследований составляет от 1:8 до 1:5 (Jordan S., 2010). Следует отметить, что по мере увеличения среднего возраста популяционного среза доля ВДА в нем уменьшается, что отражает их меньшую продолжительность жизни (Balsa A.I., Homer J.F., French M.T., 2009). Экстраполируя приведённые общемировые пропо рции на Россию, с учётом текущего тренда уровня алкоголизации населения, можно говорить о том, что число ВДА составляет от 25 до 50% (Москаленко В.Д., 2006).
Наибольший интерес к этому малоизученному явлению отмечался в 6080-х го дах прошлого столетия, когда были выявлены основные клинико-психопатологические паттерны синдромокомплекса «взрослого ребёнка а л-коголика», а также статистически определён наиболее вероятный спектр ко-морбидной патологии (Bulik С.М., 1987; Freshman A., Leinwand C., 2001). В конце XX - начале XXI века интерес исследователей переключился на анализ психодинамических (Kelley M.L. [et al.], 2010) и нейрофункциональных аспектов этого многогранного явления (Heitzeg M.M. [et al.], 2010). В последнее десятилетие наблюдается сдвиг интереса учёных с проблем индивида к его взаимоотношениям с ближайшим окружением (Schuckit M.A., Tipp J.E., Kel-ner E., 1994; Kearns-Bodkin J.N., Leonard K.E., 2008).
Клинико-психопатологические аспекты. Наиболее частой «фасадной», но, к сожалению, далеко не единственной проблемой ВДА являются химические зависимости. В различных исследованиях многократно доказано, что риск заболеть алкоголизмом у ВДА значительно выше (Johnson S., Leonard K., Jacob Т., 1986; Freshman A., Leinwand C., 2001). Причём, при наличии отца, зависимого от алкоголя, риск иметь алкогольную зависимость у детей выше в четыре раза (Goodwin D. [et al.], 1973), при наличии аддикции у матери - в три раза (Bohman M., Sigvardsson S., Cloninger R., 1981).
Частота алкоголизма по данным различных источников у взрослых сыновей составляет от 17 до 70%, у взрослых дочерей больных алкоголизмом -от 5 до 25%, наркомании – около 6% и 3%, токсикомании – приблизительно 17% и 5% соответственно (Кошкина Е .А. [и др.], 1998). Только у 19,9% взрослых детей, чьи родители больны алкоголизмом, не обнаруживается каких-либо психопатологических нарушений на момент исследования семьи (Гунько А.А., 1992). Так же в ряде исследований доказано, что у ВДА выше встречаемость бо левого синдрома, тика, насморка, энуреза, бессонницы (Nylander I., 1960), мигрени и насморка (Schneiderman I., 1975), аллергии, анемии, простуды, проблем с весом (Bulik С.М., 1987), эти люди имеют на 60% больше повреждений и травм (Putnam S., 1985), во время обучения в школе они склонны к агрессивному и рискованному поведению (Van Den Berg N., Hennigan K., Hennigan D., 1989). В то время как у мужчин из группы ВДА в спектре психопатологических проявлений преобладают наркологические за болевания, для женщин наиболее типичными являются нозологии невротического и пограничного регистра (Кошкина Е.А. [и др.], 1998). Сюда относят посттравматическое и другие связанные со стрессом расстройства (Hall C.W., Webster R.E., 2002), а также расстройства тревожного и депрессивного спектров (Jones D.J., Zalwski C., 1994; Kelley M.L. [et al.], 2010).
Вопрос о специфичности ассоциированных с воспитанием в семье больных алкогольной зависимостью клинико-психопатологических паттернов является дискутабельным и, скорее, открытым. Так, в ряде исследований показано, что схожий спектр проявлений имеется и у людей, выросших во всех дисфункциональных семьях, особенно в условиях внутрисемейного физического насилия. И.А. Марголина [и др.] (2005) показали, что у детей из дисфункциональных семей встречаемость психических нарушений составляет 95%. S.L. Harter (2000) на основании мета-анализа пришёл к выводу, что проявление «синдрома ВДА» неспецифичны, а K.J. Sher (1997) предположил, что сопутствующая патология зависит от наличия коморбидного зависимости заболевания у родителей: так если у родителей помимо алкоголизма были черты антисоциального личностного ра сстройства, то с большой в ероятно-стью оно будет наблюдаться и у их детей и т.п. Несмотря на спорность некоторых положений и неполную ясность структуры взаимоотношений различных клинико-психопатологических проявлений у ВДА, большинство исследователей сходятся в одном: ВДА являются группой риска по формированию большого спектра наркологических и психиатрических заболеваний, а также имеют сниженный уровень социального функционирования (Москаленко В.Д., 1994; Harter S.L., 2000; Beesley D., Stoltenberg C.D., 2002).
Психодинамические и личностно-психологические аспекты феномена ВДА. Детям из алкогольных семей уже в первые шесть месяцев жизни свойственны негативные паттерны привязанности: низкий эмоциональный ответ, высокий уровень негативного реагирования, редкие позитивные посылы родителям, а в возрасте 18-36 месяцев у них выявляются явные нарушения поведения с интернализацией конфликта (Edwards E.P., Eiden R.D., Leonard K.E., 2002). При этом алкогольная зависимость у матери, в целом, является более деструктивной, потому что нарушает симбиотические отношения в первые годы жизни, когда закладываются основы личностной адаптации ребёнка (Kelley M.L., 2008). В то же время, крепкая привязанность к здоровой матери значительно снижает негативное влияние алкоголизма о тца (Kelley M.L. [et al.], 2010). Семья больного алкогольной зависимостью - это семья с контрастными правилами: они либо слишком свободны, либо слишком строги (Тащёва А.И., Зелинская С.Ю., 1996). В такой семье ребёнок очень рано начинает понимать, что алкоголизм - это большой секрет семьи, и все плохое, что с ним связано, необходимо скрывать. Поэтому дети стремятся всеми силами скрыть «позор» семьи, они не могут откровенно говорить о семье ни с друзьями, ни с учителями; секретность, увёртки, обман становятся обычными компонентами их жизни (Москаленко В.Д., 1990). Перечислим основные характеристики семей с алкогольной зависимостью у родителя, наиболее значимые для формирования специфических нарушений у ВДА (Тащёва А.И., Зелинская С.Ю., 1996; Smit E., 1991; Beattie M., 1997): размытость, нечёткость границ различных сфер жизни, личностей - дети часто не знают, какие из их чувств нормальны, а какие - нет; теряют «твёрдость психологической почвы под ногами» (Beattie M., 1997). Полученные ВДА отрицательные воспитательные конструкты по мере взросления будут мешать им устанавливать доверительные отношения (Москаленко В.Д., 1990). В первую очередь, это будет проявляться в трудностях создания брака. Доказано, что ВДА реже выходят замуж/женятся, а если выходят, то отмечают меньшую удовлетворённость браком и более частые разводы (Woititz J.G., 1986; Domenico D., Windle M., 1993; Watt T.T., 2002; Kearns-Bodkin J.N., Leonard K.E., 2008). Н.К. Ради-на (2003) приводит данные, согласно которым у ВДА менее дифференцированный образ «Я-реальное» по сравнению с юношами и девушками из обычных семей и специфика представлений о себе у ВДА состоит в биполярности ролевого набора: быть агрессором или жертвой.
Особенности диагностики суицидальных феноменов у мужчин, страдающих алкогольной зависимостью
В клинической работе врача-нарколога информация о парасуициде в анамнезе наиболее часто получается путём целенаправленного расспроса пациента, когда ему прямо задаются вопросы, касающиеся наличия у него суицидальных феноменов (субъективный анамнез) (Амбрумова А.Г., Чуркин Е.А., 1980; Шустов Д.И., 2005), либо в результате факта пребывания пациента в кризисном стационаре после попытки самоубийства (Пилягина Г.Я., 2004). К сожалению, всем наркологам хорошо знакома селективная забывчивость лиц , страдающих алкогольной зависимостью. С одной стороны, это связано с механизмами отрицания и вытеснения «неприемлемых» воспоминаний, попытками скрыть стыдную информацию, с другой - постепенным нарушением мнестической сферы в результате хронического воздействия алкоголя (Шабанов П.Д., 2002). Образующиеся мнестические лакуны зачастую касаются фактов анамнеза, представляющих важное значение, как для наркологической, так и суицидологической практик, например, суицидальных попыток. Во время проведения исследования у нас имелась возможность получение данной информации от ближайших родственников больного, а именно его супруги, поскольку в дальнейшем подразумевалась семейная терапия носителя алкогольной зависимости. Одним из вопросов в интервью с МСАЗ и его супругой был следующий: «Имел ли Ваш супруг в прошлом суицидальную попытку, высказывал открыто мысли покончить с собой?». Вопрос был включён в опросник по причине встретившихся спорадических случаев амнезии суицидальных попыток в связи с гипоксией (после самоповешения), когда родственники по каким-либо причинам сохраняли от больного этот факт в тайне. При анализе результатов объективных данных, отражающих саморазрушающие тенденции супруга, выяснилось, что данная информация вносит существенную поправку в наше представление о распространённости суицидальных феноменов у зависимых от алкоголя мужчин.
У десяти (8%) из общего числа обследованных МСАЗ парасуициды в анамнезе были обнаружены только со слов супруги, сами больные на вопрос о наличии у них подобных феноменов ответили отрицательно. Эта цифра приобретает иное значение, если учесть тот факт, что вообще попытка суицида в анамнезе со слов самих респондентов была выявлена у 30 МСАЗ (24% от общего количества обследованных), а с учётом МСАЗ, скрывших попытку самоубийства - у 40 (32%). Иными словами, 25% суицидальных попыток в анамнезе у зависимых от алкоголя мужчин (то есть, 10 из 40 выявленных) обнаружились только с использованием информации полученной от бл и-жайших родственников (в нашем случае, жён). Или выражаясь иначе, с использованием «объективных сведений» о пациенте в традициях и рамках классической психиатрии. Подчеркнём добровольное согласие МСАЗ на привлечение их жён для получения сведений, касающихся особенностей их заболевания, в частности всего спектра аутоагрессивных проявлений, что с одной стороны, является фактом установления доверительных и конфиденциальных отношений, а с другой, вероятно, характеризует тотальность и мощность механизмов вытеснения и отрицания у пациентов. Лишь одна супруга МСАЗ (3,33%) из всех жён «парасуицидальной» подгруппы мужчин, страдающих алкоголизмом, не имела информации о попытке самоубийства у мужа в прошлом. Безусловно, данные полученные от супруги (даже, с добро вольного согласия мужа), по ряду причин (этических и терапевтических) не должны использоваться для прямой конфронтации пациента («А вот ваша супруга сказала»), но, уже располагая такой информацией, врач будет иметь возможность, при необходимости, варьировать терапевтический процесс и более селективно использовать те или иные психотерапевтические интервенции.
Таким образом, субъективно полученные данные, отражающие наличие суицидальных попыток у больных алкогольной зависимостью, являются в значительной степени заниженными (до 25%). Значительное число мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, имевших в прошлом суицидальную попытку, не попадают при первом и последующих обращениях к наркологу в суицидальную группу риска.
В наркологической практике информация, получаемая из объективных источников, в значительной степени дополняет субъективные данные, которые мы получаем от самого пациента. В амбулаторной практике сбор объективного анамнеза в ряде ситуаций затруднён. Это связано с необходимостью формального согласия со стороны пациента, что достижимо при длительных терапевтических программах с привлечением родственников (например, супружеская терапия).
В условиях стационара, поскольку часто приходится иметь дело с психотическими пациентами, необходимо пользоваться легитимной возможностью сбора объективного анамнеза от родственников.
Описательная характеристика типов браков мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, с учётом степени и динамики проницаемости границ семейной системы
В целом, понятие границ семьи происходит из теории семейных систем (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999; Варга А.Я., 2001; Гречишкина А.П., 2004; Андреева Т.В., 2005; Watzlawick P., Bevin J., Jackson D.D., 2000). Любая семья предполагает наличие внутреннего (семейного, «своего») пространства и внешнего (несемейного, «чужого») пространства. Для описания взаимоотношений между семьёй и социальным окружением используется параметр «границы семейной системы» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999; Варга А.Я., 2001; Андреева Т.В., 2005; Watzlawick P., Bevin J., Jackson D.D., 2000; Brown J.H., Christensen D.N., 2001). В правильно функционирующих семьях внешние границы изначально ясно очерчены и проницаемы. Их структурная и функциональная патология является одной из важных системных характеристик дисфункциональных браков, в частности семей мужчин, страдающих алкогольной зависимостью (Эйдемиллер Э .Г., Юстицкис В. В., 1999; Вострокнутов Н.В., 2002; Литвиненко В.И., 2003; Целуйко В.М., 2003; Гре-чишкина А.П., 2004; Кошкина Е.А., Спектор Ш.И., Сенцов В.Г., 2008). Браки мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, давно уже изучаются с позиций с истемного подхода (Пояркова Е.В., 2004; Schuckit M.A., Smith T.L., 2000; Stewart Ch., 2002; Weinhold B.K., Weinhold J.B., 2008). Существует ряд публикаций, посвящённых психологическим и психодинамическим особе н-ностям браков, где один или оба супруга страдают алкогольной зависимостью (Шайдукова Л.К., 2006; Егоров А.Ю., 2005; Watzlawick P., Beavin J., Jackson D.D., 2000; Steiner C., 2003). Одной из его основных особенностей, которая описывается большинством учёных (Чернышова Л.А., 2006; Kaufman E., Pattison E.M., 1986; Stum E., Rauchfleisch U., 1990; Hudak J., Krestan J.A., Bepko C., 1999), является феномен «закрытой семейной системы», то есть социальной изоляции, которая является одной из главных динамических характеристик созависимой реакции близких. Поведение членов семьи, прежде всего супруги, подчинено сокрытию алкоголизма мужа, семейных конфликтов и семейного насилия, своеобразный заговор молчания по поводу семейных и наркологических проблем (Москаленко В.Д., 2002; Weinhold B.K., Weinhold J.B., 2008). И это не просто следование принципу «не выносить сор из избы», но и патологическая уверенность в его отсутствии - отрицание проблемы, либо сильное преуменьшение проблемы - рационализация ситуации (Москаленко В.Д., Шибакова Т.Л., 2003; Литвиненко В.И., 2003; Wein-hold B.K., Weinhold J.B., 2008).
«Закрытая семейная система» является следствием закономерного прохождения семьёй больного алкогольной зависимостью ряда стадий, и обычно преподносится как некое «неминуемое» терминальное состояние, после которого у супруги следует развитие психосоматозов, депрессий, суицидальный реакций, либо смирение или развод (Чернышова Л.А., 2006; Kaufman E., Pattison E.M., 1986; Hudak J., Krestan J.A., Bepko C., 1999).
Однако, как показывает практика, далеко не всегда в подобных семьях существует указанная поступательная динамика. Феномен «закрытой семейной системы» имеет ряд особенностей, а в определённых случаях отсутствует совсем. Вариативность состояния закрытости семейной системы была обнаружена при изучении феноменологии, распространённости, динамики ауто-агрессивных паттернов у супругов в подобных бра ках. Обнаружено, что аутоагрессивные и наркологические показатели у супругов зависят от степени открытости/закрытости семейной системы, что позволило нам разделить все браки МСАЗ на три основные группы, используя в качестве группообра-зующего фактора вышеуказанный феномен, а также тип реакции супруги на алкогольную зависимость мужа. В результате выделены три клинически чётко очерченных модели динамики семейной системы браков МСАЗ в зависимости от проницаемости границ семейной системы: модель с перманентно закрытой семейной системой, первично открытой и вторично открытой семейными системами. Рассмотрим подробнее обозначенные варианты семейной динамики:
А) Брак МСАЗ с перманентно закрытой семейной системой - наиболее «классический» вариант семейной динамики, когда после этапа стенической борьбы за здоро вье мужа и фазы по следующей депрессии, супруга делает границы семьи ригидными и непроницаемыми (истинная закрытость семейной системы), инкапсулируя проблему зависимости внутри узкого семейного круга (куда зачастую не входят даже родители супругов, их братья и сестры), после чего начинается многолетняя имитация гармоничной семьи, не имеющей никаких проблем, тем более с алкогольной зависимостью у мужа. Данный вариант встретился в 61,6% обследованных нами семей МСАЗ (77 наблюдений). Подобная закрытость достаточно часто достигает гротескного и нелепого уровня, когда только сама супруга МСАЗ, по-прежнему, продолжает верить в свои иллюзии, не смотря на то, что уже годы или десятилетия назад, ее тайна (и часто, тайна детей из этой семьи) стала «секретом Полишинеля» (Эйдемиллер Э .Г., Юстицкис В.В., 1999; Чернышова Л.А., 2006). Через годы, красной нитью в подобных браках МСАЗ проходит желание супруги скрывать стыдную тему алкогольной зависимости супруга. Происходит типичная полная блокада (тотальная закрытость), с компульсивно возникающей убеждённостью в том, что спасти мужа получится, если предпринимать ещё больше усилий, с постоянным чувством вины, навязчивыми угрызениями совести. Идеи вины касаются собственного «недостаточно» эффективного поведения и , достаточно часто , распространяются на отношения с ближайшими родственниками – вина за «неоправданные» надежды в отношении спасения супруга. Чувство вины и угрызения совести, их сквозной характер, полное отсутствие критики по этому поводу , а также склонность к акцепции вины за поступки других людей (в данном случае мужа, который снова «не дошёл до врача», а нужно было «довести его туда, а не довела») являются главными дифференциальными маркёрами данного варианта с у-пружеской реакции. Данный тип реакций супруги и детей наиболее по лно соответствует состоянию, описываемому как созависимость (Акопов А.Ю., 2008; Gierimski Т., Williams T., 1986; Mendenhall W., 1989; Whitfield Ch. Z., 1989; Hurcom C., Copello A., 2000; Weinhold B.K., Weinhold J.B., 2008), в наиболее классическом варианте, то есть с неисчерпаемой чашей «созависи-мого» терпения. Жены в таких браках изначально имеют патологическую потребность в заботе о ком -либо, опредмечивая и наполняя смыслом свою жизнь (Москаленко В.Д., Шибакова Т.Л., 2003; Чернышова Л.А., 2006), занимают главенствующую роль в семье, что достоверно коррелирует с алкогольной зависимостью мужа (Федотова Н.Ф., 1983). Любая неудача воспринимается на свой счёт, и в браке такие жены занимают роль «Спасателя» (Karpman S., 1968; Steward I., Joines V., 1996), которому нужен кто-то, нуждающийся в перманентном спасении. Динамика этих отношений хорошо описана с позиций трансакционного анализа - концепция игры «Алкоголик» (Steward I., Joines V., 1996; Steiner C., 2003) и драматического треугольника S. Karpman (1968). Потребность супруги в признании, формирует своеобразную волнообразную поступательную семейную динамику (Schaef A.W., 1986), которая способствует поддержанию гомеостаза зависимо-созависимых отношений и нарастающей закрытости, так как то, что происходит внутри семьи, показывать никому нельзя.
Развитие перманентно закрытой семейной системы иногда заканчивается разводом, что ряд авторов описывает как терминальную стадию созави-симой реакции (Kaufman E., Pattison E.M., 1986; Stum E., Rauchfleisch U., 1990; Hudak J., Krestan J.A., Bepko C., 1999), однако, в случае подобных разводов может возникать тенденция к повторным бракам с МСАЗ (шесть собственных наблюдений - два из которых повторные браки), с восстановлением закрытых отношений на новом уровне, что соответствует сценарному процессу «Всегда» (Макаров В.В., 2000; Steward I., Joines V., 1996). Созависимая супруга буквально не знает, как строить семейную жизнь с мужчиной, не страдающим алкогольной зависимостью (Емельянова Е .А., 2008; Whitfield Ch. Z., 1989; Weinhold B.K., Weinhold J.B., 2008). При данном варианте отношений брачная жизнь носит конгруэнтный для супругов характер с формированием классической созависимой семейной модели.
Аутоагрессивная, наркологические и экспериментально-психологические характеристики юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью
Основные аутоагрессивные и личностно-психологические характеристики юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью, достоверно отличающие их от юношей из семей, где родители не имели проблем с алкоголем, приведены в таблице № 5.1.1.
Прежде всего, отметим отличия между группами, касающиеся суицидальных типов реакций - суицидальных попыток и мыслей, которые достоверно чаще, встречаются в исследованный группе юношей из семей, где родитель страдал алкогольной зависимостью. Также, как это хорошо видно из представленной таблицы, юношей из данных семей достоверно характеризует большее количество у них важнейших предикторов суицидального поведения, таких как одиночество, безысходность, отсутствие смысла жизни, наличие суицида родственника. У них достоверно чаще встречаются такие паттерны аутоагрессивного поведения как нанесение себе самоповреждений, эпизоды приёма психоактивных веществ, неоправданный риск. Все это в целом может характеризовать юношей из семей, где родитель страдал алкогольной зависимостью, как гораздо более аутодеструктивную группу, как в отношении прямых суицидальных реакций, так и в отношении несуицидальных форм реализации аутоагрессивных тенденций.
Это также подтверждается и достоверно высокими значениями КПСН и КПСН за последние два года в группе юношей, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью.
Отметим следующие личностно-психологические характеристики, д о-стоверно свойственные юношам из семей, где родитель имел алкогольную зависимость. Высокие показатели шкалы Mini-Mult Pt (7), говорящие о преобладании в группе психастенических черт характера (высокая тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные сомнения), что в целом совпадает с характеристиками «взрослых детей алкоголиков», приводимых в литературе (Москаленко В.Д., 1990; Радина Н.К., 2003; Beattie M., 1997; Jordan S., 2010).
Также обращает на себя внимание частота использования такого з а-щитного психологического механизма, как замещение (смещение), суть к о-торого заключается в разрядке подавленных эмоций (как правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства (Вассерман Л.И., 1999). Этот механизм является логичной мерой со-владания с внутрисемейной ситуацией в семьях МСАЗ, где очень часто вербальная и невербальная агрессия направляется на ребёнка, не способного ей противостоять (Радина Н.К., 2003). Отметим также, что значения коэффициентов, отражающих направленность гнева и агрессии (AX/IN и AX/OUT) у юношей, воспитанных в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью, сопоставимы с таковыми по силе и направлению в группе МСАЗ.
Таким образом, воспитание в условиях семьи, где родитель имеет алкогольную зависимость, позволяет вклю чить молодых л юдей в группу повышенного суицидального риска, и рассматривать наличие алкогольной зависимости у родителя, как просуицидальный фактор у его детей.
Обнаруженные аутоагрессивные и личностно-психологические характеристики девушек, выросших в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью, достоверно отличающие их от девушек из семей, где родители не имели проблем с алкоголем, приведены в таблице № 5.2.1.
Прежде всего, отметим тот факт, что девушки, выросшие в семьях, где родитель страдал алкогольной зависимостью, достоверно чаще предпринимали попытки покончить с собой, более чем в два раза чаще у них отмечались суицидальные мысли (у трети обследованных), что весьма показательно в отношении влияния родительской семьи на формирование суицидальных типов реагирования.
Девушки из семей с родителем, страдающим алкогольной зависимостью, чаще имели такие варианты несуицидального аутоагрессивного поведения, как наличие опасных для жизни привычек и хобби (в основном, это касалось экстремальных видов спорта), частоты физического и сексуального насилия, черепно-мозговой патологии - в основном, в результате собственных экстремальных увлечений и гетероагрессивных действий.
В этой группе девушек достоверно чаще встречаются и общепризнанные предикторы суицидального поведения, такие как: моменты острого одиночества (часто с идеями собственной бесполезности), склонность к длительным угрызениям совести, частота обращений за профессиональной помощью к психиатру (психотерапевту).
Это, в целом, характеризует девушек из семей, где родитель страдал алкогольной зависимостью, как более аутоагрессивную группу, нежели девушек, выросших в семьях без родительского алкоголизма. Это подтверждается и достоверно высокими значениями КПСН и КПСН за последние два года, которые приближаются в данной группе к таковым в группе жён МСАЗ из действующих браков.
Также любопытен тот факт, что показатель КПСН в данной группе высок уже в этом возрасте (20,5±1,5 года). То есть, во многом объёмно сформирован ещё до вступления в брачные отношения. Поскольку, по данным ряда авторов, порядка 60-70% этих девушек, в перспективе вступят в брачные отношения именно с МСАЗ (Варга А.Я., 2001; Nici J., 1979; Ziter M.Z.P., 1989), те значения коэффициентов, которые обнаружены нами у жён МСАЗ имеют отнюдь не реактивное происхождение (как реакция на «невыносимые» условия брака с пьющим мужчиной), а в определённой мере формируются д о-брачно. При этом данный феномен отсутствует у девушек из семей, где родители не страдали алкогольной зависимостью, и жен мужчин, не страдающих алкогольной зависимостью.