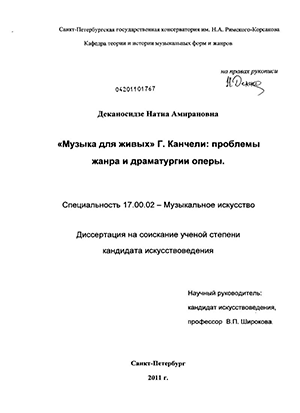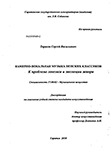Содержание к диссертации
Введение
Первая глава. Некоторые тенденции эволюции оперы XX века 10
Вторая глава. Либретто «музыки для живых» в контексте театральной поэтики стуруа 53
Третья глава. Язык метафор «музыки для живых» и образные константы симфонического творчества канчели 108
Четвертая глава. Лейтмотивы-символы и внутреннее действие оперы канчели «музьнса для живых» 138
Сквозной тематизм. 138
Надежда 152
Вера 162
Душа 199
Трагизм человеческого бытия. 222
Истина 228
Пятая глава. Музыкальная композиция и драматургия «музыки для живых» 235
Общие принципы. 235
Соотношение театрального действия и имманентно музыкальной логики. 255
Заключение 279
Библиография. 284
- Некоторые тенденции эволюции оперы XX века
- Либретто «музыки для живых» в контексте театральной поэтики стуруа
- Язык метафор «музыки для живых» и образные константы симфонического творчества канчели
- Лейтмотивы-символы и внутреннее действие оперы канчели «музьнса для живых»
Введение к работе
Актуальность исследования.
Последние десятилетия XX - начала XXI века отмечены повышенным интересом к проблемам оперного жанра. Современное музыкознание стремится охватить историческую панораму развития оперы во всей полноте, на всех этапах её существования - от возникновения до наших дней. Оперный «Ренессанс» в музыкознании примечателен и обращением исследователей к классическому наследию, стремлением заново осмыслить уникальность, художественное своеобразие отдельного произведения, его явные и скрытые слои, закономерности его целостной организации, освободить восприятие от устоявшихся трафаретов. В современном музыкознании наметились различные линии изучения оперы как жанра. Среди них примечательно существование двух противоположных тенденций, каждая из которых выдвигает свои приоритеты: с одной стороны -выделившаяся в самостоятельную научную дисциплину либреттология, с другой собственно аналитический подход, для которого главным является опера как жанр, прежде всего - музыкальный. Подобное обособление не означает отрицания синтетической природы оперы, но свидетельствует о новом, более углублённом изучении различных составляющих её целостности. Таким образом, сама ситуация, сложившаяся в современном музыкознании, во многом уже изначально предопределяет актуальность темы исследования, обращенной к феномену современного музыкального театра - опере Г. Канчели «Музыка для живых» (1984/1999). Новизной драматургических и композиционных принципов, актуальностью основных мотивов либретто, современностью всего арсенала сценической постановки «Музыка для живых» ознаменовала новый этап развития оперы в XX веке.
Степень научной разработанности проблемы. Помимо многочисленных отзывов, критических статей и рецензий, появившихся после премьеры, «Музыке для живых» посвящена отдельная глава в монографии Н. Зейфас «Песнопения. О музыке Гии Канчели» (1991). История и некоторые детали создания этой оперы освещены и в вышедшей позже книге Н. Зейфас - «Гия Канчели в диалогах» (2005). Опера Канчели рассматривается также в ряде статей грузинского исследователя М. Кавтарадзе , а также в ее диссертации «Грузинская опера 80-х годов XX века».
См. след. Работы Кавтарадзе М.:. Тема войны и мира в опере Г. Канчели «Музыка для живых» // Вопросы мелодии, гармонии и формы грузинской музыки: сб. научных трудов тбилисской гос. консерватории им. В. Сараджишвили. 1987. С. 101-109 (На грузинском языке).; Ее же. Грузинская опера 80-х годов: Сб. научных трудов тбилисской гос. консерватории им. В. Сараджишвили. Тбилиси, 1992. С. 152-180. (на грузинском языке).; Ее же. Проблема жанрово-стилевого синтеза в грузинской опере // Вопросы музыковедения: сб. научных трудов тбилисской гос. консерватории им. В. Сараджишвили. 1994. С. 218-227 (на грузинском языке).; Ее же. Опера // Очерки истории грузинской музыки 60-90-х годов XX века: Сб. научных трудов тбилисской гос. консерватории им. В. Сараджишвили. 2004. С. 3-68 (на грузинском языке).
Монография Н. Зейфас на сегодняшний день представляет максимально широкую панораму творчества Канчели. Однако формат и жанр исследования не позволил автору охватить весь спектр проблематики, связанной с этой оперой. Недостаточно разработанной в книге Зейфас представляется и проблема жанрово-драматургической специфики оперы.
Рассмотрение оперы Канчели «Музыка для живых» в контексте культуры XX столетия - одна из установок исследования М. Кавтарадзе. В поле зрения грузинского музыковеда находятся сюжетные мотивы, особенности сценического воплощения и лишь отчасти вопросы, касающиеся музыкальной стороны оперы, ее партитуры. «Музыка для живых» рассматривается как опера на тему всемирной катастрофы, войны и насилия, тогда как в тени остаются мистериальные топосы сочинения, присутствующие в либретто Стуруа лишь на уровне подтекста. Однако именно этот подтекстовый план либретто и становится концепционным ядром партитуры Канчели.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования в настоящей диссертации является опера Г. Канчели «Музыка для живых» как художественный феномен. Предмет исследования - проблемы ее жанра и драматургии.
Материалом исследования послужили партитуры первой и второй редакций «Музыки для живых» , а также клавир первоначального варианта оперы. Для формирования основных положений диссертации были рассмотрены также партитуры симфоний композитора, а также научные труды, посвященные как творчеству Канчели, так и освещающие проблемы оперы XX века.
Цель и задачи исследования обусловлены стремлением показать, как вписывается сочинение Г. Канчели в процесс эволюции оперы второй половины XX века; обозначить точки соприкосновения либретто и музыки с одной стороны, с другой - территорию композиторской свободы, моменты встречной (по отношению к либретто) инициативы автора музыки. Задачей исследования является также рассмотрение партитуры «Музыки для живых» в контексте образно-семантических констант творчества Канчели в целом.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды Е. Ручьевской, посвященные проблемам и поэтике оперы как жанра: «"Руслан" Глинки, "Тристан" Вагнера, "Снегурочка" Римского-Корсакова», «"Хованщина" Мусоргского как художественный феномен», а также «"Война и мир". Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева», труды об опере М. Друскина, М. Сабининой, работы А. Баевой, посвященные творчеству И. Стравинского, а также русской опере 60-90-х годов XX века, статьи М. Черкашиной, М. Раку, книга Н. Зейфас «Песнопения. О музыке Гии Канчели», исследование Т. Курышевой «Театральность и музыка», статьи грузинских музыковедов М. Кавтарадзе и Н. Кавтарадзе и многие другие.
2 Первая редакция партитуры существует только в рукописном варианте. Вторая редакция - «Musik fflr die Lebenden» (1999) - вышла в издательстве «Hans Sikorski» (Гамбург, Германия).
Помимо музыковедческой литературы на выработку концепции данной диссертации повлияла театроведческая литература, в частности книга Б. Зингермана «Очерки истории драмы XX века», книга В. Мокульского «История западно-европейского театра», исследования Ю. Лотмана, М. Успенского, М. Бахтина, работы А. Можаевой, П. Топер, М. Тлостановой, А. Зверева и др., посвященные проблемам литературы XX века.
Научная новизна диссертации. Работа демонстрирует методологию анализа современной оперы как целого. В ней обосновано актуальное для современной оперной драматургии понятие замещающих функций на уровне либретто и в музыке. Методология анализа оперы основывается на детальном анализе либретто (его структуры, топосов, многослойного метафорического подтекста, жанровых ориентиров) и сопоставлении результатов этого анализа со столь же детализированным подходом к музыке Канчели. Такое сопоставление приводит к выводам о существовании в музыке собственной интонационной фабулы, развёртывающейся «поверх» наиболее ярких событий действия театрального. На основе сопоставления либретто и партитуры «Музыки для живых» в диссертации раскрывается важная, но недостаточно исследованная проблема полифонии внешнего и внутреннего действия (как специфического свойства оперной драматургии).
Практическая ценность работы состоит в возможности использования её выводов и методики анализа в музыкознании и в музыкальной критике, а также в учебной практике: вузовских курсах истории музыки и теории оперной драматургии для композиторов, музыковедов, дирижеров-симфонистов и оперных режиссёров. Результаты анализа могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях по проблемам оперной драматургии.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась поэтапно и в целом на кафедре теории и истории музыкальных форм и жанров Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. По теме диссертации были прочитаны лекции в Санкт-Петербургской консерватории по курсу «История национальных музыкальных культур». Основные положения исследования опубликованы в ряде научных изданий (см. список в конце автореферата).
Некоторые тенденции эволюции оперы XX века
О влиянии магии оперы на реализм кинематографа известный немецкий кинокритик Зигфрид Кракауэр писал: «Опера отмирает, остается лишь ее паразитическое mise-en-scene; своим великолепием она слепит глаза и поэтому душит мысль. Построенная на чудесах, сфабрикованных в павильоне киностудии, она отвергает какие-либо чудеса, которые способна обнаружить кинокамера. Трепет одного-единственного листка способен развенчать всю ее фальшивую прелесть» .
С отмеченными особенностями оперного жанра, с негативным отношением к ее условно-иллюзорной природе связывается характерная тенденция музыки XX века — отречение оперы от своего «рода и имени». Примечательно в этом отношении, например, признание Даллапиколы о том, что он избегает термина «опера» в самом названии произведения из чувства самосохранения. Стремление композиторов дистанцироваться от модуса «оперности» уже в самом названии своих музыкально-драматических сочинений — достаточно устойчивая тенденция музыки XX столетия вообще. С ней связано появление необычных авторских обозначений жанрового наклонения произведения, таких, например, как «жалоба в трех актах» в сочинении Д. Мийо «Бедный Матрос» (1926). Обозначения «опера» избегал и Дж. Фр. Малипьеро, называя свои музыкально-драматические сочинения «музыкальными драмами», «музыкальными комедиями», «драматическими экспрессиями».
Эта тенденция, равно как и существование оперных «штампов», — симптом кризиса, но не оперы как таковой, а лишь определенной эстетики оперного спектакля, сложившейся на предыдущем этапе развития жанра. Подобные кризисы закономерны, органичны. Опера подвержена им в силу особой природы этого жанра. Как отмечает А. Баева, в 20-е годы - XX столетия своеобразным «барометром, дающим возможность определить характер оперных исканий, служит отношение к Вагнеру: через последующее развитие вагнеровских идей с одной стороны и их отвержение — с другой»14. «Мы более не верим в Вагнеровское искусство», — заявляет Стравинский, — «Музыкальная драма, возведенная в идеал Вагнером, мне совершенно чужда, там драма становится музыкой, у меня же наоборот — музыка делается драмой» .
Причины отторжения оперного наследия XIX столетия многообразны. Традиции и искусство романтизма на рубеже XIX — XX столетий рассматривались как нечто ложное, иллюзорное и искусственно-условное, далекое от действительности. Как отмечает Сабинина, «атаковалась прежде всего косность театральной формы оперного спектакля, дисгармония между зрительными и слуховыми впечатлениями, фальшь и ходульность актерской игры, шаблонность постановочных приемов, декораций и костюмерии»16. Однако, одной из важнейшей причин неприятия оперных традиций XIX века в XX столетии становятся так называемые «оперные штампы». Именно они ставили под сомнение необходимость оперного искусства. Львиная доля в возникновении этих штампов, принадлежала стереотипизированному либретто. «Опера, как известно, искусство, славящееся своей консервативностью, самое тяжелое на подъем и потому едва ли не самое благоприятное для рождения стереотипов. Незамысловатые схемы построения либретто были чрезвычайно удобными для стереотипизации, клиширования. Если ... в либретто крупный трагический конфликт получал уклон в мелодраму, то это создавало возможность облегченного и упрощенного подхода к выбору музыкальных средств образной характеристики».17 Кризисные тенденции эстетики XIX века проявились и в сфере драмы как таковой и связаны, в частности, с обесцениванием отдельных жанров драматического театра в XX веке. По этому поводу А. Бояджиев писал: «Три старых жанра — романтическая драма, водевиль и мелодрама — в своем каноническом виде в современном театре художественно неполноценны. ... Мелодрама требует сегодня эволюции в сторону психологического осложнения своей внутренней линии; романтическая драма предполагает большую сдержанность страстей и внешнюю простоту, а водевиль приближается на нашей сцене к лирической, и музыкальной комедии характеров»18.
Пути преодоления кризиса музыкальной драмы, стремление «остудить» эмоциональный накал романтического музыкального театра, отойти от реалистических установок оперной эстетики проявлялись по-разному. Закономерным следствием подобных устремлений становится (как в драматическом, так и в музыкальном театре) изменение системы театральной поэтики. На смену романтическому и реалистическому театру, построенному по законам поэтики «театра переживания», приходит условный театр, основывающийся на законах поэтики «театра представления»19. Осознание противоположности этих театральных систем характерно именно для культуры XX века и связано с возрождением, уже в начале этого столетия, интереса к древнейшим формам театрального искусства, к тем формам условного театрального действа, которые были характерны для античных трагедий, средневековых мистерий, народного балагана, комедии dell arte, театров Востока.
Новаторские поиски драматургов, режиссёров, композиторов, их стремление к преодолению стереотипов восприятия театрального спектакля, утвердившихся в XIX столетии, обусловили и необходимость осмысления эстетических основ, определяющих принципиальное различие условного «театра представления» — с одной стороны и «театра переживания» - с другой.
Театр представления тяготеет к более обобщённому, условному «показу» явлений действительности. Его стихия — игра, намеренное подчёркивание условности художественного акта. В этом случае зритель занимает по отношению к происходящему на сцене позицию наблюдателя. Условность театра представления связана, прежде всего, с тем, что его события и персонажи весьма опосредовано связаны с реальностью. «Инакость», необычность образов театра представления, демонстративное подчёркивание границы между жизнью и театром, разъединение персонажа и изображающего его актёра, человека и маски — характерная особенность театра представления, рождающая специфический «эффект отстранения», при котором индивидуальные чувства, переживания героев как бы «берутся в кавычки».
Театр представления апеллирует к зримой, пластической стороне изображаемого действа. Внутренняя, сущностная сторона художественного образа для него равнозначна внешней, зримо осязаемой, изобразительной, декоративной. Такая тождественность внутреннего и внешнего, казалось бы, исключает модус субъективности, психологизма, предлагая зрителям как бы объективный по смыслу материал, свободный от диктата авторской воли драматурга или режиссёра, не подвластный их субъективной интерпретации. Перед зрителями предстаёт символически обобщённая схема событий. Явление действительности (событие, ситуация, персонаж, характер) в театре представления «показывается, но не анализируется, не разъясняется, не осмысливается»20. «Подобный подход, — как утверждает Т. Курышева, — даёт возможность быть при желании предельно "малословным", лаконичным и концентрированным в воплощении даже достаточно сложных и многозначных по содержанию философских замыслов.
Либретто «музыки для живых» в контексте театральной поэтики стуруа
В 1983 году Гия Канчели обратился к Роберту Стуруа, с которым его связывал многолетний творческий союз, с просьбой о создании либретто для предполагаемой оперы. Работая над либретто «Музыки для живых», Стуруа был изначально свободен в выборе сюжета и жанра будущей оперы за исключением двух, особо оговоренных композитором условий — непременного участия детей и сведения роли словесного текста к минимуму .
Замысел будущей оперы a priori предполагал и осознанную установку на новаторство, создание произведения, оппозиционного влиятельной традиции оперной классики. В этом отношении весьма показательно и тогдашнее негативное отношение композитора как к опере вообще, так и к царящей на оперной сцене рутине109. Тандем Канчели-Стуруа изначально мог гарантировать нетривиальный результат их совместной творческой деятельности уже потому, что Стуруа к тому времени имел прочную репутацию театрального новатора, режиссёра-нонконформиста.
В литературе, посвященной исследованию совместного творчества Канчели-Стуруа , обычно отмечаются черты сходства позиций режиссёра и композитора. Плоды их совместной деятельности воспринимаются в свете некоего идеального союза единомышленников. Моменты совпадения художественного мировидения Стуруа-Канчели действительно существуют и неоднократно отмечались рядом авторов. Однако не менее существенен и вопрос о том насколько полно это единомыслие. Нельзя ли предположить, что гармония союза Стуруа-Канчели включает в себя и гармонию противоположностей, дополняющее друг друга единство различных творческих индивидуальностей? Существенен и вопрос — на какой почве пересекаются и где расходятся в высшей мере театральное, экстравертное мышление Стуруа и симфонически-обобщённая, во многом далёкая от театральной конкретности образная материя музыки Канчели111? Ведь не случайно Стуруа зачастую противопоставляют другому выдающемуся театральному режиссёру — Т. Чхеидзе. По мнению Н. Гурбанидзе, творчество
Стуруа «развёрнуто вширь общества, а у Чхеидзе в глубь личности» . Точно также можно сопоставить и творческие индивидуальности Стуруа и Канчели, музыка которого всегда была развёрнута именно в глубь человеческой личности.
Ответы на эти вопросы имеют принципиальное значение. Для этого необходимо проанализировать соотношение инициатив либреттиста-режиссёра и композитора в созданном ими произведении.
Итак, исполнив пожелания композитора (о минимальном количестве текста и об участии в представлении детей), Стуруа создал либретто, внешне совершенно непохожее на либретто оперы Б. Квернадзе. В либретто «Музыки для живых» нашли концентрированное выражение особенности театральной поэтики этого выдающегося режиссёра-нонконформиста. Одна из примечательных особенностей либретто «Музыки для живых» — поразительная пестрота, калейдоскопичность его образов. Такое либретто, словно компенсируя крайнюю скупость словесного текста, апеллирует к зрелищной информативности сценического пространства . Немаловажным свойством зрелищной поэтики либретто Стуруа становится уже само количество представляемых им сценических образов. Это — Старик и дети, Мальчик-поводырь, Офицер в наполеоновской треуголке, Женщина с хлыстом, Оркестранты вообще и выхваченная крупным планом фигура флейтиста, маска Пьеро, палачи в серых капюшонах, танцовщицы-вакханки, вдовы и матери, старушки, играющие на скрипках, маленькие акробаты. Общее впечатление калейдоскопа действующих лиц усиливают и персонажи вставной итальянской оперы «Любовь и долг» — Анджело, Сильвана, Лючия, Сандро, Маркиз де Прюдон, а также офицеры, сержанты, солдаты, стражники, кавалеры и дамы, больные и сиделки.
В этой череде образов немаловажную роль играют и всевозможные зрелищно информативные предметы, значение которых выходит за пределы обычной театральной бутафории. Это возвеличенная, вырванная из рамок обыденной жизни бутафория — своеобразная персонификация неодушевлённых предметов. Такими неодушевлёнными персонажами театрального представления становятся в либретто Стуруа скрипка, греческая статуя, пистолет, хлыст, позолоченная рамка, в которой появляется во втором акте маркиз, колесница в финале. «Для меня непреодолимо найти театральность предмета и соединить её с интеллектом, соединить эмоционально» — писал Стуруа. Не затрагивая пока более сложные аспекты театральной поэтики режиссёра, в частности аспект его метафорического мышления, хотелось бы подчеркнуть изначальную установку на театральность, ясно обозначившуюся в этом высказывании. Информативность зрелищного пространства предопределена у Стуруа и костюмами, или даже деталями костюмов действующих лиц. В «Музыке для живых» (за исключением костюма Старика) действует та же закономерность зрелищного ряда - подчёркнутая театральность, принципиальное отличие театрального костюма от одеяний реальной жизни, от костюмов исторических или современных. Исторические аллюзии при этом не исключаются, однако наполеоновская треуголка Офицера в неисторическом контексте сцены (представления в целом) становится частичкой той карнавальной стихии, которая является отличительным признаком театральной поэтики Стуруа.
В «Музыке для живых», как и в ряде других постановок Стуруа, всегда подчёркивается карнавально-зрелищная природа представления, апеллирующего к ярким, зримым театральным событиям, к пёстрому калейдоскопу образов, персонажей-масок. Сам Стуруа связывал свою приверженность к карнавальной стихии с влиянием идей М. Бахтина: «Я старался почти все идеи Бахтина, особенно его мысль о народных праздниках, карнавалах, масках, воплотить на сцене. Бахтин говорит, что когда события выхвачены из будничной жизни, тогда проблемы становятся более острыми и темы приобретают более широкое звучание»114. Так, при посредничестве идей выдающегося учёного, Стуруа обретает собственный театральный язык. В театре Стуруа, по выражению Зейфас, сценическая, ситуация зачастую ввергает зрителя в «карнавальный водоворот на базарной площади»115.
Язык метафор «музыки для живых» и образные константы симфонического творчества канчели
Существование немногих, четко очерченных интонационных сфер — одна из предпосылок художественной целостности «Музыки для живых». Однако не менее значимой в этом плане является и разветвленная сеть сквозных интонаций, формул, реминисценций и лейттем. Не весь сквозной тематизм оперы Канчели равнозначен для нашего восприятия. В одних случаях он попадает в «светлое поле» нашего сознания, в других — остаётся на его периферии в качестве некоего фона, частицы целостного смысло-образа.
Необычайная плотность, концентрированность сквозных, повторяющихся тематических элементов в сфере «песнопения» и в сфере «небытия» ведёт к своеобразной однородности, константности развертывания их образов. Сквозные тематические элементы, идентичные интонационные обороты в этом случае могут варьироваться, монтироваться в новых сочетаниях, дополняться новыми тематическими образованиями, сохраняя при этом свою инвариантную основу. Подобное качество сквозного тематизма — одна из специфических особенностей симфонического мышления композитора, одно из проявлений канчелиевского феномена «динамической статики».
Существование такого «набора» сквозных тематических элементов и формирование на его основе относительно однородного и одновременно внутренне дифференцированного интонационного «поля» в «Музыке для живых» уже само по себе представляет некий «встречный» план музыкальной драматургии оперы, противостоящий пестроте и разнородности зрительного ряда либретто. На уровне мельчайших тематических элементов сквозной тематизм оперы теснейшим образом спаян с контекстом и (за редкими исключениями) не воспринимается как драматургически значимая единица целого.
Прочнейшим образом связана с контекстом, например, интонация поступательного (восходящего или нисходящего) движения — последовательность трех звуков («ля-си-до»), обретающая определённую семантическую значимость лишь в контексте. Она может быть частицей поступательного движения в «пассионной» сфере оперы, может очерчивать некий самостоятельный интонационный «жест» — своеобразный эквивалент императивного, патетического «слова», наконец, эта же интонация предопределяет даже облик мелизмов в итальянской опере. Таковы лишь некоторые амплуа этой вездесущей, семантически нейтральной интонации, формирующей (среди прочих) единую интонационную среду оперы. Аналогична и функция другого интонационного оборота - вспомогательного, с прилегающей к тому или иному тону малой секундой (сверху или снизу).
Одна из разновидностей сквозного тематизма «Музыки для живых» связана с феноменом формульности, который Е. Ручьевская рассматривает как одно из проявлений специфики оперы как жанра. «Формулу, — пишет Ручьевская, - можно определить как интонационный инвариант, существующий в вариантах, в том числе, благодаря изменению самих формул и изменению контекста»241. По мнению исследователя «формула, формульность напева - это естественная концентрация неких свойств интонирования вообще, а именно, дыхания и смысла (предназначения внутри действа, обряда, ритуала)»242. Е. Ручьевская рассматривает различные проявления формульности в опере - обрядовые формулы в «Снегурочке», речитативные в «Тристане», колоратуры в «Руслане». Сферу формульности, однако, можно расширить. В музыке XX века формульная концентрация существенных свойств интонирования может быть связана с типизированным элементом текста той или иной канонической культуры (профессиональной музыки в том числе). В этом случае значимой стороной функционирования интонационной формулы становится временная дистанция, стилистическая отдалённость формулы от языковых реалий музыки XX века.
Формульный тематизм оперы Канчели по своим истокам неоднороден. Так, например, фольклорные прообразы формульной интонации плача, стона очевидны в начале оперы (см. пр. № 3). Свойственное формуле единство варианта и инварианта раскрывается в дальнейших преобразованиях этого исходного интонационного зерна. Изменения контекста в этом случае ведут к значительному изменению смысла самой формулы. В «Регтайме», в частности, она почти неузнаваема. Появляясь в оркестровом сопровождении второго куплета «Регтайма» на фоне изменившейся, утратившей танцевальный характер фактуры, формульная интонация теперь «ласкает» наш слух, зовёт к покою и наслаждению (см. пр. № 21). Плачевая формула может обернуться «клише», заезженным стереотипом итальянской оперной мелодики XIX века, но в другой ситуации, в момент развязки драматической коллизии финала, может прозвучать как почти исступлённое заклинание.
Другое проявление формульности в «Музыке для живых», напротив, апеллирует не к фольклорным прообразам, а к типизированному слою барочной лексики, к стандарту гармонической формулы, характерной, например, для начальных тактов многих баховских прелюдий. В пределы этой же гармонической формулы в баховских «Страстях по Матфею» вмещается целостное музыкальной высказывание - предсмертный крик Иисуса Христа. Данная гармоническая формула на правах лейтгармонии звучит в «Музыке для живых» бессчетное количество раз, столь часто, что в какой-то момент перестаёт восприниматься как событийный элемент текста, превращаясь в некий континуум, почти «общее место».
Сама по себе рассматриваемая формула не обладает необходимыми качествами, позволяющими ей выдвинуться на роль ведущего «персонажа» протекающего в музыке «действия» — на роль лейтмотива. Сквозная гармоническая формула, в соответствии с основным принципом формульности, также функционирует в опере как единство варианта и инварианта. Варьироваться в этом случае может сама гармоническая основа формулы при сохранении замкнутости оборота, ритма смены гармонии и структуры (двутакт или четырёхтакт). Константным оказывается и мелодическое положение тонов.
Однако формульный принцип единства варианта и инварианта в контексте оперы связан с ещё одной достаточно своеобразной особенностью. Эта особенность обусловлена тем, что инвариантная гармоническая формула сопутствует целому ряду совершенно различных тем, представляя их фоновый слой. Рельеф же, напротив, представляет план индивидуального высказывания, отражая конкретно-чувственную сторону музыкального образа. Конкретные музыкальные образы, явления, их эмоциональная окраска оказываются в итоге разнообразными — просветлёнными, траурными, - но отсвет некоей возвышенной реальности присутствует в них постоянно (см. пр. №4 и № 5). Рассматриваемая гармоническая формула в качестве элемента барочной культуры «готового слова» словно изнутри освещает различные образы и ситуации «Музыки для живых», воссоединяет преходящее и сущностное, символизирует связь мира «дольнего» и «горнего». Сосуществование планов общего и индивидуального высказывания (благодаря особенностям фактуры и оркестровки) зачастую приобретает характер «единовременного контраста».
Тематическая конкретизация неизменной формульной основы гармонии в опере Канчели — явление неоднозначное, позволяющее обозначить две разнонаправленные тенденции во взаимоотношениях формулы и контекста — центробежную и центростремительную. В первом случае тематическая конкретизация оказывается временной, преходящей, ситуативной, единственной в своем роде. Центростремительная же тенденция связана с возникновением устойчивых, неоднократно воспроизводимых отношений формулы и тематически репрезентативного контекста.
Лейтмотивы-символы и внутреннее действие оперы канчели «музьнса для живых»
Однако, в целом, сценические реалии войны в опере Канчели переводятся в условный план музыкальной драматургии, а конкретные события и образы приобретают метафорически-обобщенный характер. Во внешнем действии не отражаются важнейшие события действия внутреннего, представленного только в музыке (появление образа-процесса поступательного движения, лейтмотивов Надежды и Веры). Статика внешнего действия сопутствует и второй, более интенсивной по своему развитию, драматургической волне319.
Точкой пересечения планов внутреннего и внешнего действия картины становится ее очевидный ритуальный характер — нахождение и передача скрипки - «святыни» из рук в руки. Н. Зейфас не без основания усматривает некоторую аналогию между ритуалом на сцене и ритуалом, совершаемым в музыке. По ее словам «так же, как дети на сцене передают друг другу — из рук в руки - скрипку, словно парящую над землей, так и голоса оркестра поддерживают однажды обретенное песнопение, не давая ему угаснуть, замереть».3 Этот ритуальный план, протекающий в «реалистических декорациях» первой картины изначально предопределяет мистериальный модус «Музыки для живых», по-разному проявляясь и в последующих картинах.
// картина «Трагическая пауза». Соотношение планов сценического действия и музыки в этой картине существенно отличается от предшествующей картины «Рождение музыки». Сценическое действие «Трагической паузы» насыщенно разнообразными драматическими событиями, плотность которых усиливается тем, что многие из них остаются как бы «за кадром», в результате чего сценическое время оказывается максимально «спрессованным».
В отличие от первой картины в музыке «Трагической паузы» не происходит столь же существенной ретардации внешнего действия. Общая продолжительность этой картины вообще несоизмерима с количеством происходящих на сцене событий. Ее время событийно насыщено, прерывисто, скачкообразно. Опосредованным отражением плотности событий сценического действия в музыке становится принцип монтажа разнородных тематических фрагментов. В монтажной структуре картины время не останавливается, а мгновенно «перескакивает» к следующему музыкальному событию. Отсюда — принципиальная фрагментарность картины в целом, которая в самом общем плане может быть соотнесена с эстетикой театра представления, с его установкой на объективный показ театрального образа или события без развития и масштабного художественного обобщения.
Эта особенность организации картины может восприниматься как проявление иллюстративности. Однако такое впечатление обманчиво. В картине «Трагическая пауза» просматривается собственная, во многом независимая от внешнего действия, линия развертывания драматической коллизии. Встречная по отношению к либретто инициатива композитора проявляется уже в его избирательном отношении к событиям сценического действия, при котором объектами театральной репрезентации становятся лишь некоторые планы либретто.
Один из таких планов связан со спецификой репрезентации образа Зла. По мнению Н. Зейфас, персонажи полюса Зла немы, «лишены воплощенной в музыке творческой, созидательной силы» и потому раскрытие этих образовггооисходит посредством пантомимы, немого сценического действия, оставаясь, таким образом, как бы «вне компетенции» музыки. Однако подобная точка зрения справедлива лишь отчасти. Ассоциирующийся с Офицером и его свитой образ Зла достаточно отчетливо очерчен и в музыке «Трагической паузы». Его «немоту» в ряде сценических ситуаций можно объяснить «несмыканием рядов», рассогласованностью музыки и сценического действия - с одной стороны, редукцией конкретных обстоятельств действия — с другой. Редуцированной оказывается, в частности , ситуация в начале картины: «Офицер и Женщина с хлыстом в растерянности». В полярной драматургии «Музыки для живых» показ сферы contra в подобном ракурсе оказался бы излишней подробностью. Однако ситуация «Офицер и Женщина с хлыстом разгневаны» естественно вписывается в крупный план драматургии оперы и потому воспроизводится не только на сцене, но и в музыке.
Принцип pro и contra проявляется на разных уровнях драматургии «Трагической паузы» в качестве некоей универсальной обобщающей основы. Однако в музыке и в сценическом действии эта коллизия зачастую развертывается не синхронно. Их рассогласованность проявляется, прежде всего, в начале картины, но в итоге приходит к синхронизации крупных планов картины в целом - противопоставлению трагической сферы картины ее обобщающей коде, эпизоду возвращающегося «Песнопения» (дети передают инструменты погибших музыкантов в оркестр). В этом случае сама композиционная функция коды, ее устойчивость, знаменует итоговое смещение центра тяжести к полюсу pro. Символический характер подобного противопоставления полюсов во многом разъясняет высказывание А. Шнитке: «разорванная фактура, разорванные мелодические линии, которые выражают состояние несобранности, взвинченности, скачущие мысли - это зло сломанного добра. Разорванная душа - она, может быть, и хорошая. Но она разорвана и от этого стала плохой» .
Контекст картины усложняется также тем, что полюс Зла представлен неоднозначно. В нем узнаваемы как ближние, более конкретные смысловые слои, так и более отдаленные, опосредованные. С ближними, обладающими большей конкретностью, слоями связывается представление об Офицере как символе насилия, диктаторской власти. Это представление поддерживается и реалиями сценического действия (военная атрибутика, выстрелы, барабанная дробь), а в музыке - агрессивно-напористой темой barbaro и ее вариантами (без хорала низких медных духовых инструментов). С дальними слоями текста связывается более обобщенное восприятие демонической сущности этого образа, появляющегося на сцене из «театральной преисподни». Поэтому, вероятно неслучайно, некоторые варианты темы marcatissimo ассоциируются с образами неистовой, сатанической пляски — dance macabre. Но существует и еще одна грань сферы Зла, постоянно присутствующая в «Трагической паузе», но - «за кадром» ее видимого сценического действия. И эта наиболее универсальная грань Зла связана с представлением о Смерти.
Столь же неоднозначным оказывается и драматургический модус картины в целом. С одной стороны в ней сохранились некие «остаточные признаки» «оперности», проявляющиеся в весьма опосредованной форме. В рамках чисто инструментального высказывания обозначаются ситуации, в которых монтируемые фрагменты выступают в роли своеобразных реплик. В их противопоставлении и взаимосвязи очерчивается некое подобие диалога, сценического общения «персонажей» «инструментального театра». Действенный характер этого общения проявляется в виде эмоциональной реакции (непокорности, скорби, гнева), представляя некое подобие драматической сцены в опере.