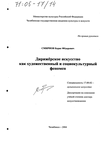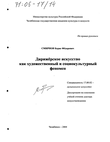Содержание к диссертации
Введение
Глава L Исторический узор на покрове ноосферы, или новая сольная партия исполнительского искусства 20
Стимулы для разделения композиторской и исполнительской ветвей
музыкальной культуры 21
Новая роль исполнительского искусства в музыкальной культуре 40
Заключение: эпизод первый 52
эпизод второй 57
Глава II. Репертуарная экспансия: тенденции развития 60
Просветительские задачи как основа новизны концертного репертуара 61
Особенности концертных программ Листа 68
Новое понимание Исторических концертов 71
Тенденция к исполнительской специализации 77
Изменение слушательского опыта 81
"Все" как стимул репертуарной экспансии 86
Концертная программа как индивидуальный опыт историко-культурного мышления 92
Заключение: к вопросу о хронологическом "астигматизме" и. возможно, 'склерозе" 99
Глава III. Образно-смысловое возрастание наследия... 104
Пролегомены —
Особенности создания исполнительского текста в "доинтерпрстационный" период 108
«Сделать материю вещей и зрящей» 117
«Мы извлекаем из искусства то, что мы в него вкладываем» 124
Код как система преференций семантических и синтаксических средств 129
Особенности "пускового текста'" 138
Особая роль Карла Черни '. 147
Романтические представления о поэтической сущности музыкальной формы как импульс к развитию кодовой системы, регулирующей создание исполнительских текстов 155
Расширение контекстных связей кода 166
Персональная выразительность как основа актуализации кодовой системы 176
Вклад Ф. Бузони в развитие кода 183
Эвристический вектор развития интерпретационной традиции 196
Влияние новейшей композиторской культуры на развитие системы кола, определяющей генерацию исполнительских текстов 212
Произведение как остающийся самим собой и вместе с тем открытый - становящийся в исполнительском искусстве - феномен 226
Глава IV. Выдающийся исполнитель как спасительное дело культуры 232
Духовное делание исполнительского искусства как развитие возможностей человека 233
От "ухабистых бранных полей" до духовной и жертвенной сути техники 243
Духовное делание исполнительского искусства с позиций художественной коммуникации 266
Заключение 275
Список литературы 281
- Новая роль исполнительского искусства в музыкальной культуре
- Новое понимание Исторических концертов
- Код как система преференций семантических и синтаксических средств
- Расширение контекстных связей кода
Введение к работе
Данная работа вписывается в круг исследований, посвященных изучению творческой природы музыкально-исполнительского искусства. В центре нашего внимания будет его фортепианная ветвь, которую мы рассмотрим как самостоятельную область профессионального музыкального творчества, связанного с художественной акустической реализацией авторской опусной композиции па основе ее интерпретации.
Представление об авторской опусной композиции (Opusmusik) как целостном произведении, которое имеет письменно зафиксированный текст, не подлежащий произвольному изменению при исполнении, утверждается в музыкальной культуре, начиная с рубежа XVIH-XIX веков (см. [139, 22, 87, 88, 129]). По этой причине хронологические рамки истории фортепианного исполнительского искусства в исследовании несколько усечены: сокращен его ранний период, связанный с именами великих исполнителей - М. Клементи, В. Моцарта, Л. Бетховена, а в качестве отправной точки взят этап, начинающийся с конца первой трети XIX столетия, когда фортепианная исполнительская культура стала кардинально меняться под воздействием появившейся авторской опусной композиции.
Казалось бы, интересующий нас ракурс не является сколько-нибудь новым, поскольку творческая сущность музыкально-исполнительского искусства уже с середины XX века привычно связывается именно с интерпретацией - здесь прежде всего отметим фундаментальный труд Ж. Бреле [345], анализировавшей творческую сущность интерпретации на философско-эстетическом уровне. Следует отметить, что и в отечественной исследовательской литературе этот вопрос пона- чалу активно обсуждался также преимущественно на философско-эстетическом уровне. Прежде всего упомянем книг)' Н.П. Корыхаловой [152] — несмотря на то что эта работа носила, на наш взгляд, преимущественно реферативный характер, ее появление оказалось очень своевременным и свидетельствовало о необходимости анализа проблем интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве. Подтверждением тому были появившиеся вскоре исследования Е.Г. Гуренко [97] и Г.И. Гильбурда [81]; напомним также и статью М.Г. Харлапа, где ставился вопрос об исполнительском искусстве как эстетической проблеме [298]. Возрастающим интересом к различным сторонам интерпретации отмечено все последующее развитие музыкознания. Достаточно упомянуть исследования: Б.Г, Москааенко, связанные с теоретическим и методическим аспектами музыкальной интерпретации [221; 222; 361]; О.В.Лысенко, где художественная интерпретация рассматривается в системе категорий музыкального исполнительства [179]; М.Е. Шамахян, посвященное музыкальному образу, его исполнительской интерпретации и восприятию [321]. Естественно, что изучение проблемы интерпретации стало особенно характерным для исполнительской ветви музыкознания. Здесь в фокусе внимания оказались как общие вопросы, связанные со спецификой задач изучения интерпретации (см. Л. Гинзбург «Па пути к теории» [82], В. Фуртвенглер «Интерпретации — решающая проблема» [293]) и анализом творческой рабоїьі исполнителя с авторским текстом (см. книги Е.Я. Либермана [167] и Г.М. Цыпина [308], исследование Т.А. Рощиной [257]), так и более частные аспекты интерпретации (в качестве наиболее характерных направлений анализа приведем статьи Л.А. Баренбойма «Как исполнять Моцарта?» [20]; СЕ. Фейнберга «Интерпретация полифонии Баха» [283, 13-55] и «Бетховен. Соната ор. 106 (исполнительский комментарий)» [282]; исполнительские комментарии М.В. Юдиной - «Шесть интермеццо Иоганнеса Брамса» и «Мусоргский М.П. «Картинки с выставки»» [193, 277-299]; см. также работы А. Кандинского-Рыбникова [132; ИЗ]; А.Меркулова [208-213]; В. Чинаева [314; 315; 317-319] и других).
Хотя наше исследование и соприкасается с проблемами интерпретации, но не они являются здесь главными. Центральная задача данной работы - расширить представления о творческом начале в исполнительском искусстве, в частности фортепианном, что определяется следующим обстоятельством: интерпретация как творческая сущность исполнительского искусства в отечественной исследовательской литературе рассматривалась сквозь призму первичности (автор композиции) и вторичности (исполнитель) творчества. Это приводило к тому, что на авансцене оказывалось начало «репродуктивное», «ретрансляционное», «реадаптационное» (см. [97, 220-224]) - приставка «ре», подчеркивая вторичность, до некоторой степени вуалировала то собственно продуктивное, что есть в деятельности музыканта-исполнителя1 (хотя с точки зрения музыки как смысла еще Б.В. Асафьевым подчеркивалась соравноценность процессов композиторского творчества и музыкального исполнения - см. [12, 264]). В результате творческое -креативное - ее начало рассмотрено отнюдь недостаточно и в заполнении этого пробела мы видим одновременно цель и актуальность предлагаемой работы.
Немаловажное значение в решении поставленной задачи имел выбор угла зрения, который помог бы четко обозначить суть и определить последующий анализ проблемы. Как наиболее оптимальная для данных целей была избрана непривычная (новая) для исполнительского «... один из существенных вопросов исполнительского искусства - вопрос о взаимоотношении творческого замысла композитора и художественных намерений пианиста-интерпретатора» [52, 32] - вот образец типичной постановки вопроса, характерной не только для конца 30-х годов XX века. когда было высказано это мнение, но и для более поздних лет: у композитора творческий замысел, a у исполнителя преимущественно художественные намерения... музыкознания "оптика зрения" - культуротворческий ракурс, поскольку именно он, полагаем, дает возможность вскрыть специфику духовной роли и творческую значимость деятельности музыканта-исполнителя, не подвергая при этом сомнению его действительно вторичную роль по отношению к автору интерпретируемой композиции.
Культурологические пределы изменили «горизонты вопрошания» (Ж. Деррида) и это позволило перевести исполнительское искусство из цепочки "автор композиции О исполнитель" в иную конфигурацию соотношений - "исполнительское искусство <> художественный и этический Текст культуры". Понятие "Текст культуры", несущее в себе представления об историко-культурном контексте как условии порождения и функционирования любого текста и, следовательно, о культуре не как механической, но как органической совокупности текстов, где каждый текст до определенной степени является проекцией "большого" Текста, не могло не проникнуть и в музыкознание2: изучение сути имманентных процессов, обусловивших возникновение того или иного музыкального текста (а исполнительского в особенности), заставляет не только принимать во внимание, но и исследовать историко-культурную ситуацию.
Мы рассматриваем вклад музьїкаїьно-исполнительского искусства в звучащий Текст музыкальной культуры, а именно, в две его сферы - художественную и этическую. Видоизменив область проработки 2 Изучение глубинной структуры музыкального текста вынуждает исследователей учитывать категорию Текста (с заглавной буквы) «как своего рода питательной среды культуры, то есть обычно не имеющего четких временных и пространственных границ и не обязательно персонифицированного источника готовых (парадигматических) идей, из которого произведение искусства черпает свое содержимое» [2, 5). Л.О. Акопян подчеркивает, что именно эта категория даст возможность адекватно оценивать меру парадигматической позиции, поскольку «парадигматически сильная позиция определяется мерой "узнаваемости" элемента, его ассоциативным потенциалом. позволяющем распознать в нем некое начало, объединяющее его с другими аналогичными элементами" (там же]. Кашории Тексі культуры засіавлнеї принимать во внимание ти, что «...инюннро-ванис неизбежно несет информацию не только о музыкальном, но и о слитом с ним "социальном"»» при этом социальное берется «широко, с включением культурных, этноисторнческих, психических факторов» [117, 99). проблемы, мы уже тем самым попытались расширить представления о творческой сущности музыкально-исполнительского искусства.
Изменение «горизонта вопрошания» представляется нам не только закономерным, но неизбежным явлением: достаточно взглянуть на развитие исполнительского музыкознания в XX столетии, сопоставив сферу интересов начала века с проблематикой его конца. В качестве точки отсчета удобно взять один из лучших образцов исполнительского музыкознания своего времени - «Рабочую книгу» Готфрида Гальстона [352], австрийского пианиста и педагога, ученика Лешетицкого. Это труд известного музыканта-практика, написанный по следам подготовки пяти концертных программ из произведений Баха, Бетховена, Шопена, Листя и Крамса, которыми пианист закончил сезон 1907/1908 годов, исполнив их в Лондоне, Париже, Амстердаме, Берлине и Вене. Типичный круг вопросов, характерный для всех очерков (и, заметим, актуальный поныне), виден уже в первой главе, посвященной программе из сочинений Баха (см. [352, 2-41]). Автор указывает и комментирует текстовый источник; его внимание обращено к вопросам, касающимся артикуляции, исполнения орнаментики, истории создания сочинения, практическим советам по естественной и убедительной исполнительской декламации. Гальстон обращает внимание на особенности строения формы, предлагает способы внутреннего счета, организующего исполнительское развертывание музыкального времени, обращает внимание на динамику и аппликатуру, дает рекомендации по распределению фактуры между руками, оговаривает применение педали и т.д. на основе современной ему исполнительской традиции (много ссылок на Бузони, поклонником и последователем которого Гальстон был) - в этом отношении особенно показательно приложение, где даны представляющиеся автору важными выдержки из самых разных источников, начиная от Гёте и кончая Вейнингером (см. [352, 209-219]).
Если же взглянуть на тематику исследований в исполнительском музыкознании конца XX века, то можно обнаружить, что в концептуальном отношении пути практически исчерпаны н необходим новый подход. Чтобы не быть голословными, очертим наиболее принципиальные направления, оказавшиеся в сфере научной мысли. Кроме работ, исследующих творчество выдающихся музыкантов-исполнителей3, активно изучались общетеоретические проблемы анализа исполнительских средств и исполнительской интерпретации (см. публикации А. Соколова [269; 270]); осмыслялась проблематика, связанная с семантикой музыкального знака (работы С. Мальцева [187, 188]); появились исследования, посвященные исполнительским выразительным средствам и вкупе охватывающие полный их "ассортимент", - динамику (монография Н. Бажанова [16]), артикуляцию (диссертация В. Синицына [265], статья Г. Данилейко [100]), фразировку (публикации и диссертации В. Девуцкого [101; 102] и Д. Часовитина [309]); обсуждались вопросы, связанные с исполнительской формой и особенностями ее реализации (статья В. Григорьева [89]); исследовалась исполнительская организация музыкального времени [202 - 206]; особое внимание уделялось проблемам исполнительской интерпретации в историко-стилевой эволюции (диссертации А. Кудряшова [157], С. Осокина [238], А.Панова [239], А. Полежаева [245]); появились исследования высокого уровня обобщений, посвященные исполнительским стилям в контексте художественной культуры (диссертация и статьи В. Чинаева [314; 316; 318; 319], публикация В. Грицевича [92]). Как видно из простого перечня характерных для отечественного исполнительского музыкознания 3 См. диссертации Г. Котляренко, Л. Спидченко, О. ЯкуповоЙ. где исследуется соответственно творчество Глена Гульда 1155]. Эдвина Фишера [271] и Альфреда Корто[340]; монографии, посвященные искусству Э. Гилельса |21] и С. Рихтера [220J; сборники статей и воспоминаний о Марии Гринберг [194]. Григории Гинзбурге [88], Якове Заке [339] и многих других. Зарубежное музыкознание также характеризуется заметным интересом к выдающимся виртуозам: см. [107: 353; 356; 362; 364; 367; 368; 369]. работ, назрела необходимость новых взглядов, новых суждений, и статья А. Круглова «Трансценденталистская интерпретация музыки» [156] — вполне показательный тому пример .
Предложенный нами взгляд на фортепианное исполнительское искусство с культуротворческих позиций, с одной стороны, органично вписывается в изменившийся модус мышления: культурологический подход все более интересует исследователей (см. [24; 116; 320]) и особое внимание привлекает категория историзма (см. [18; 39; 95; 138]), поскольку культура понимается как личностный аспект истории (см. [281]). С другой стороны, такой подход позволяет музыкознанию выйти на новый уровень описания исполнительского искусства как целостной системы: на уровень метаописаная.
Мы анализируем текстуальную практику фортепианного исполнительского искусства с точек зрения специфики репертуарной экспансии, особенностей генеративной поэтики исполнительского текста и этики призвания и мастерства.
Исследование генеративных процессов исполнительского текста является содержательным центром работы, поскольку позволяет выявить путь и увидеть "механизм" образно-смыслового возрастания композиторского наследия в творчестве выдающихся исполнителей. Это дает возможность доказать правоту асафьевского наблюдения о соравиоцснности исполнительского н композиторского творчества с точки зрения музыки как смысла. Предлагаемый нами анализ находится в русле одного из заметных направлений музыкальной науки, связанного с изучением звучащего музыкального произведения и его битекстовой природы . Последнее предполагает исследование соотно- 4 Статья представляет собой естественный для условий обновляющихся суждений и методологий пример попытки осмысления старых проблем в новых терминах. 1 О двух способах кодирования музыкальной информации и соответственно двух типах текстов см. шений «исполнительского порыва» и текста в «сапоге печати» (О. Мандельштам), поэтому внимание к музыкальному произведению как произведению исполнительского искусства - а именно такой взгляд и лежит в основе предлагаемой работы - отвечает насущным потребностям музыкальной науки: в исследовательском отношении ее интерес к произведению в его живом звучания пока еще далеко не утолен, что подтверждают появившиеся в последнее время интересные публикации (упомянем лишь две наиболее показательные по тематике статьи: это работа Л. Березовчук, посвященная артикуляции в музыке с точки зрения проблем модальной звуковой формы [32], и статья И. Земцовс-кого, обозначившего в качестве серьезной исследовательской проблемы триаду «Человек музицируюший - человек интонирующий - человек артикулирующий» [117]).
Об актуальности предлагаемых нами путей обсуждения текстуальной практики исполнительского искусства скажем и с других, более широких оснований. Исследование механизма образно-смыслового возрастания наследия, — а его, собственно, и призван раскрыть предложенный нами анализ генеративной поэтики исполнительского текста, -естественно вписывается в общие тенденции развития гуманитарной науки. Как известно, в последнее двадцатилетие произошла смена уровня, на котором воспринимается художественный текст: исследовательский интерес сдвинулся от понятия произведения как структуры, функционирование которой объясняется, к теории текста как производительности языка и порождения смысла. В литературоведении и лингвистике, которые в XX столетии стали претендовать на роль «науки наук»6, сменилась научная парадигма. Как отмечают исследователи (в * Характерная для последней четверти XX века онтологгоаиия понятия «текст» («повествование») -он стал моделью реальности как таковой - выдвинула на первый план науку о тексте и прежде всего о художественном тексте- Всякая наука, даже не гуманитарная, отныне, если исходить ш пост-структуралистских представлений, отчасти является «наукой о тексте* или формой деятельности, порождающей художественные тексты (см. [125,5]). частности X. Харари), критика структурного анализа со стороны Рола-на Барта была в первую очередь направлена против понятия «cloture», подчеркивающего замкнутость, закрытость текста, т.е. против оформленной законченности высказывания. «Текст» стал означать своеобразную «методологическую гипотезу»; это позволило радикализовать его восприятие и вызвало особый интерес к производству смысла. Отсюда возникновение новой концепции «производительности текста», или, говоря иначе, текста как «самопорождающейся продуктивности» — см. [125, 167, 169] (заметим, что понимание культуры как «самовозрастающего логоса» и текста как мыслящего устройства разрабатывалось еще в тартуско-московской семиотической школе, в частности Ю. Лот-маном - см. [176, 1, 27-28, 131]). Другими словами, в последней четверти XX века по сути дела складывалась теория изменчивого восприятия художественного объекта, который уже и не является объектом как таковым, поскольку переходит из состояния «формального, органического целого в состояние "методологического поля"» (цит. по [125, 170]). Такое восприятие предполагает перенесение интереса на понятия «активность», «порождение» и «трансформация». Харари отмечает, что только коренное изменение традиционных методов знания позволило произвести на свет это новое понятие текста как «неопределенного поля в перманентной метаморфозе», где «смысл - это вечный поток и где автор - или всего лишь порождение данного текста, или его "гость", а отнюдь не его создатель» [там же]. Исходя из понимания нотной записи музыкального произведения как «неопределенного поля», мы анализируем процесс порождения собственно исполнительских текстов. Неполнота нотной записи оказывается удивительным свойством: она обеспечивает колоссальный «запас неопределенности», который позволяет музыкальному произведению с редкостной естественностью вписываться в Текст культуры - меняться вслед за измене- ниєм условий его исполнительского порождения и тем самым нести в себе гетерогенные культурные коды.
Цель исследования, которую мы сформулировали как существенное расширение представлений о творческой природе музыкально-исполнительского искусства, обусловленных - подчеркнем это - пониманием культуры не только как результата, но и как "делания", определила разветвленную систему его задач, где основными можно считать следующие: Q выявление принципиально новой функции исполнительского искусства, востребованной европейской музыкальной культурой в конце первой трети XIX столетия и определившей окончательное разделение профессии музыканта на композиторскую и исполнительскую ветви (этому вопросу посвящена Первая глава диссертации); Q анализ текстуальной практики фортепианного исполнительского искусства, в свою очередь потребовавший решения ряда существенных теоретических проблем: исследования репертуарной экспансии как процесса рас-ширения художественного Текста музыкальной культуры, взятого в его экстенсивных контурах (это составило содержательную суть Второй главы); исследования образно-смыслового возрастания композиторского наследия в творчестве выдающихся мастеров исполнительского искусства, чему посзящена Третья глава и что в свою очередь потребовало анализа: генеративной поэтики исполнительских текстов; «технологичности» интерпретационной традиции; способности композиторского наследия находиться в состоянии диалога с исполнительским искусством и пред- ставать в результате "встречи творчеств" в виде динамичной структуры, накапливающей смысл; изменений "семантических валентностей" исполнительского текста; логики, свойственной процессу развития кода, лежащего в основе исполнительской генерации текста; алгоритма, определяющего образно-смысловое становление композиторского наследия в исполнительском творчестве; диалектики закономерных и незакономерных исполнительских текстов как отражения разных направлений духовной инициативы исполнителя;
У исследования культуротворческого значения этики призвания и мастерства, определившего содержательную суть последней, Четвертой главы, где стояла задача показать деятельность выдающегося виртуоза как явления «морального и даже государственного» (И. Кунау [226, 230\), и уже в соответствии с этой потребностью проанализировать: участие исполнительского искусства в эстетическом творении мира, в утверждении и развитии онтологической стихии гениальности, в "приращении" времени культуры7; культуротворческог значение техники музыканта-исполнителя, показав для этого процесс ее осмысления, характерный для XX столетия. 7 "Время культуры" - ключевое для нас понятие, содержательная структура которого наиболее емко передана М.С. Каганом. См. 1131], где автором суммированы поиски многих исследователеЯ и дан теоретический конструкт, послуживший для нас в качестве метододопгческого инструмента, позволяющего анализировать время культуры в "наложении" двух основных его измерений: 1). социально-психологического и осознанно-илеологического; 2) антропологически-экзистенциального (переживаемого человеком). Пересечение обоих этих параметров мы вынуждены будем постоянно учитывать, анализируя процесс генерации исполнительских тексюв, что и объясняет наш особый интерес к вопросам "персональной выразительности".
Подчеркнем, что обозначенные задачи впервые стали предметом самостоятельного исследования, что позволяет говорить о существенной новизне предлагаемой работы и ее эвристическом потенциале.
Мы не станем представлять во Введении содержание каждой из глав, поскольку показанный выше список решаемых в исследовании задач, на наш взгляд, достаточно подробно очерчивает центральные "сюжетные" линии и их главные смысловые "побеги", составляющие содержательное единство диссертации.
Несколько слов скажем по поводу эмпирического материала, явившегося основой для аргументации теоретических наблюдений. Мы сознательно прибегали к самым различным "продуктам" деятельности музыкантов-исполнителей - теоретическим трактатам, практическим руководствам, исполнительским редакциям, статьям и книгам и, наконец, к отдельным высказываниям выдающихся мастеров, поскольку любые формы рефлексивных свидетельств музыкантов-исполнителей были для нас бесценными. Такой подход к материалу объясняет большое количество цитат, которое отличает текст предлагаемой работы и, конечно же, не является попыткой как бы скрыться за спиной авторитетов: цитаты представляют собой именно исследуемый материал, способный и призванный приоткрыть завесу над тайной порождения собственно исполнительского текста и вскрыть качественные нюансы генеративных процессов. Большое значение мы придавали исполнительским редакциям и особенно редакциям "Хорошо темперированного клавира" И.С. Баха (подробнее в работе рассматриваются две из них - К. Черни и Ф. Бузони), поскольку отсутствие в нотной записи цикла существенных для понимания и исполнения координат породило массу * По этой причине мы исключили из эмпирического материала весь громадный массив аудио- и видео-продукции. самых различных по качеству и направлению редакций (текстологических, инструктивных, интерпретационных), что, собственно, и позволяет достаточно аргументированно проследить деятельное посредничество исполнителя в диалогической "встрече текстов" (ММ. Бахтин).
Содержательная сущность диссертации определила специфику единства концептуальной и методологической основ: это междисциплинарное (интердисциплинарное) исследование, в котором синтезированы несколько методологических стратегий. Определяющим стал традиционный для отечественного исполнительского музыкознания методологический принцип "целостно-исторического изучения музыкально-исполнительского искусства" (А.Д. Алексеев).
Теория интонации/интонирования как содержательно развертываемого музыкального общения, восходящая к именам Б.В. Асафьева и Б.Л. Яворского, была основой для анализа текстуальной практики фортепианного исполнительского искусства.
Поскольку в работе под определенным углом зрения рассматривается процедура порождения исполнительского текста, связанная с проблемами усмотрения, интуиции, понимания, истолкования, то одной из методологических предпосылок исследования выступила герменевтическая процедура применения (Anwendung), обнаруживающая интерпретацию как «встречу двух сознаний, принципиально не-слиянных» (М.М. Бахтин [29, 6*5]).
Мы исходили из ряда методологических принципов диалогистов: схожих по своей глубинной сути представлений М.М. Бахтина, создавшего самостоятельный диалогический вариант герменевтики, и М. Бубера. Особую роль для нас имела бахтинская теория экзистенциального диалога: она выступила методологической основой в анализе особенностей "участного мышления", которое в музыкально-исполни- тельском искусстве, как и в любой другой ветви гуманитарного знания, предстает источником "проникающего вживания" в мир "другого", единственно способного обеспечить высший критерий гуманитарного познания - глубину сочувственного понимания (см. [29, 84-85, 301, 429, 431]).
Важную роль в исследовании играли методологические наработки отечественной семиотической школы и особенно Ю.М. Лотмана: выдвинутые им понятия "пусковой текст", "текст материнской культуры", "резерв неправильностей" и ряд других послужили методологической основой подхода к анализу текстуальной практики фортепианного исполнительского искусства. Исследуя интертекстуальные связи исполнительского текста мы в ряде случаев активно пользовались и деконструкцией, которую вслед за М. Фуко понимаем как процедуру обнаружения интердискурсивных зависимостей дискурса (см. [125, 177]).
Заметим, что содержательная специфика диссертации определила не только методологические основы исследования, но и саму речевую стратегию - ее исключительно нарративный модус9: исследуя тему, где всякий раз необходимо исходить из конкретного и специфичного культурного контекста с тем, чтобы конструировать событие в рамках персональной и социальной истории, интерпретируя его, "рассказывая истории" «по матрицам, задаваемым культурой» (см. [279, 144]\ приходится быть в позиции "ситуированного" исследователя (в отличие от незаинтересованного наблюдателя), предполагающей в равной мере 9 См. в высшей степени содержательную и информативную стаїью Е.Г. Трубиной. посвященную проблемам нарратнва [279]. Автор вскрывает целый спектр тенденций в корпусе гуманитарного знания. побудивших к пересмотру отношения к повествованию как специфической познавательной рациональности и соответственно особому типу знання. Влияние этих тенденций оказалось настолько действенным, что уже и экономисты (в частности Д. Маклоскн) настаивают на том, «что экономика есть форма "поэзии", точнее говоря, есть вариант рассказывания историй» (279, /50]. "ситуированного" читателя (см. [279, 152-153]). Наш выбор повествовательных речевых стратегий, в ряде случаев приводящий к эссеистич-ному стилю и даже к метафоричности изложения, стал причиной, во-первых, столь малого числа дефиниций (и соответственно отсутствия каких-либо размышлений об иерархии понятий) и, во-вторых, сознательной установки на минимальное количество новых терминов (мы скорее старались конкретизировать на материале фортепианного исполнительского искусства те понятия, которые давно и результативно функционируют в гуманитарной науке - "код", "пусковой текст", "правильный" и "неправильный текст", "новый" текст и ряд других).
В гуманитарном мире мы все идем по следу чужой мысли... -анализ процедуры порождения исполнительского текста, заставляющий сосредоточиться на внутренней стороне обращения музыканта-исполнителя с миром нотных знаков, не мог не быть подкреплен богатым теоретическим наследием исполнительского музыкознания, где особое значение для нас имели труды Л.А. Баренбойма ([19; 20]), Э.Бодки ([40]), Ф. Бузони ([25; 53]), Б.Вальтера ([57]), Г.М.Когана ([143; 146]), В.Ландовской ([162]), С.М.Мальцева ([186-188]), К.А. Мартинсена ([195]), Я.И. Мильштейна ([216; 218]), СЕ. Фейнберга ([284]), В.П. Чинаева ([314; 316-318]), А. Шнабеля ([329]), Ф. Дориана ([348]), Г. Шонберга ([368]) и др.
Данное исследование не могло появиться без тщательного изучения музыковедческой литературы по проблемам музыкальной эстетики, музыкальных стилей, музыкального мышления, музыкального текста, логики музыкальной композиции, психологии музыкального восприятия, по вопросам исполнительского интонирования и исполнительских выразительных средств. Назовем здесь лишь некоторых исследователей, оказавших заметное влияние на нашу работу:
Б.В. Асафьева ([12]), JLB. Кириллину ([139]), А.И. Климовицкого [141]; А.В.Михайлова [219], Е.В. Назайкинского ([229-232]), Н.Л. Фишмана [288], Т.В. Чередниченко ([310-313]), К. Закса ([366]).
Исключительное значение для нас имели работы Л.Е. Гаккеля ([71-77]), чье пристальное внимание к проблемам культурной значимости исполнительского искусства и тонкие наблюдения в этой сфере послужили главным импульсом к формированию самой исследовательской концепции.
В завершение отметим, что теоретические положения, наблюдения и выводы диссертации активно используются в читаемом автором курсе Истории фортепианного исполнительского искусства в Новосибирской консерватории; класс специального фортепиано является для нас той экспериментальной творческой мастерской, где постоянно апробируются непосредственные результаты аналитической работы.
Новая роль исполнительского искусства в музыкальной культуре
Как видим, в листовском письме к Ж. Санд задокументирован коренной перелом в истории исполнительского искусства: здесь уже получила свое отражение его новообретенная роль в музыкальной культуре - представлять публике музыкальные шедевры великих гениев. В этом смысле 11 марта 1829 года - день, когда под управлением двадцатилетнего Феликса Мендельсона-Бартольди были исполнены после столетнего забвения «Страсти про Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, - вполне можно считать начальной точкой отсчета новой творческой истории исполнительского искусства .
Эта, на нынешний взгляд, совершенно естественная потребность западно-европейской музыкальной жизни несказанно повлияла на исполнительское искусство: отныне оно призвано внедрять художественное прошлое в художественное настоящее и тем самым активно участвовать в созидании художественного будущего.
Здесь мы соприкасаемся с одним из парадоксов времени культуры, суть которого в том, что в прошлом прошлого нет (как размышлял древний мудрец, «прошлое это то, чего .уже нет»): прошлое лишь тогда есть, когда оно есть в настоящем ; потому-то - и только в таком случае! - оно становится творчески действенным, а следовательно, и определяющим как само настоящее, так и будущее. Именно эту культурную миссию стало осуществлять исполнительское искусство по отношению к музыкальному наследию. Другими словами, говоря с позиций культурологических, исполнительское искусство стало вносить свою лепту в осуществление полноты времени культуры, поскольку, как отмечал М.М. Бахтин, «...творчески-действенное прошлое, определяющее настоящее, вместе с этим настоящим дает известное направление и будущему, в известной мере предрешает будущее. Этим достигается полнота времени» [29,22б\.
Вспыхнувшая в музыкальной культуре связь времен была своеобразной ценностной проекцией вечности, но уже не в ее религиозном понимании, а в сугубо эстетической форме, наполненной этикой вечных ценностей (приведенные выше размышления Ю. Давыдова, полагаем, подтверждают эту мысль; см. также мнение Н.А. Бердяева: «Мы любим лишь прошлое, приобщенное к вечности» [31, 572]). Здесь, собственно, можно уже обозначить внешние контуры той новой культуротворческой миссии, которую исполнительское искусство отныне обрело в музыкальной жизни: - сохранение в активной слушательской памяти наследия прошлого; - расширение объема слушательской памяти; - формирование принципиально нового слушателя, способного адекватно воспринять предложенное ему произведение и судить о нем, т.е. слушателя соответствующего: со-ответствующего той музыке, к какой его приобщает исполнитель.
Вернемся в начало XIX столетия, дабы бегло очертить те изменения, которые протекали уже под знаком новых тенденций в европейской культуре. Возросший историзм коснулся не только музыки, но, конечно же, и всего общества: с позиций обновленного социального и духовного опыта оно стало пристально всматриваться в глубины собственной истории, стремясь в минувшем отыскать разгадку бурных событий современности, увидеть истоки национального характера, предугадать будущее, основываясь уже на опыте прошлого. Художественная культура обратилась к народной старине, к фольклору17; с начала XIX века в европейской, а в 20-30-е годы - в русской литературе возник и громадную популярность приобрел жанр исторического романа; «историческая живопись» стала ответом художников па искания него рической правды.
Интерес к прошлому стал заметно менять лицо и музыкальной культуры. Одним из его своеобразных проявлений в композиторском творчестве были попытки стилизаций. Напомним весьма показательное на этот счет сочинение Людвига Шпора, названное им «Историческая симфония в стиле и вкусе четырех разных эпох. Первая часть - период Баха и Генделя, 1720. Adagio - период Гайдна и Моцарта, 1780. Скерцо - бетховенский период, 1810. Финал- новейший период, 1840». Рецензируя ее лейпцигскую премьеру, состоявшуюся 7 января 1841 года, и давая в целом отрицателыгую оценку, Роберт Шуман отмечает: «Безусловно, останется примечательным явлением то, что в наше время делалась уже не одна попытка воссоздать старое время. Так, года три тому назад О. Николаи дал в Вене концерт, в котором он тоже исполнил целый ряд сочинений, написанных "в стиле и вкусе других столетий". Мошелес написал пьесу в честь Генделя и в его манере. Тауберт выпустил недавно сюиту, также с использованием старых форм и т.д. Даже Шпор сам предвосхитил свою симфонию в скрипичном концерте "Когда-то и ныне", в котором он ставил себе подобную цель» [331, 2-Б, 14].
Для нас, конечно же, важны не эти наивные попытки создания композиторами стилизаций "под прошлое"; впрочем, не будем столь категоричны в оценках; без них, возможно, не развернулась бы творческая дискуссия с мировой музыкальной практикой и не возник бы характерный для композиторской культуры XX века "интерпретирующий стиль", основанный на технике иностилевых заимствований (см. о нем [86]). Но для нас все же существеннее другое: интерес к прошлому, сказавшийся в исполнительстве, повлек за собой, говоря шумановским языком, прекрасный праздник воскрешения музыкального наследия.
Нужно сказать, что параллельно здесь шли два процесса, которые питали друг друга: исполнение произведений и их издание, поскольку успешное решение просветительской задачи непременно должно было получить свою материальную базу в качестве изданий музыкального наследия. Повышенный интерес и любителей, и профессионалов гаран АЛ тировал успех и окупал немалые издательские затраты. Просветительские потребности дадут старт текстологическим, интерпретационным и педагогически-инструктивным редакциям и изданиям, которые станут отдельной и очень показательной ветвью, обеспечивающей потребность музыкальной культуры в «полноте времени».
Вехи этого пути ясны из шумановского критического наследия — см. его рецензии на сборники пьес: "Старинная музыка для клавира — Избранные пьесы для фортепиано знаменитых мастеров XVII и XVIII веков, собранные К.Ф. Беккером"18; "Старинная музыка для клавира Доменико Скарлатти - И. Себ. Бах"19 [331, 2-А, 197-199]. Уже в 1837 году Шуман вопрошает: «Вообще говоря, разве не назрело время и до известной степени необходимость, чтобы немецкая нация все же как-нибудь решилась собрать и издать все произведения И.С. Баха?» [331, 2-А, 53].
Новое понимание Исторических концертов
Если первые репертуарные тенденции новой истории исполнительского искусства определялись потребностью ввести в слушательский обиход новые - а именно старые - великие имена создателей музыки, расширить сам "ассортимент" авторов, зазвучавших в концертных залах2, то следующим естественным шагом музыкантов-исполнителей был шаг к более основательному и подробному ознакомлению публики с творческим наследием определенного автора. Эта задача уже решалась в программах монографического типа, которые вскоре и станут предлагаться вниманию слушательской аудитории.
Исторические концерты стремительно - буквально «на расстоянии одного рукопожатия» (так Н. Эйдельман измерял поколения во времени культуры) - начинают наполняться качественно новым содержанием: идея таких концертов, как она осуществляется в исполнительской деятельности преемника Ференца Листа А.Г. Рубинштейна, это вовсе уже не прежние Исторические концерты времен Р. Шумана, когда само понятие истории предстазало скорее лишь как "соседство" разных времен, имен, стилей и жанров (при этом ис всегда и не во всем художественно соразмерных).
Популяризация музыки, как она протекает в исполнительской деятельности А.Г. Рубинштейна, во многом идет под знаком внедрения в слушательское сознание истории музыка прежде всего как объекта, обладающего определенными качественными свойствами. По этой причине кардинально меняется сама концепция программ: «Признаюсь, - говорит Рубинштейн - характер "tutti frutti", которым руководствуются при составлении их, мне неприятен. Слушать симфонию Гайдна и вслед за тем увертюру "Тангейзер" Вагнера или то же в обратном порядке мне противно; и не по причине предпочтения одного композитора - другому, одного сочинителя - другому, но по столь резкому различию звуковых красок. Я предпочел бы целый концерт (увертюру, арию, концерт, песни, соло, симфонию) из произведений одного и то же автора» [260, 1,158].
Рубинштейновские концертные программы - это явное стремление к художественному показу истории композитора, истории его творчества и даже истории национальной композиторской школы. Вернее, это уже менее всего «показ» - это своего рода художественное исследование, требующее немалых, в том числе и познавательных усилий. Насколько же стремителен путь, пройденный исполнительским искусством всего лишь за двадцать пять лет! Напомним, что Лист заканчивает карьеру пианиста-виртуоза в сентябре 1847 года - и уже через четверть века видны всходы семян, брошенных им в фортепианную исполнительскую культуру...
Исполнительский гений Антона Рубинштейна в очень многом определит дальнейшие развитие форм концертной жизни и уровень духовных притязаний во взявшей сгарт эстафете лучших из лучших исполнителей. Напомним те вехи его исполнительской деятельности, которые наиболее наглядно могут продемонстрировать величие вклада русского пианиста в новую историю музыкального исполнительства.
Во время гастролей в США в Нью-Йорке в период с 12 по 21 мая 1873 года А.Г. Рубинштейн дает семь прощальных Исторических концертов (см. [19, 2, 143-]44]) - это был впервые проведенный им цикл совершенно нового типа.
В Исторических концертах Рубинштейна многое впечатляет и сегодня (а в прошлом - не могло не поражать): - сроки проведения Исторических концертов - или ежедневно, или с перерывом не более одного дня между концертами! (1-й - 12 мая; 2-й - 14 мая; 3-й - 16 мая; 4-й - 17 мая; 5-й - 19 мая; 6-й - 20 мая; 7-й -21 мая 1873 года); - программы не повторяются - концертный репертуар пианиста уже настолько велик, что позволяет исполнить семь вместо одного, оговоренного в договоре, "прощального" концерта (см. [19, 2,143])\ - все программы - сольные; - исторический диапазон программ охватывает в этом цикле полтора столетия клавирной и фортепианной музыки - начиная от Баха, Генделя, Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна, Моцарта (авторы, составившие программу первого концерта), далее - Бетховен (второй концерт), Шуберт, Вебер, Мендельсон (третий концерт), Шуман (четвертый концерт), Шопен (пятый концерт), Фнльд, Гензельт, Тальберг, Моцарт-Тальберг, Моцарт-Лист, Шуберт-Лист, Мейербер-Лист, Россини-Лист, Доницетти-Лист, Лист (шестой концерт), седьмой концерт -фортепианная музыка самого А.Г. Рубинштейна; - практически, здесь уже представлены очень многие сочинения, которые определят концертный репертуар пианистов последующих поколений (за исключением, пожалуй, программ двух последних концертов, по разным причинам оказавшихся не столь актуальными в наши дни).
Конечно, эти программы первого проведенного А.Г. Рубинштейном цикла Исторических концертов также являются демонстрацией «превышения возможного», которая не может не поражать и о которой мы уже упоминали как о характерной черте виртуозов романтического типа.
В 1885-86 годах - новый исполнительский подвиг А.Г.Рубинштейна: новый цикл Исторических концертов. Он также состоял из семи концертных программ, куда входили немалая часть сочинений, уже исполнявшихся в «американском» цикле, и большое число как новых сочинений, так и композиторских имен (см. программы этого цикла в [19, 2, 265-266]). Масштаб - в сравнении с Нью-Йоркским циклом 1873 года - также возрос. Здесь поражает грандиозность программ каждого концерта: числа заявленных сочинений сегодняшним пианистам хватило бы на вдвое большее количество концертов. По сути это было художественное обозрение истории клавирной и форте-лианной музыки от истоков и до фортепианной музыки русских композиторов второй половины XIX века.
Впечатляло и количество городов, охваченных гастролями (а следовательно, каково было число слушателей!): полностью цикл Исторических концертов был исполнен в Берлине, Вене, Петербурге, Москве, Лейпциге, Париже, Лондоне (в Праге, Дрездене, Брюсселе -монографические бетховенская, шумановская и шопеновская программы из цикла Исторических концертов). В период с октября по май 1886 года А.Г.Рубинштейном были исполнены 107 Исторических концертов. Какова же была жажда просветительства у этого титана, если в Вене после окончания цикла концертов «он в течение недели ежедневно выступал перед учащимися музыкальных учебных заведений и местными музыкантами, сыграв одну за другой все сонаты Бетховена!» [19,2,265].
Трудно представить, каких сил потребовало осуществление этого сверхзамысла, поражающего и сегодня, сколь немыслимы были возложенные им на себя психофизические нагрузки... Неудивительно, что после исполненного в Лондоне цикла Исторических концертов (это был последний город в этой грандиозной поездке, где он выступал с 18 по 30 июня 1886 года) А.Г. Рубинштейн писал матери, что «навсегда покончил с публичной игрой на рояле» (цит. по [19,2, 310]).
Код как система преференций семантических и синтаксических средств
Что же представлял собой тот таинственный "сезам", которым в первой трети XIX столетия "открывалась" нотная запись произведения, становясь исполнительским текстом? Ответив на этот вопрос, мы хотя бы частично сможем представить себе, каков был код, с позиций которого стало прочитываться наследие прошлого, или скажем пока иначе: какой текст стал для наследия "пусковым" (термин Ю.М. Лотмана).
Чтобы показать путь образно-смыслового возрастания композиторского наследия в исполнительском творчестве, необходимо сначала проанализировать истоки традиции его прочтений и затем уже раскрывать логику ее дальнейшего развития. При этом нужно помнить, что традиция - это социокультурный процесс, имеющий различные временные характеристики: историческую длительность, выступающую в качестве макроуровня, а также "здесь и теперь" как микроуровень, изменения в котором определяют особенности и перемены качественных характеристик традиции в ее исторической длительности и связа-ны с конкретными и локальными механизмами деятельности личности (см. [255, 87]). Нас будет интересовать именно личностный аспект традиции, что, заметим, полностью вписывается в русло свойственных кошгу XX столетия представлений о культуре как личностном аспекте истории и конституирующем аспекте человеческого существования (см. [281, 390]). Состояние традиции на уровне "здесь и теперь" определяется определенными образцами поведения, лежащими в основе передачи социального опыта (по данной причине исследователи, описывая этот уровень, предпочитают использовать понятие "социальная эстафета" - см. [255, 87]). С этой точки зрения образно-смысловое возрастание композиторского наследия в исполнительском творчестве предстает как процесс, связанный с изменением образцов поведения, в нашем случае - образцов интерпретативных подходов. Наша задача -вскрыть его внутренние закономерности. Понятие "пусковой текст" позволяет охарактеризовать начальный этап с точки зрения особенностей опыта, стоящего между человеком и изучаемым явлением и выступающего в роли репрезентатора (см. [255, 84\ ). Под "пусковым текстом" мы понимаем тот социальный художественный опыт (в его практическом и теоретическом аспектах), который определяет ситуацию восприятия нотной записи композиции и соответственно генерацию исполнительского текста; "пусковой текст" - это существующие «здесь-теперь» и выступающие в качестве генеративной "эстафетной структуры" определенные нормы художественного перевода нотной записи в звучание.
Понятие "пусковой текст" приводит нас к проблеме интертекстуальности. Границы и особенности ее проявления в музыкальной культуре еще не проанализированы и нуждаются в пристальном осмыслении, которое, как представляется, может послужить мощным катализатором развития исполнительского музыкознания. Но мы лишь бегло коснемся интертекстуальности в тех пределах, в каких она связана с вопросами генерации исполнительского текста.
Напомним, что важнейшее положение поэтики о связи текста с другими текстами, ставшее в свое время одним из центральных для ряда исследователей, развивалось как теория подтекста, затем интертекста, затем паратекстуалыюсти, или транстекстуальности. К концу XX столетия термин "интертекстуальность" стал определять не только одно из средств анализа текстов, но и представления о миро- и самоощущении современного человека: история, общество и личность были поняты как то, что может быть «прочитано» - сознание понято как текст, бессознательное - как текст, «Я» - как текст22, поступок - как текст и т.д. вплоть до формулировок «мир как текст» и «текст как мир». В результате и культура стала восприниматься универсумом текстов, единым интертекстом, служащим как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста; сама же интертекстуальность постепенно начала осознаваться как своеобразное средство контроля коммуникативной деятельности.
Наиболее определенно по поводу интертекста и интертекстуальности высказался Р. Барт; «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат». Вместе с тем Барт подчеркивает, что будучи необходимым предварительным условием для любого текста интертекстуальность «не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек»2" (цит. по [124, 102, 103]). Аналогичную мысль задолго до Р. Барта выразил Осип Мандельштам: «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумол-каемость ей свойственна» [190, 2, 218]; напомним и строки Анны Ахматовой: Но, может быть, поэзия сама - / Одна великолепная цитата.
Интертекстуальность в музыкально-исполнительской культуре мы, повторим, затронем только в тех аспектах, которые способны помочь теоретическому осмыслению вклада исполнительского искусства в Текст культуры и показу ряда проблем, связанных с технологией исполнительской генерации текста. Решить задачу поможет понятие "код", которое мы используем как инструмент анализа имеющихся в культуре ассоциативных полей, откуда, собственно, черпаются «анонимные формулы» и «бессознательные цитаты». Код позволит рассмотреть соотношение «нотная запись - исполнительский текст» в его более сложных опосредованиях, максимально приближенных к существованию в реальных интертекстуальных условиях.
Соотношение это условно обозначим как «текст - текст»: оно предполагает взгляд на исполнительский текст в его связях с существующей традицией создания исполнительских текстов, поскольку ничто не создастся в культурном вакууме - человек, явившись в мир, «преднаходит» действительность, уже обладающую ценностно-смысловой значимостью, которой он не столько детерминирован, сколько становится к ней «причастным» .
Расширение контекстных связей кода
Вернемся во вторую половину XIX столетия. Та пора, когда "материнский текст" современной композиторской культуры полностью определял код, на основе которого шла генерация исполнительских текстов наследия, неизбежно должна была когда-то завершиться... Энтузиазм первопроходцев к новой исполнительской "земле обетованной", буквально запоем прочитывающих, «оволивающих» нотную запись наследия и до краев насыщающих ее собственным "я", неизбежно должен был смениться иным - более спокойным и взвешенным - подходом.
Осознание "эгоистичности" могло стать тем первым конструктивным шагом, который способствовал бы развитию кода, лежащего в основе генерации исполнительского текста авторской опусной композиции. Ганс фон Бюлов был первым, кто на этот счет попытался высказаться в печати. В начале 70-х годов в работе, посвященной Карлу Таузигу [346]60, он изложил свои взгляды на исполнительское искусство, где впервые прозвучали определения «объективное» и «субъективное». Противопоставление одного другому было у Бюлова разноречивым и нс вполне понятным, но, полагаем, как раз благодаря "эффекту неопределенности" оно и прижилось в исполнительском музыкознании и, попадая в различные контексты культуры, окрашивалось все новыми смысловыми нюансами61.
Напомним суть тех требований к исполнительству, которые высказал Бюлов. Первое из них сводилось к необходимости играть «объективно-корректно». Здесь он подчеркивал важность опоры на скрупулезный анализ нотной записи композиции, но говорил также и о «воссоздании» (Decomposition), понимая под этим необходимость прочесть и выявить те исполнительские ремарки, которые автор не проставил либо по причине традиции, либо потому, что не считал их существенными. Как видим, уже в первом пункте требований лежит мысль о «воссоздании» или «досоздании», и тогда закономерен вопрос: что же означает «объективно-корректно»...? Второе требование гласило об «объективно-красивом» исполнении — о «необходимости считаться с акустическими законами инструмента и вообще с законами благозвучия» (цит. по [19, 2, 178]. Третий пункт Бюлов сформулировал как необходимость играть «субъективно-интересно», т.е. придавая исполнению характеристичность и непосредственность, но при этом соблюдая требования, изложенные в первых двух пунктах.
В 1871 году это, на первый взгляд, весьма туманное соотнесение субъективного и объективного, как представляется, отражало важный процесс, а именно: расширение системы преференций в выборе семантических и синтаксических средств, лежащих в основе генерации исполнительского текста авторской опусной композиции. Развитие кода, определяющего особенности исполнительского прочтения наследия, могло стимулироваться единственной возможностью: диалогом с произведением., основанным не только на "вчитывании" в нотную запись того ассоциативного поля, которое определяется современным состоянием традиции, но и на активном «вопрошании» - на искренней потребности исполнителя понять особенности того культурного контекста, который в свое время обусловливал произведение, выступая по отношению к нему в качестве "материнского текста"... Бюловское требование «объективно-корректной» и «объективно-красивой» игры, полагаем, и было попыткой отразить возросшую диалогичность подхода к произведению, при котором «субъективно-интересное» должно было контролироваться путем соблюдения неких «объективных» критериев - они-то и представляли произведение как равноправную сторону диалога. Такой подход давал возможность расширить код за счет углубления контекстных связей, что вело к возрастанию интертекстуальности исполнительского текста.
Менялись как минимум две важнейшие основы кода. Во-первых, диалогичность способствовала расширению информационной емкости кода, поскольку целью вопрошания было исполнительское «досозда-ние» весьма существенной информации - теперь, чтобы стать адресантом-носителем информации, представляющим авторскую опусную композицию и выступающим от имени автора, исполнитель должен был определенную часть этой информации самостоятельно получить. Во-вторых, возросшая диалогичность принципиально видоизменяла автокоммуникацию, в результате чего в новом направлении пошло повышение ранга значимости исполнительского текста: подход к композиции с позиций «Я исполняю Баха» постепенно начинает сменять предельно насыщенную субъективизмом («Я исполняю Баха») передачу в канале «Я - Я»...
Фактически это был поворот к герменевтической процедуре "применения", хотя нужно отметить, что еще немалое время спустя особо убедительные интерпретации (относящиеся, конечно же, к "правильным" исполнительским текстам) со стороны критиков будут сопровождаться восторженными заверениями - «глубокой передачи чувств и замыслов автора», представляющими собой типичные оценочные клише, чей генезис восходит к представлениям о возможности "перемещения" в опыт композитора, к неосознанному отождествлению его с опытом исполнителя.
«Основательность изучения и наблюдения» - так можно определить декларированный Гансом фон Бюловым подход к исполнению произведения. Его редакции свидетельствуют о новом этапе в понимании со-ответствия исполнительского текста: любое из исполнительских переживаний скрупулезно поверяется Бюловым нотной записью сочинения и в этом его главное отличие от Листа, во многом исходившего из собственных поэтических оигущений в восприятии чужой музыки. Для сравнения напомним: сообщая о свойствах исполнительского воплощения Музыкального момента cis-moll Шуберта, Лист говорил в примечании, что «неоднократно позволял себе жрать минорную (cis-moll) часть этой пьесы vivacissimo agitato вместо moderato, а мажорную (Des-dur) часть - allegretto вместо moderato» (цит. по [52, 27]); листов-ские редакции ряда чужих сочинений, как известно, содержали перемены авторской нотной записи - см. [52, 58-62], где показаны изменения текста пьес Шуберта, Вебера и др.
Ганс фон Бюлов значительно более точен: авторская запись - даже там, где она представляется ему явно ошибочной! - комментируется им с удивительной корректностью. Приведем два наиболее показательных примера62.
В примечании а), относящемся к такту 8 из багатели № 11 ор. 119, читаем: «Здесь подвергаешься искушению поправить ход баса: то есть во второй четверти вместо повторения es взять d, а в следующем такте ударить только с, остальные голоса выдерживать. Редактор раньше чувствовал подобное желание исправить текст, но отошел от этого (...)» [35,431