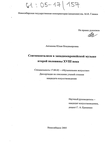Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Ключевые категории эстетики «Бури и натиска» и новое понимание сонатности
1.1. Понятия «гения», «оригинальности», «характеристичности» и проблема новаторства в искусстве 29
1.2. «Выражение» и «выразительный стиль» в эстетике эпохи «Бури и натиска» 43
1.3. Принцип развития в сонате и симфонии в контексте «характеристичности» и «аффектности» 51
Глава 2. Метаморфозы «характеристического» и пути развития жанра симфонии
2.1. «Характеристическое» как инструментальный театр (симфонии Й. Гайдна периода «романтического кризиса» 58
2.2. «Характеристическое» как мир чувств в симфониях К. Диттерсдорфа: на пути к «драматической» симфонии 71
2.3. «Mehr Ausdruck der Empfindiing ah Malerei»: «Характеристические» симфонии П. Враницкого как предвестие героико-драматического симфонизма 81
Глава 3. Клавирная соната XVIII века как репрезентант «выразительного» стиля
3.1. Топос «говорящего клавира» и новый музыкальный словарь 100
3.2. «Выразительная» форма в «штюрмерской» клавирной сонате 116
Заключение 132
Список литературы 149
Приложение: Нотные примеры 165
- Понятия «гения», «оригинальности», «характеристичности» и проблема новаторства в искусстве
- «Характеристическое» как инструментальный театр (симфонии Й. Гайдна периода «романтического кризиса»
- Топос «говорящего клавира» и новый музыкальный словарь
Введение к работе
Актуальность исследования и степень изученности темы. В музыкознании отсутствует единое представление о хронологии и феноменологии эпохи «Бури и натиска». Несмотря на наличие огромного количества исследований, посвященных различным аспектам развития музыкального искусства второй половины XVIII века, музыкальное «штюрмерство» по-прежнему остается одним из самых мало изученных явлений, сведения о нем разрозненны и пока не складываются в единую картину. Между тем, с полным правом можно утверждать, что именно благодаря движению Sturm und Drang стали возможны такие важнейшие достижения века Просвещения как симфония, соната и родственные им жанры в совершенных классических образцах. Без интенсивных творческих поисков «штюрмер-ского» периода процесс, а главное, — результат формирования отличительных качеств семантики, драматургии и методов .развития в этих жанрах был бы принципиально иным. Наконец, невозможно представить себе венский классицизм как целостное явление, вбиравшее в себя разнородные стилистические тенденции, вне связи с творческими принципами и' идеями; движения «Бури и натиска».
Обращает на себя внимание существующая на сегодняшний день недооценка специфических свойств музыкального «штюрмерства», позволяющих рассматривать его как относительно самостоятельный малый стиль в рамках классицизма. В этом качестве он образует своеобразную параллель галантному и чувствительному стилю.- Конечно, полная изоляция его от того и другого была бы неправомерна, что подтверждает живая творческая, практика, а также признание, того, что движение «Бури и натиска» является «оборотной стороной чувствительности» (П. Румменхёл-лер). Вместе с тем, осмысление его специфических свойств смогло бы помочь в определении той роли, которую сыграло «штюрмерство» в решительном обновлении музыки второй половины XVIII века.
Требует дополнительной дефиниции и сам термин «Буря и натиск», как известно, позаимствованный из литературы1. Распространение названия одноименной пьесы Ф. М. Клингера на всю эпоху произошло только в 20-е годы XIX века, с подачи Ф. В. И. Шеллинга;- сами протагонисты движения Sturm und Drang именовали ее «временем гениев» (Geniezeif). Утвердившийся в отечественном искусствознании устойчивый перевод «буря и натиск» является вынужденно ограниченным, отсекающим альтернативные, но не менее значимые варианты толкования. В немецко-русских словарях без труда обнаруживается целый ряд синонимических и переносных значений слов «Sturm» и «Drang»: Sturm: 1. буря, ураган, шторм
, 2. штурм, атака, приступ, нападение Drang: 1. натиск, напор, прорыв
2. стремление, влечение, позыв
Нетрудно заметить, что в данных переводах присутствуют три семантических слоя - 1) Sturm как природная стихия, 2) Sturm и Drang как экспансивное действие и 3) Drang как душевная экспрессия. Последний модус еще более резко акцентирован в английском варианте перевода -Storm & Stress (шторм и напряжение). Движение «Бури и натиска» реализовало все три значения — в виде образного топоса «бурной природы», пафоса низвержения устаревших традиций и проявления сильных эмоций. Д. Хилл отмечает также, что данное понятие используется сегодня «в метафорическом смысле, предполагающем жизнерадостное воплощение молодой энергии, и в специальном, относящемся к определенному периоду или стилю в немецкой литературной истории 1770-х годов» [164,7].
Дискуссионным на сегодняшний день остается и вопрос о хронологических границах данной эпохи. В литературе они обозначены более оп- 1 Название драмы «Буря и натиск» было дано не Ф. М. Клингером, оно появилось в 1776 году благодаря швейцарскому поэту Кристофу Кауфману, посоветовавшему заменить им первоначальное название пьесы «Wirrwar» («Суматоха», «Путаница», «Неразбериха»). ределенно, поскольку под «Бурей и натиском» подразумевается коллективное движение, объединенное идейными и эстетическими установками, имеющее начало и конец своего существования. В качестве нижней границы при этом называются 1766 - 1767 годы (время появления «Писем об особенностях литературы» X. В. Герстенберга и «Фрагментов о новейшей немецкой литературе» И. Г. Гердера). Верхнюю границу маркирует окончание «штюрмерского» периода в творчестве Ф. Шиллера и начало Веймарского классицизма в 1785 году. Кульминацию движения «Буря и натиск» образуют 1770-е годы, связанные с возникновением важнейших программных манифестов Ф. Г. Клопштока («Письма о немецкой ученой республике»), И. Г. Гердера («Идеи к философии истории человечества», статьи о Шекспире и Оссиане) и И. В. Гете (статья «Шекспир» в сборнике «О немецком характере и искусстве»), а также образование кружков (Франкфуртский, Страсбургский и Геттингенский «Союз рощи»). В те же годы появляются и культовые произведения «Бури и натиска», знаменуя период его зрелости.
В музыкальном искусстве определение временных границ существенно затрудняется, поскольку консолидация творческих сил на общей идейной почве здесь отсутствует (мангеймская, берлинская и венская школы группируются вокруг аристократического двора и не декларируют коллективных эстетических позиций); более того, и в творчестве самих композиторов влияние «штюрмерства» проявляется в разной степени и в разные годы. Один из авторитетных исследователей музыкального «штюрмерства» лексикограф Г. Эггебрехт опускает нижнюю границу эпохи до 1740 года, выбирая в качестве точки отсчета начало формирования пфальцско-баварской, а точней, мангеймской школы, и творчество сыновей И. С. Баха. Данная позиция не бесспорна, поскольку сам факт начала деятельности крупнейших представителей музыкального «штюрмерства» в этот период еще не свидетельствует о серьезной заявке в русле «Бури и натиска», не существующего пока и в литературе. При этом необходимо иметь в виду, что в 1740-1750-е годы в творчестве этого поколения происходит процесс постепенного изживания барочных элементов, стало быть, говорить о проявлении признаков нового мышления в контексте эстетики «Бури и натиска» в данном случае несколько преждевременно. Так, у К. Ф. Э. Баха черты нового стиля определенно проявляются лишь в конце берлинского периода (ближе к 1760-м годам), а в своем зрелом виде -только в Гамбурге (1767 - 1788). Вместе с тем, основные положения, составляющие эстетическую основу музыки эпохи «Бури и натиска», были изложены уже в первой части «Опыта истинного искусства игры на клавире» (1753). Один из апостолов и зачинателей «Бури и натиска» в музыке (по признанию многих музыкальных историков), глава мангеймской школы Я. Стамиц скончался в 1757 году. Его творчество, таким образом, не выходит за пределы 1750-х годов, но с 1751 года, благодаря его концертам в Париже, Мангейм уже и за рубежом приобретает репутацию центра «немецкой музыкальной революции» (Ч. Берни).
Представляется необходимым подкорректировать и верхнюю границу эпохи «Бури и натиска», принимая во внимание творчество юного Бетховена в ранний период, до первого душевного кризиса (1802), когда влияние литературного и музыкального «штюрмерства» в творчестве композитора проявляется наиболее ощутимо. Одним словом, определить с большой точностью границы эпохи «Бури и натиска» — задача неразрешимая, и результат будет зависеть от объема самого понятия, оценки художественной парадигмы, от того, что подразумевается под феноменом «Бури и натиска» — стиль, умонастроение, эпоха или тип культуры переходного характера.
По-прежнему не утихают дебаты и о правомерности проведения аналогий между литературным движением «Бури и натиска» и музыки. Так, для Д. Хилла, пытающегося найти ответ на данный вопрос, в конечном итоге «представляется неясным», как музыка соотносится со «штюрмерст-вом» в литературе — «прямо или косвенно, является ли она по отношению к нему параллельным феноменом или находится в одной и той же социальной и культурной сфере» [164, 3]. X. А. Брокхауз считает, что «данное направление нельзя переносить на музыкальную историю, хотя здесь есть очевидные параллели» [150, 200].
Непосредственное сближение музыкального искусства и литературного движения «Бури и натиска» значительно чаще и смелей предприни-мается в западном музыковедении. И. Ларсен считает попытки адаптации понятия «Бури и натиска» в музыке «естественным и само собой разу-меющимся». В применении к творчеству И. Гайдна он рассматривает «штюрмерство» как процесс преодоления галантной традиции [175, 17]. В том же «антигалантном» аспекте рассматривает музыкальное «штюрмерство» в симфониях венских классиков и П. Браун [151, 104]. П. Граден-виц отмечает, что благодаря стилистическим новациям северонемецкие и южнонемецкие композиторы «находились в непосредственной близости к движению "Бури и натиска"», осуществив «переход от барочного мышления к субъективизации выражения» [160, 32].
Вполне органично используют данный термин по отношению к определенным этапам творчества венских классиков Ч. Розен [184] и П. Румменхеллер [186]. Последний придерживается мнения о том, что «штюрмерство» в литературе не могло быть изолировано от других видов искусства. «Если бы движение "Бури и натиска" репрезентировало себя только в литературе, не оставив следа в столь важных областях как музыка и музыкальная жизнь, - это противоречило бы логике исторического опыта» [186,19].
В отечественном музыкознании попытки сближения музыки и литературного «штюрмерства» предпринимаются значительно реже и осторожней. Так, например, Т. Н. Ливанова, с одной стороны, пишет, что в процессе развития музыкальное искусство эпохи Просвещения «в известной степени сближалось с направлениями других искусств и литературы XVIII века», в этой связи она отмечает хронологическую близость клавир- ной музыки К. Ф. Э. Баха «Вертеру» И. В. Гете и драме «Буря и натиск» М. Клингера. С другой стороны, исследовательница утверждает, что при известных аналогиях вряд ли следует говорить о близких параллелях музыки и литературы, поскольку венские классики выявили специфические методы образного обобщения и развития, характерные для различных музыкальных форм - от фуги до симфонии. «Эти качества не могли и не могут быть свойственны другим видам искусства: они представляют исключительную особенность одного лишь музыкального искусства» [80,10].
Л. Кириллина в исследовании «Классический стиль в музыке XVIII -начала XIX века» предпочитает применять термин «Буря и натиск» по отношению к музыке в качестве «стилевой метафоры» или «обозначения определенного топоса», связанного с преломлением «патетического», «драматического» и «чувствительного». «Речь тут может идти именно о типологической параллели, а не о прямой зависимости одного явления от другого» [63, 50]. Подобной позиции придерживаются также П. Луцкер и И. Сусидко, предпочитая говорить лишь о новом" в 1770-х годах «бурном топосе» [84,199], но не прямом влиянии литературного «штюрмерства».
Исследователь О. Шушкова, рассматривая течение «Бури и натиска» в ряду других духовных, художественных и музыкальных тенденций того времени, отмечает, в частности: «Если галантность и чувствительность получили непосредственное претворение в музыке, то несколько иначе обстоит дело с течением "Бури и натиска". Сформировавшись как направление в литературе, оно так и осталось ее принадлежностью» [141, 21]. Вместе с тем, автор не исключает его опосредованного воздействия через «чувствительность», которая в свою очередь непосредственно связана со «штюрмерством».
В диссертации Ю. Антиповой «Сентиментализм в европейском искусстве второй половины XVIII века» впервые в отечественном музыкознании предпринята попытка серьезного изучения последствий непосредственного контакта музыкального искусства с литературным движением «Бури и натиска». Немецкое «штюрмерство» рассматривается автором как одна из граней сентиментализма, а точней как его «драматический вариант», противопоставленный «лирико-созерцательному» сентиментализму. Главной связующей нитью между музыкой и литературой «Бури и натиска», по мнению автора, является style passionate, представленный в литературе писателями-«штюрмерами» и их предшественниками, а в музыке -целым рядом композиторов второй половины XVIII века.
Необычайно важной в этой связи представляется необходимость очертить круг художественных явлений, включаемых в орбиту музыкального «штюрмерства». Так, например, X. А. Брокхауз относит к нему некоторые произведения К. В. Глюка, Й. Гайдна и В. Моцарта, написанные в период 1770 - 1789 гг. В поле зрения Д. Хертца попадают такие образцы музыкального «штюрмерства» как «реформированная опера» К. В. Глюка, мелодрамы И. Бенды и некоторые сцены из «Идоменея» В. Моцарта. Б. Брук и Т. де Визева рассматривают с эстетических позиций движения «Буря и натиск» сочинения Й. Гайдна 1770-х годов, то есть периода так называемого «романтического кризиса». П. Браун, в свою очередь, относит к числу «штюрмерских «антигалантных» сочинений наряду с симфониями Й. Гайдна произведения И. Б. Ванхаля и К. фон Ордонеца. Список имен и явлений дополняет И. Грубер, упоминая в этой связи «бурный, пламенный стиль» А. Тоэски, драматизм и романтические предвидения в музыке К. Нефе, создателей «штюрмерской» музыкальной баллады П. Шульца И. Цумштега, сочинения юного Л. Бетховена, а также труды музыкальных летописцев того времени — Ч. Берни, И. Шейбе и Г. Фоглера.
Существенно расширил представления о круге музыкальных феноменов этой эпохи Г. Эггебрехт, исследовавший ряд явлений в северонемецком и южнонемецком регионах, а также в Париже и Австрии. К наиболее значительным из них он относит, помимо упомянутых выше, творчест- во К. Ф. Э. и В. Ф. Бахов, И. Г. Мютеля2, представителей пфальцско-баварской, а именно мангеймской школы (Я. Стамица, Ф. Рихтера, А. Фильтца, Ф. Бека и К. Каннабиха), силезца И. Шоберта и австрийца И. Г. Эккардта. Ю. Антипова, в свою очередь, называет в ряду других «штюрмерских» сочинений минорные симфонии И. К. Баха, Ф. А. Рёсслера.
Нетрудно заметить, что среди названных композиторов преобладают преимущественно немецкие, австрийские и чешские мастера, тесно связанные с австро-немецкой традицией, и это вполне объяснимо, так как движение «Бури и натиска» наиболее непосредственно проявило себя именно в немецкоязычных странах.
Необходимо иметь в виду, что «штюрмерство», столь цельно и концентрированно проявившееся в литературе, в музыке обнаруживает себя рассредоточено, а подчас точечно - в отдельных произведениях композиторов разного уровня и характера дарования. Не случайно среди сочинений «штюрмерского» модуса фигурируют минорные сонаты и симфонии тех композиторов, чье творчество традиционно вписывается в рамки галантного стиля, как например, И. К. Бах. В этом смысле каждый австро-немецкий или чешский композитор второй половины XVIII века потенциально мог быть тем, кто внес свою лепту в сферу музыкального «штюр-мерства».
Недостаточно ясным остается и вопрос о связи творчества Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена с движением «Бури и натиска». Не претендуя на окончательный ответ и, в известной степени, выходя за предполагаемые границы данного исследования, обозначим основные параметры научной ситуации. Если параллель творчества юного Л. Бетховена и 2 И. Г. Мютель - рижский органист, друг И. Г. Гердера, ученик И. С. Баха. 3 Богемия в XVIII веке принадлежала Австрийской империи. В свою очередь, Австрия, как и Германия, являлись частью Священной Римской империи немецкой нации, кото рая, вопреки внутренней консолидации и становлению собственной государственности в Германии и Австрии, просуществовала вплоть до 1806 года. Не следует забывать и о постоянной миграции музыкантов этих стран, в частности, многие композиторы Боге мии нашли приложение своих творческих сил в Вене, Берлине, Мангейме. «штюрмерства» давно считается традиционной и доказанной, то в отношении Й. Гайдна и В. Моцарта дело обстоит значительно сложней.
Следует заметить, что вопрос о взаимосвязи творчества И. Гайдна с движением «Бури и натиска» на сегодняшний день уже не кажется парадоксальным, хотя изучение его наследия в контексте идей просветительской эпохи началось сравнительно недавно - примерно с середины XX века. До этого всякая связь И. Гайдна с идейными течениями его эпохи отрицается. Так, К. Ф. Брендель в 1877 году выражал уверенность в том, что «миросозерцание Гайдна весьма ограниченно: время и трудная жизнь препятствовали ему усвоить себе философские взгляды» [26, 58]. Подобной точки зрения придерживается и Л. А. Саккетти (1883), характеризуя особенности мировоззрения Й. Гайдна и В. Моцарта: «Умственный горизонт их был не широк, и в своем миросозерцании они не были тронуты бурным потоком, разлившимся в эпоху по верхним слоям общества. ... И тот и другой были чужды умственному движению, обнаружившемуся в литературе и жизни во вторую половину XVIII века, поэтому оно не могло повлиять на их творчество» [111, 28].
Лишь в XX веке подобные искусствоведческие каноны были подвергнуты пересмотру. В исследовании Т. Ливановой Й. Гайдн предстает натурой гораздо более многогранной, вовсе не чуждой современных просветительских идей, руссоизма и даже «Бури и натиска», но параллель его творчества этим явлениям духовной жизни оговаривается еще весьма осторожно. Ю. Кремлев отмечает изменения, произошедшие в стиле композитора в свете важнейших исторических событий и идей Sturm und Drang, но отказывает Й. Гайдну в понимании их сути: «У нас нет оснований приписывать Гайдну широкую осведомленность в идеологических течениях и конфликтах эпохи, но великие художники ... всегда поразительно чутко ... претворяют тонус своего времени» [72, 114].
Ряд исследователей, в частности, Теодор де Визева, рассматривает период 1770-х годов как проявление «романтического кризиса», или кри- зиса «середины жизни» {mid-life-crisis), как называет его В. Магграф [178, 90]. Речь идет о кризисе исключительно эмоционального характера, имевшем последствием заострение «штюрмерских» примет в стиле композитора.
Прямых свидетельств о том, какое значение имело движение «Бури и натиска» лично для И. Гайдна, не сохранилось. Утраченные письма, дневники и книги4, проливающие свет на круг его чтения, могли бы помочь восстановить реальную картину. И все же существует немало косвенных фактов, которые дают возможность реконструировать ее с большой долей достоверности. Одним из важных источников, благодаря которым Й. Гайдн мог сформировать свое представление -о «штюрмерстве», были театральные пьесы, идущие на сцене придворного театра. К примеру, гастролирующие при дворе Эстергази труппы Й. Хеллмана (1769), К. Вара (1778-1785), Дивальда (1772 - 1777), включали в свой репертуар мещанские драмы Г. Э. Лессинга («Мисс Сара Симпсон», «Минна фон Барн-хельм»), во многом предопределившие облик зрелой «штюрмерской драмы», «Стеллу» И. В. Гете, «Коварство и любовь», «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера и пьесы В. Шекспира — главного кумира «бурных гениев». Подробно об этом пишет Б. Ю. Матвеева в исследовании «Музыкальный театр Йозефа Гайдна» [87]. Совершенно очевидно, что Й. Гайдн не мог находиться в изоляции от таких знаковых театральных событий, тем более что в его обязанность вменялось создание или выбор подходящей музыки для вступлений, вставных номеров и интермедий между актами пьес.
Еще одним проводником «штюрмерских» идей стала для Й. Гайдна новейшая немецкая музыка, в первую очередь сочинения К. Ф. Э. Баха, одного из апостолов «Бури и натиска». О том, что значили для Й. Гайдна произведения Филиппа Эммануила, сам композитор писал неоднократно: 4 В результате двух пожаров (1768, 1776), уничтоживших дом Гайдна, были безвозвратно утеряны многие документы. «...кто знает основательно мои вещи, тот только сумеет понять, чем я обязан Ф. Э. Баху и чему я выучился, штудируя его композиции. Филипп Эммануил сам когда-то похвалил меня за это, ... сказав, что я один тщательно изучил его сочинения и правильно использовал, их» [161,19].
Известное высказывание В. Моцарта о К. Ф. Э. Бахе «он - отец, а мы его дети», многократно цитированное исследователями, также подтверждает факт опосредованного воздействия «Бури и натиска» на композитора. А. Эйнштейн не исключает и прямой связи, но отмечает, что «Буря и натиск» для такой личности и художника как Моцарт «движение слишком поверхностное, слишком бесформенное» [143, 99]. Автор сближает В. Моцарта и К. Ф. Э. Баха в их стремлении «трогать сердца», но отмечает, что само выражение чувств у В. Моцарта совершенно иное: «Для Филиппа Эмануэля характерны ничем не сдерживаемое проявление трогательных чувств в медленных частях и такой же переизбыток остроумия, всякого рода неожиданностей и эффектных приемов (der Point5) в быстрых ... Но вот эти ... типические черточки всегда были Моцарту антипатичны: чем старше он становится, ... тем менее склонен ради «пуанта», ради неожиданного поворота жертвовать логикой формы, как часто это делает Филипп Эмануэль» [143,122].
Не исключает связи В. Моцарта со «штюрмерством» и Г. Аберт, упоминая, в частности, что он был знаком с одами Ф. Г. Клопштока, пьесой И. А. Лейзевица «Юлий Тарентский». Заметим при этом, что И. А. Лейзевиц - одна из значительных фигур геттингенского «Союза Рощи», а его пьеса «Юлий Тарентский» в свое время вдохновила Ф. Шиллера на создание драмы «Разбойники». Стихотворение И. В. Гете «Фиалка», появившееся в «штюрмерский» период поэта и попавшее в руки В. Моцарта, правда, под чужим именем, стало поводом для создания им одной из самых проникновенных песен. Композитор был хорошо знаком с трагедия- 5 «Der Point (или пуант) - прием, привлекающий внимание публики чем-либо неожиданным. Этот термин применялся по отношению к музыке чувствительного стиля» [143,122]. ми В. Шекспира, интерес к которому в этот период стимулировали именно «штюрмеры», в том числе и своими драмами, ориентированными на шекспировские образцы.
Миф о В. Моцарте как человеке, не слывущем книгочеем и не ориентирующемся в современной литературе, развеивает уже сам композитор, утверждая, что при выборе оперного либретто он «прочел сотню книг, пока не нашел единственную пригодную» [цит. по: 165, 64]. Его осведомленность и причастность разного рода духовным течениям эпохи подчеркивает и Г. Кнеплер в исследовании «Моцарт и эстетика Просвещения». «Моцарт, - пишет он, - был знаком с основными идеями Просвещения через литературу, через встречи с просветителями, через масонство. Он скрупулезно читал не только либретто, но и газеты, он был занят не только музыкой и сценическим искусством, но даже, попутно заметим, историей и философией. ... С чувствительностью медиума Моцарт воспринял все самое существенно из течений своего времени» [171, 7].
Наряду с литературой не следует исключать еще и* некоторые музыкальные явления; через которые В. Моцарт мог соприкоснуться со «штюрмерством» опосредованно. Следует вспомнить, например, какой след оставила в его творчестве поездка в Мангейм и знакомство с музыкой таких мастеров как Я. Стамиц, И. Хольцбауэр, а "также изучение (и даже обработка) произведений И. Шоберта, И. Г. Эккардта.
Невозможно пройти и мимо сознательного стремления Й. Гайдна и В. Моцарта к «оригинальности», принципу, который представители «Бури и натиска» поставили в творчестве во главу угла.. «Искусство свободно и неподвластно никаким ... жестким правилам, - пишет Й. Гайдн, почти буквально повторяя сходные изречения «штюрмеров», — судить о нем дано лишь знатоку, и я думаю, что имею такое же право устанавливать в нем свои законы, как и любой другой» [15, 52]. При этом объяснение своей «оригинальности» Гайдн находит в вынужденной оторванности от внешнего мира, которая, как выясняется, была все же относительной.
Непосредственную близость к движению «Бури и натиска» обнаруживает творчество Л. Бетховена, являющееся несколько запоздалым откликом на него. В литературе к этому времени уже начался период Веймарского классицизма, но еще продолжали свою деятельность в «штюр-мерском» русле братья Штольберги - писатели, входившие в «Союз Рощи». Первое знакомство Л. Бетховена с миром «штюрмерской» литературы произошло еще в Бонне. Здесь, в театре он видел «Заговор Фиеско» и «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, открыл для себя пьесы В. Шекспира («Ричард III», «Король Лир»), слышал мелодрамы И. Бенды, национально-героическую оперу И. Хольцбауэра «Гюнтер фон Шварцбург», «Дон Жуана» В. Моцарта. Формированию творческой натуры Л. Бетховена немало способствовало его боннское окружение, в частности, духовный наставник и учитель К. Нефе, передавший ему свою любовь к Ф. Г. Клопштоку и К. Ф. Э. Баху. В доме Брейнингов Л. Бетховен впервые познакомился с творениями И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Л. К. Г. Хёльти, Г. Бюргера. Он многое знал наизусть из «Вертера» и ранних драм Ф. Шиллера. Помимо стихов И. В. Гёте Л. Бетховен положил на музыку стихи И. Г. Гердера^ и X. Д. Шубарта.
Ощутимое влияние на Л. Бетховена оказал «штюрмерский» культ сильной личности. В письме к Н. Цмескалю он со свойственным ему максимализмом, почти как шиллеровский Карл Моор, провозглашает: «Пропадите вы пропадом со всей этой вашей моралью, я ничего не желаю о ней знать. Сила - вот мораль людей, возвышающихся над остальными; она же и моя мораль» [106, J09]. Вместе с тем, композитор не прошел и мимо чувствительной лирики «штюрмерства». Он с благоговением относился к поэзии Ф. Г. Клопштока, но еще более сильным было воздействие на него «Вертера». Совершенно очевидно, что знаменитое «Гейлигенштадтское завещание», обозначившее определенный рубеж в его творчестве и жизни, несет отпечаток «вертеровских» мыслей. В предисловии к роману В. Гёте призывает читателя, испытывающего гнет жизни, черпать утешение в страданиях его героя. Почти та же мысль мелькает в строках письма Л. Бетховена. Встречаются и почти буквальные совпадения, обнаруживаемые при сравнении текстов «Вертера» и «Завещания». «Гейлигенштадское завещание» знаменует завершение «вертеровского» кризиса, после чего в жизни и творчестве Л. Бетховена начинается новый этап, выходящий далеко за пределы «Бури и натиска».
Итак, наиболее очевидное проявление «штюрмерских» черт обнаруживается в ранний период творчества каждого из венских классиков: для И. Гайдна это этап так называемого «романтического кризиса», для В. Моцарта - период до Вены, и в этом свете его 25-я симфония g-moll гораздо ближе к «штюрмерским» образцам, чем симфония № 40; для Л. Бетховена - первый период, согласно периодизации В. фон Ленца. Каждый из них по-своему запечатлел главную тему «штюрмерской» эпохи - появление героя-индивида, впервые ощущающего разрыв с целым и осознающего себя как личность. И все же, несмотря на выявленные прямые или косвенные связи с движением «Бури и натиска», творчество венских классиков, бесспорно, выходит далеко за его пределы и, вобрав все самое ценное из своей эпохи, поднимается до уровня высочайшего универсализма.
К концу 70-х годов и в творчестве Й. Гайдна «бурные» настроения иссякают, уступая место более взвешенным и гармоничным эмоциям. Исследователи по-разному трактуют отход композитора от «штюрмерских» поисков и изменение творческой позиции, но наиболее убедительный ответ на вопрос о причинах внезапной перемены в творчестве И. Гайдна дает, пожалуй, В. Магграф: «Можно обнаружить определенную аналогию между развитием творчества Гайдна и литературы этого периода. Их дорога ведет от брожения «Бури и натиска» к классицистическому обузданию и прояснению стиля. Переход через фазу страстного протеста является предпосылкой для классицизма конца XVIII века, который ищет удовлетворения не в формальном совершенстве, а полноте, широте и глубине отображения человеческого образа, имеющего вневременное значение» [1.78, 9J].
Действительно, развитие немецкой литературы происходило согласно данному сценарию. Во второй половине 1780-х годов в творчестве И. В. Гете и Ф. Шиллера начинается период Веймарского классицизма, бунт чувств, максималистские настроения и индивидуализм уступают место новым философским проблемам и задачам нравственного воспитания, стоящим перед искусством.
По-прежнему актуальным в свете непрекращающихся дискуссий остается и вопрос о соотношении «Бури и натиска» с основополагающими эпохами культуры второй половины XVIII - начала XIX веков - классицизмом и Просвещением, а также ранним романтизмом. Помимо этого движение «Бури и натиска» нередко отождествляется с Великой Французской революцией 1789 года, благодаря проявившейся в резкой форме критике существующих социальных норм и протесту' против княжеского произвола. В отечественной литературе советского периода эта точка зрения доминирует, во всяком случае, тезис о революционном и политическом бунтарстве усиленно педалируется. В последнее время движение «Бури и натиска» рассматривается, прежде всего, как культурная, а не политическая революция. Так, У. Картхаус, анализируя деятельность «штюрмеров», утверждает, что «они определенно не были политически настроенными в сегодняшнем смысле, из простого основания, что, будучи подданными абсолютистского государства не имели информации и опыта, который, возможно, помог бы им стать политическими деятелями. ... Они были воспитаны в евангельском духе и, согласно учению о власти и своей совести, были верны закону, который принимали с послушанием [168, 27]. Причина беспорядков коренится для них не во всей системе, а в произволе отдельных деспотов, виновных в страданиях людей.
У. Картхаус отмечает проявления революционных порывов как раз у тех писателей, кого в силу конкретных жизненных обстоятельств непосредственно коснулись репрессии. Среди них — К. Ф. Д. Шубарт, заточенный по произволу герцога Карла Евгения Вюртембергского в тюрьму;
Ф. Шиллер, бежавший от преследований того же герцога, И. Г. Фосс, внук крепостного крестьянина, и А. Бюргер. Показательно, что Ф. Шиллер, поначалу встретивший Французскую революцию с энтузиазмом, впоследствии высказывал свое резкое неприятие насильственных методов свержения власти. Немаловажным является и тот факт, что благоприятные условия для «Бури и натиска» существовали как раз там; где проявлял себя просвещенный абсолютизм и разные формы покровительства искусству.
В художественном отношении движение «Бури и натиска» стало подлинной революцией. В литературе это выразилось в противостоянии французскому классицизму и его немецкому варианту в лице И К. Готшеда.
Развиваясь рядом и параллельно с классицизмом, «штюрмерство» в литературе выступало не только как его антипод, но и как живительная, перспективная альтернатива, прокладывающая путь к романтизму. Основные расхождения раннеклассицистской и «штюрмерской» парадигм в литературе, можно представить для большей ясности в виде следующей таблицы, принимая во внимание ее неизбежную схематичность и абстрагиро-ванность по отношению к живой художественной практике:
В литературоведении сталкиваются две точки зрения на соотношение «Бури и натиска» с Просвещением. Сторонники первой считают, что «штюрмерство», по сути, является антипросветительским движением, прорывом иррационализма, противопоставившим культу разума руссоистский культ чувства. Другие придерживаются мнения, согласно которому Sturm und Drang не опровергает основополагающих постулатов просветительской идеологии, таких как антропоцентризм, естественно-правовая теория, но заостряет и развивает их в новых условиях, представляя сенсуалистическое крыло внутри самого Просвещения. Г. Заудер предлагает формулировать это как «интенсификацию и проявление внутреннего критицизма Просвещения в радикальных формах» [187, 310]. Более убедительной представляется вторая точка зрения.
В музыке «штюрмерство» развивается в общем русле просветительского классицизма и является его важной составляющей, обогащая его и способствуя интенсивной эволюции. В определенной степени «штюрмерство» образует антиномию по отношению к галантному стилю, о чем более подробно пойдет речь в основных разделах данного исследования, отметим лишь, что нередко в отдельных произведениях они выступают в синтезе, что значительно усложняет их демаркацию.
В известной степени «штюрмерство» является предвестником романтизма, с которым его роднит признание ценнрсти субъекта, интерес к чувствам человека, культ «гения» и индивидуализм, стремление к разрушению устойчивых жанровых и стилистических канонов, проявление внимания к национальным истокам. При этом необходимо учитывать, что тот и другой развиваются в разных исторических и культурных условиях. «Штюрмерство» еще всецело связано с Просвещением, в то время как романтизм зарождается на обломках просветительских идеалов. Не следует забывать, что течение «Бури и натиска» и в литературе, и в музыке не является непосредственным предшественником романтизма с хронологической точки зрения. В литературе «штюрмерский» период заканчивается с наступлением Веймарского классицизма в творчестве И. В. Гете и Ф. Шиллера. В том, что он превзошел в своих достижениях классицизм первой половины XVIII века и стал высшей ступенью в художественном постижении мира, есть заслуга «Бури и натиска».
В музыке «штюрмерские» настроения иссякают с началом XIX века, знаменуя начало зрелого творчества Л. Бетховена, но следы «штюрмерст-ва» обнаруживаются «между строк» и в этот период, прежде всего в герои-ко-драматических сочинениях.
Существуют и иные эволюционные теории. К. Дальхауз склонен трактовать период «Бури и натиска» как явление исключительно романтическое. «Если рассматривать литературу, оглядываясь на общеевропейский контекст, - пишет он, - едва ли будет спорной констатация того, что история романтизма или его предыстория началась примерно в 1770 году (еще с Ж. Ж. Руссо). Аналогия между феноменом «раннего романтизма» в Англии и «Бурей и натиском» в Германии делает очевидным тот факт, что начало его следует искать раньше. ... Не оставляет сомнений тот факт, что по европейским понятиям «Вертер» (1779) и «Фауст» относятся к романтической литературе» [156, 62]. С той же убежденностью и К. Дальхауз констатирует, что фундамент музыкального романтизма-был заложен в XVIII веке. «Несколько предпосылок, - пишет он, - из которых исходил предро-мантизм 1770-х годов можно обнаружить в венском классицизме. В частности, выразительное понятие "оригинальности", которым пользовался Гайдн, осмысление художественного произведения как организма, а не механизма, без которого едва ли возможна интерпретация Моцарта, эстетика возвышенного чувства и богатого воображения» [156, 63].
Наряду с дискуссионными проблемами «штюрмерства», накопившимися в литературе, актуальность данного исследования продиктована и намеченной в последнее время тенденцией к постепенному отказу от центристской картины музыкального искусства второй половины XVIII века, назревшей необходимостью восстановить ее полноту и объективность. В настоящее время извлекаются из небытия забытые и малоизвестные сочинения современников венских классиков, долгое время находившихся в тени. Широкую возможность для изучения этой музыки предоставляют нотные издания, в том числе полное собрание сочинений К. Ф. Э. Баха, немецкоязычные персональные сайты с нотами и звуковыми записями, грандиозные фонды виртуальных библиотек (IMPSL, Musica Viva, Free Scores и др.), делающие общедоступными не только изданные произведения, но также рукописи. Дискография последних лет активно пополняется антологиями музыки сыновей И. С. Баха, К. фон Диттерсдорфа, П. Вра-ницкого, И. Ванхаля, К. фон Ордонеца, А. Рёсслера, композиторов ман-геймской школы и многих других.
Накоплен огромный материал, требующий не только современного исполнительского прочтения, но и серьезного изучения. В этой связи следует выделить такие крупные исследования последних лет как «Классический стиль в музыке XVIII - начала XIX века» Л. Кириллиной, «Сентиментализм в западноевропейской музыке второй половины XVIII века» Ю. Антиповой, «Раннеклассическая музыка: Эстетика. Стилевые особенности, музыкальная форма» О. Шушковой, «Формирование и функционирование тематизма в венской симфонической школе XVIII века (композиторы "второго ранга")» С. Блиновой, «Клавирные сонаты Гайдна. К про-блеме формирования жанра и эволюции стиля» В. Троппа , заново, с современных позиций «прочитывающие» искусство второй половины XVIII века и раскрывающие историческую роль композиторов, находившихся на периферии в прежней центристской картине.
В целом степень изученности проблем «штюрмерства» в литературоведении и музыковедении далеко неодинакова. Так, в литературоведении осмысление проблем «Бури и натиска» началось еще самими его представителями - И. В. Гете, И. Г. Гердером, Г. В. Герстенбергом, Ф. Шилле- 6 В диссертации Троппа содержится внушительная глава, рассматривающая эволюцию клавирной сонаты в творчестве современников Й. Гайдна -=- сыновей И. С. Баха, И. Шо-берта, К. Диттерсдорфа, И. Г. Эккардта, И. Г. Ролле и других. ром, И. Бюргером. Программные манифесты этих авторов являются не только декларацией их идей, но и одновременно обобщением художественного опыта, сопровождавшимся анализом важнейших тенденций в современном искусстве [см. 33, 34, 152, 162, 163].
Понятия «гения», «оригинальности», «характеристичности» и проблема новаторства в искусстве
В философском истолковании понятия «гений» с древнейших времен до XVIII века по-своему отразилась меняющаяся от эпохи к эпохе концепция Человека, определение границ его творческих возможностей. От первоначального объективированного его значения в эпоху античности7 и средневекового понимания, контекстуально связанного с областью демо-нологии, алхимии, - до реабилитации его вновь в эпоху Возрождения лежит громадная смысловая дистанция. Но принципиально новое значение понятия «гений» появляется только в Новое время.
Художники эпохи «Бури и натиска», как уже упоминалось, именовали себя «бурными», или «оригинальными гениями» {Stunner, Originalgenie), вкладывая в эти эпитеты свое представление о творческой личности. Непосредственным предшественником «штюрмеров» в понимании сущности гения является А. Шефтсбери. В его эссе «Солилоквия, или Совет автору»9, впервые со всей очевидностью проявляется тенденция «интериоризации» 10 гения, о чем, в частности, пишет А. Михайлов [93, 143]. Эссе предпослан знаковый эпиграф: «Вне себя самого судьи не ищиты», в свете чего значение слова «гений» благодаря метонимическому переносу приобретает совершенно новый смысл. Теперь под ним подразумевается творческая способность, изначально присущая человеческой душе. Согласно А. Шефтсбери, поэт «созидает форму целого», подобно «верховному художнику» или природе: «Такой поэт - уже второй Творец, подлинный Прометей, ходящий под Юпитером» [137, 365]. Образ Прометея, как и Фауста, станет для «штюрмеров» воплощением индивидуализма, независимости и высшей степени творческой одаренности, то есть тех качеств, которыми будет наделен и сам «бурный гений». Показательно, что впоследствии и у К. Г. Юнга образ Прометея будет олицетворять потенциальные возможности личности, воплощая архетип «самости» (das Selbsi).
Наконец, среди трудов, сыгравших решающую роль в определении сущности «гения», необходимо назвать прозаический трактат Э. Юнга «Размышления об оригинальном творчестве» (1759), в котором он отстаивает право гения на индивидуальный вымысел и противопоставляет художников, подражающих природе, тем, кто следует уже готовым художественным образцам. Мысли Э. Юнга легко привились в Германии благодаря И. Г. Гаманну. В своей «философии чувства и веры» он вслед за Э. Юн-гом обосновал решающую роль религиозной интуиции в формировании «оригинального гения», противопоставив ее холодной рассудочности.
Итак, эпоха «Бури и натиска» получила в наследство уже вполне сформировавшийся «интериоризованый» образ «гения», хотя «гений» как представление-мифологема еще встречается и в этот период. В контексте антропоцентризма «Бури и натиска» гений - это оригинальный творец, обладающий формосозидающим дарованием, дерзновенная личность, возвышающаяся над толпой, сверхчеловек (Ubermensch), как называл своего Фауста И. В. Гете. Широкое влияние в среде «штюрмеров» имели идеи И. Канта о самоценности человеческой личности и «гении». Он рассматривал гения как «прирожденную продуктивную способность художника или ... врожденную способность души (ingenium)» [56, 148]. И. Г. Гердер, в свою очередь, связывал с «бурными гениями» надежды на будущее Германии, утверждая, что степенью силы гениев определяется здоровье нации.
Появление новой теории гения своим побудительным мотивом имело просветительскую идею раскрепощения человеческой личности, заострение индивидуалистической тенденции и признание социально-этической ценности субъективного мира. Эта тенденция приобретает невероятную актуальность в контексте осознания художником своей значимости в условиях его социального статуса. В XVIII веке художник (и особенно музыкант) является всего лишь низшим служителем придворного штата, его место, по словам В. Моцарта, «между камердинерами и поварами», и утверждение личного превосходства хотя бы в области искусства над теми, кто выше художника в социальной иерархии, стало косвенным воплощением просветительской идеи о человеческом равенстве. «Король - повелитель лишь в своей стране, но не в области искусства, художник же - сын, выпестованный небом, принадлежащий миру, как мир ему, и поэтому никто не может им повелевать или подчинять себе», - утверждает К. Ф. Э. Бах [149,181].
«Характеристическое» как инструментальный театр (симфонии Й. Гайдна периода «романтического кризиса»
Непродолжительный период «романтического кризиса» для И. Гайдна отмечен появлением на свет большого количества сочинений, внушительных по объему и впечатляющих по смелости. Большая часть их написана в миноре, что уже само по себе определяет их драматический или меланхолический колорит и резко выделяет на фоне царящей в то время «галантной» музыки. Таковы симфонии № 26 («Lamentatione») и № 34 - обе d-moll; № 39 g-moll, вызывающая ассоциации с двумя «вертеровскими» симфониями Моцарта g-moll (№№ 25 и 40); № 44 («Траурная») e-moll; № 45 («Прощальная») — единственная fis-moll-ная в XVIII веке; № 49 («Страсти») f-moll и № 52 c-moll.
В. В. Тропп относит к периоду «романтического кризиса» и 13 фортепианных сонат (согласно нумерации Р. Лэндона №№ 29 — 41), среди которых две тоже в миноре (№ 32 g-moll и № 33 c-molf), но к ним, очевидно, правомерно отнести и № 19, e-moll. Романтическая порывистость и страстность в этот период обнаруживает себя и в культовой музыке Й. Гайдна, в кантатах «Salve Regina» (g-moll), созданной сразу после перенесенной им тяжелой болезни, и «Stabat Mater», в которой семь номеров из тринадцати написаны в минорных тональностях.
Сочинения этого периода созвучны произведениям литературы «Бури и натиска. Они преисполнены страстной силы и элегической грусти, драматизма и исповедальности, грубоватой простоты и нежности, эффектных контрастов и динамичности. Й. Гайдну словно отказывает чувство самообладания, и он дает выход полярным эмоциям и душевному напряже нию. Как и другие представители музыкального «штюрмерства», Й. Гайдн пишет в новой «выразительной» манере {Ausdrucksstile). Обращает на себя внимание его склонность к передаче тонких и разнообразных эмоций взамен изображения типизированных аффектов. «Всюду в произведениях Гайдна «Бури и натиска», — пишет Н. Дейо, — присутствует эмоциональный перегрев, благодаря типичным выразительным средствам, используемым в этом стиле: минорная тональность, синкопы, экстремальные динамические или тембровые контрасты, тремоло струнных, subitoр или паузы» [157, 7].
К уже перечисленным типовым приметам «штюрмерского» стиля И. Гайдна можно было бы прибавить широкие скачки в мелодии, подчеркнутые длинными нотами, что придает вес. Непременно использование в подобных сочинениях «говорящей» мелодики, постоянной готовности к разрушению равномерных ритмических структур ради достижения яркого эмоционального эффекта. В них, как правило, наблюдается эксцентричность и непредсказуемость гармонического развития, отказ от мотивов короткого дыхания и симметричных построений, характерных для «галантной стилистики».
Из всех симфоний этого периода только одной название дал сам Й. Гайдн — № 26 «Lamentatione» («Оплакивание», или «Плач»)19. В раннем источнике, как указывает В. Уэбстер, она была озаглавлена «Passio et Lamentatio» («Страдания и оплакивание»). Встречаемое в некоторых исследованиях [101; 173] название «Рождественская» явно не соответствует тем мелодическим источникам, к которым обращается Й. Гайдн в этой симфонии. В первых двух частях он использует материал из традиционных немецких Volkspassion (народных Страстей), чем и объясняется ее более точное название. Как подтвердил впоследствии Р. Лэндон, она и создавалась для исполнения в Страстную пятницу в преддверии Пасхальных событий.
Название переводят так же и как «Жалоба», «Стенания» Это одна из самых ранних «штюрмерских» симфоний Й. Гайдна. Время ее создания - 1768 год, начало периода романтического кризиса. В ней, как и в симфонии № 49, за которой закрепилось название «La Pas-sione», вероятно, из-за ее сходства с симфонией № 26 «Lamentatione», Й. Гайдн наиболее близок к барокко, на что обращает внимание цитируемый хоральный источник и «страстная» тематика в симфонии № 26, а также огромная роль полифонии и использование барочных риторических фигур в симфонии № 49.
И. Гайдн трактует религиозную тему в русле рефлексии Просвещения, укорененного в Австрии императором Йозефом II. Обращаясь к «Страстям», он как бы сопоставляет рациональную этику преобразования церкви и иррациональную веру традиционного богословия в духе пиетизма. «Гайдн предпринял попытку "встроить" пост-барочную личность в некие универсальные координаты "Я" - "Бог", "земное" - "небесное". ... Однако в сочинении венского классика это стремление к постижению высшего переводится в "малое", глубоко личное пространство "Я"», - пишет Ю. В. Антипова [10,158].
Топос «говорящего клавира» и новый музыкальный словарь
Во второй половине XVIII века наблюдается симптоматичная переакцентировка в сфере камерно-инструментальных жанров. Как известно, до середины столетия решающая роль здесь принадлежит ансамблевым сонатам (для 3-х, 4-х инструментов) или сонатам для солирующей скрипки, в которых клавишному инструменту поручается партия basso continuo. Лишь единичные произведения (например, шесть скрипичных сонат или три сонаты для виолы да гамба И. С. Баха) предполагают участие клавира в качестве облигатного инструмента. Но уже в 1750-е годы, благодаря развитию и совершенствованию новых клавишных инструментов, скрипичная и клавирная партии начинают сосуществовать на условиях паритета. Эта тенденция нашла отражение в камерно-инструментальных композициях мангеймцев, сыновей И. С. Баха, И. Шоберта. Последний в конечном итоге лишил скрипку облигатного значения. «Названия произведений И. Шоберта и каталоги его сочинений, - как пишет Г. Риман, - свидетельствуют в известном смысле о решительном повороте во взаимоотношении клавира и струнного инструмента, при котором собственно солирующим инструментом становится клавир, а не скрипка» [183, 8]. И. Шоберт часто предписывает ее использование ad libitum, давая понять, что партия клавира вполне самодостаточна.
В 1760-1770-е годы сольная клавирная соната заметно потеснила скрипичную и другие сонаты, и этому в немалой степени способствовало развитие и усовершенствование клавира, которым занимались такие опытные мастера как И. Штайн или Ф. Шпац. Их эксперименты с механикой и регистровкой привели к появлению инструмента, идеально отвечающего современным запросам. Клавир становится непременным членом бюргерской семьи, обязательным атрибутом домашней обстановки и приобретает такую популярность, что пробуждает творческую фантазию не только композиторов, музыкантов-исполнителей, но и писателей.
Частое появление его в качестве «героя» чувствительной литературы превращает клавир в своеобразный loci communes, а его специфические свойства способствуют утверждению топоса «верного» («treu») или «говорящего» («sprechend») клавира. Этот устойчивый художественный образ выходит за рамки литературного клише и, подобно мощной линзе, фокусирует не только важнейшие факторы эволюции инструментария, музыкального языка, но и шире - представления о предназначении музыки и ее роли в жизни человека того времени.
Топос «говорящего клавира», как следует из его обозначения, предполагает скрещивание двух сфер - вербальной и «абсолютной» инструментальной. Как известно, в XVII-XVIII веках происходит процесс постепенной эмансипации инструментальной музыки от вокальной, в ходе которого она осваивает свои специфические способы выражения. Топос «говорящего» клавира не противоречит этой общей тенденции, поскольку отражает процесс формирования совершенно нового субъективного инструментального языка, опирающегося на обычную человеческую речь, а не на оперно-ораториальные прообразы. Эмансипация чувства и постепенное отчуждение «Я», часто ищущего одиночества, способствовали тому, что инструментальная музыка уподобляется прямой речи - «oratio directa», а «говорящий» клавир становится главным проводником лирических эмоций и средством исповедальности. Примечательно, что слово «sprechend» (говорящий) в немецком языке имеет и второе значение - «выразительный», и это еще точней определяет роль инструмента в контексте «штюрмерской» эстетики.
Частое присутствие топоса «говорящего» клавира в литературе второй половины XVIII века - наглядное свидетельство того, как чистая инструментальная музыка наделяется новым содержанием. Переходя от автора к автору, из произведения в произведение, этот топос намечает своеобразную типизацию подобных сюжетных мотивов. Обращает на себя внимание знаковое прилагательное «treu» («верный»), часто сопутствующее клавиру. Своеобразным лейтмотивом подобной литературы становится обращение героя к инструменту с просьбой утешить его в страданиях. Ярким и весьма типичным примером подобного рода может служить фрагмент из романа И. Т. Хермеса «История мисс Фанни Вилькес» (1760-1776):