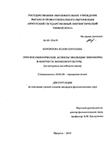Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Восточные мотивы и символы в русском романтизме первой трети XIX в 28
Глава II. Символ звезды в творчестве А. Марлинского в контексте дагестанской и общевосточной фольклорно-литературных традициях 62
Глава III. Символ ладьи в творчестве А. Марлинского в контексте религиозных воззрений и фольклорно-литературных традиций народов Дагестана и Востока 124
Заключение 162
Приложение.
Список использованной литературы
- Восточные мотивы и символы в русском романтизме первой трети XIX в
- Символ звезды в творчестве А. Марлинского в контексте дагестанской и общевосточной фольклорно-литературных традициях
- Символ ладьи в творчестве А. Марлинского в контексте религиозных воззрений и фольклорно-литературных традиций народов Дагестана и Востока
Введение к работе
Кавказ издавна привлекал к себе внимание России своим
геополитическим положением и природными ресурсами. Завоевывая Кавказ, Россия выполняла, прежде всего, двоякую задачу: стратегически продуманно расширяла свои государственные границы и демонстрировала мощь своего оружия. От военных походов на Восток зависела также судьба торговых и караванных путей, от коих в свою очередь находились в зависимости казна и хозяйственное развитие империи.
С эпохи Петра I интерес к Востоку значительно возрос. Знаменитый поход императора, названный Персидским походом 1722 года, преследовал множество целей: завоевание непокорных стран, открытие торгового пути в Закавказье, Иран и т. д., наказание шемахинских "бунтовщиков", Сурхай-хана Кази-Кумухского и других. В этом походе были покорены Тарки, Дербент, Астрабад, Гилян, Баку.
В дальнейшем "почин" Петра Великого был продолжен графом В. А. Зубовым, П. Д. Цициановым и А. П. Ермоловым, которые повторили Кавказские походы.
Во всех этих экспедициях участвовали высокообразованные русские офицеры, представители дворянства, ученые, врачи. В своих дневниковых записях, походных тетрадях они оставили ценные сведения о горном крае; они восхищались его первозданной природой, мужественными людьми, сочувствовали их борьбе за независимость; делали наблюдения этнографического характера, описывали местные обычаи, обряды, ритуалы. Особенное место среди них занимают имена Н. И. Пирогова, С. Г. Гмелина, Е. И. Козубского, Н. И. Воронова, Н. И. Кузнецова, Я. Костенецкого и др. Многие из подобных путевых заметок и наблюдений опубликованы в "Сборнике сведений о кавказских горцах", а также в "Сборнике для описания
местностей и племен Кавказа" и "Актах Кавказской археографической комиссии".
Если у монархов Кавказ вызывал честолюбивые и державно-строительные притязания, то поэтов он привлекал свободолюбивым нравом людей, красочностью пейзажей. Белоснежные вершины гор Кавказа внушали вольнолюбивые мысли А. С. Пушкину, А. А. Бестужеву-Марлинскому, М. Ю. Лермонтову... Теме Кавказа, борьбе горцев за независимость посвящены лучшие произведения этих и многих других русских поэтов. Они обращались в своем творчестве к быту горцев, горским характерам и обычаям. Таким образом происходило взаимовлияние и взаимодействие национальных культур.
В 1947 году В. М. Жирмунский писал: "Научное собирание и изучение фольклора народов Средней Азии только началось и обещает в ближайшем будущем немало литературных открытий (теперь мы располагаем обширным материалом, показывающим научную прозорливость ученого - X. И.). Не менее богатый материал для сравнительного исследования дает фольклор народов Кавказа, творчество которых, исключительно разнообразное и самобытное, развивалось веками на границе "восточного" и "западного" культурно мира"1
Русская словесность стояла тогда на более высокой ступени развития и оказывала прогрессивное, просветительское влияние на горцев. В то же время самобытность горцев, национальный колорит их искусства, произведения устного народного творчества явились питательной средой для русской поэзии. Взаимопроникновения и взаимосвязи национальных культур многолики и многогранны. Они выражаются в разных сферах по-разному.
Так, например, казаки переняли форму одежды горцев - черкеску. Это внешняя сторона. Но они с уважением восприняли и даже в чем-то переняли также горячий нрав горцев, свободолюбивый характер, бескомпромиссность в делах чести и достоинства - это другая, внутренняя сторона взаимовлияния.
Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. - Л., 1979. - С. 65.
Так внешний план диктует форму скрытого, духовного плана, отражая существенные запросы человеческой личности и человеческих сообществ.
Но взаимосвязи, взаимообогащение культур на Кавказе, естественно, не ограничивались этим регионом. В дальнейшем будет показано, что верования и культы древних народов Месопотамии, Египта, стран Передней и Малой Азии тоже влияли на мировоззрение горцев Кавказа. Мифопоэтические образы многих народов отразились в фольклоре горцев. Как показывают исследования, порой они изменены до неузнаваемости, так как были переработаны местной традицией под местные условия. Эти образы и символы, чудом сохранившиеся с незапамятных времен в устном народном творчестве горцев, также производили глубокое впечатление на пытливый ум поэтов-романтиков. В меру этого русский романтизм XIX века оказался еще и в ареале культурных взаимосвязей народов Кавказа и Передней Азии.
Кавказ явился местом ссылки декабристов. "После 14 декабря 1825 г. в разное время на Кавказ было сослано свыше 65 разжалованных офицеров и 3 тыс. рядовых участников декабрьского восстания"1. Здесь в изгнании, вдали от родных мест и людей, они размышляли о своих судьбах и судьбах своей страны. Они сравнивали свободные горские общества с греческой демократией, завидовали близости горцев к природе, искренности и первозданносте их чувств. Но волею судьбы они были заброшены в этот край, чтобы воевать и покорять эти народы.
Хотя присоединение Дагестана к России в целом можно оценить как прогрессивное явление, нельзя оправдать методы и средства, которыми царизм осуществлял колонизацию края, и не случайно то, что многие представители русской интеллигенции выступали против покорения края оружием2. Было
1 История народов Северного Кавказа (конецXVIII в.- 1917г.).-М., 1988.-С. 174.
2 Об этом подробнее см.: Юсуфов Р. Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины
XIX века. - М., 1964. - С. 59-69; История народов Северного Кавказа... - С. 172-180.
противоречивым и отношение декабристов к этому вопросу, которое претерпело значительную эволюцию. "Программа одной из ранних декабристских организаций "Ордена русских рыцарей" ... под влиянием аристократических взглядов Щербатова формировала агрессивную национально-колониальную политику. Н. С. Мордвинов же в 1816 г. выдвигал на первый план "нравственное соединение" России с народами Кавказа и выступал за невоенные методы покорения горских жителей. Вместе с тем он не признавал за горцами политических прав на самостоятельное существование. Конституция Н. Муравьева, "Записка о Государственном правлении" (1817), "Государственный завет" (1823), "Русская правда" П. Пестеля предписывали покорить, например, все народы Кавказа"1. Однако, как отмечает Р. Юсуфов, "тенденция более глубокого понимания характера движения нерусских народов нарастала... В 1824-1825 гг. среди декабристов нарастает сочувствие борьбе горцев Кавказа. При этом обнаруживается известное противоречие. С одной стороны, политические установки П. Пестеля ("Русская правда") требовали слить различные народы России в один народ, с другой - писатели-декабристы в своей художественной практике широко обращались к историческому опыту нерусских народов, подчеркивая общечеловеческое значение их культуры"2.
На этом полном противоречий фоне особенно ярко вырисовывается фигура А. Марлинского, который, хотя и сам прошел на этом пути эволюцию, и в своем творчестве, и в отношении к культуре народов Кавказа, и в конкретных своих поступках, в быту стал другом горцев, их Искандер-беком.
Русские романтики первой трети XIX века, изображая быт и нравы других народов, стремились скорее выразить посредством такого жизнеописания свои общественные идеалы, чем проникнуть в глубины инородного сознания. Жизнь "диких" народов служила своего рода альтернативой феодально-буржуазной действительности. В социальном плане
1 Юсуфов Р. Ф. Русский романтизм начала XIX века и национальные культуры. - М., 1970. - С. 13. 1 Там же.-С. 13-14.
мечты декабристов восходили к традициям русских социальных утопий XVIII века.
Отметим также, что большое влияние на русский романтизм оказали И. Винкельман, И. Гердер и Ф. Шиллер. Они идеализировали быт, климат, природу и свободу древнего мира.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что русский романтизм опирался на мировые литературно-художественные традиции: философско-историческую концепцию Просвещения, идеи социал-утопистов XVIII века, английских (Байрон, Шелли), французских (Шатобриан - "Рене", Гюго -"Восточные стихотворения") и немецких романтиков (Новалис, Тик, Ф. Шлегель). Все это должно быть учтено при определении традиций, влиявших на изображение русскими романтиками быта нерусских народов1.
В 20-е годы XIX века русская литература от условного романтического изображения жизни переходит к раскрытию характеров и жизни самого народа, его чаяний, быта, героики, идеалов. В это время В. А. Жуковский творчески перерабатывает произведения европейских писателей на восточные темы, создает на их основе оригинальные баллады, сказки, обогащая русскую литературу.
До последних десятилетий XX века работ, посвященных конкретно русско-дагестанским литературным взаимосвязям, было мало. Правда, надо отметить, что русско-кавказские литературные связи привлекали внимание еще дореволюционных критиков (В. Белинский, Н. Добролюбов и др.), им посвящен ряд работ, в том числе монографических, и советских авторов (И. Е. Ениколопов, Н. Джусойти, С. Андреев-Кривич, И. Андроников, Л. Семенов, А. Попов, Б. Виноградов и др.), однако в них конкретно дагестанскому материалу внимания почти не уделялось.
1 Вопросы взаимосвязи русского романтизма первой трети XIX века с европейской традицией рассматриваются в работах Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, Б. С. Мейлаха, В. Б. Шкловского, М. П. Алексеева, Б. Эйхенбаума, М. К. Азадовского, Е. Н. Михайловой и др.
Первой из интересных публикаций, посвященных конкретно русско-
дагестанским литературным связям, явилось двухтомное издание "Дагестан в
русской литературе" (Махачкала, 1960; составление, вступительная статья и
< комментарии У. Далгат и Б. Кирдана), куда, в частности, включены и
некоторые произведения А. Марлинского ("Мулла-Hyp", "Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев", отрывок из "Письма к доктору Эрману", "Шах-Гусейн", "Кавказская стена" и "Прощание с Каспием").
У. Б. Далгат является одним из зачинателей, последовательно
разрабатывавших тему русско-дагестанских литературных связей. Начав с
конкретных, "эмпирических" работ (в которых, однако, содержатся не только
огромное количество дагестанских фольклорно-этнографических и
исторических основ ряда произведений русской литературы, их сюжетов,
образов и т. д., но и обобщения)1, в последней своей работе на названную тему
автор эту проблему освещает с позиций современных достижений
филологической науки и исследует стилеобразующую роль инонационального
фольклора в поэтической системе русского романтизма и реализма2. Хотя
произведениям А. Марлинского в работе уделено мало внимания, в ней
имеются интересные для нашего исследования материалы и суждения о
фольклорных основах ряда произведений Марлинского, об их
стилеобразующей роли. "Виды воздействия кавказского фольклора на эстетику
русского романтизма в произведениях на кавказскую тематику были
разнообразными, - пишет У. Б. Далгат. - Мы встречаемся и с цитированием
фольклорных источников в переводе на русский язык, и с пересказом их. Имеет
место и определенная литературно-фольклорная соотнесенность в структуре образов и сюжетных ситуаций. Литературно-фольклорные процессы протекали
Далгат У. Б. Лев Толстой и Дагестан. - Махачкала, 1960; Она же. Фольклор и литература народов Дагестана. — М., 1962.
2 Далгат У. Б. Литература и фольклор: Теоретические аспекты. - М., 1981.
здесь на разных уровнях, захватывая и сюжетно-смысловые, и языково-поэтические сферы"1.
Большой вклад в изучение русско-кавказских литературных взаимосвязей внес Р. Ф. Юсуфов, а в исследовании конкретного дагестанского аспекта этой проблемы с его именем связана новая и наиболее полная страница2. Причем надо подчеркнуть, что Р. Юсуфов основное внимание обращает периоду романтизма и при этом литературные явления вполне оправданно рассматривает на фоне и в контексте истории и культуры. Особо мы хотим отметить его последние обобщающие монографии, в которых дан обстоятельный анализ многих основополагающих проблем данной темы.
Р. Ф. Юсуфов ставит во главу угла место и роль национальной культуры в программе декабристов. "Что такое культура в понимании романтиков?" -спрашивает он и отвечает следующим образом: "Понятие национальной культуры охватывало у них сферу социально-материальной и духовной жизни народа, быт, нравы, жизнь городов, сел, обычаи, "домашнюю философию", как называл их Белинский, искусство и даже природу. Последняя - не сама по себе, а в аспекте ее места и роли в жизни человека, в отношении человека к ней, как тот мир красок, растений, образов и впечатлений, который живет в каждом из нас... Романтики развили теорию просветителей, обосновав идею национальной культуры как исторического явления, в котором находят отражение идеалы общества. Они включили в понятие национальной культуры язык как проявление мировоззрения народа, народно-образное мышление, что широко развернуло рамки их концепции, лишив ее сословно-аристократического характера"3.
1 Там же. - С. 283.
2 Юсуфов Р. Ф. Дагестан и русская литература...; Он же: Русский романтизм начала XIX века...; Он
же: Общность литературного развития народов СССР в дооктябрьский период. - М., 1985.
3 Юсуфов Р. Ф. Русский романтизм... -С. 14-15.
Автор указывает, что романтики не просто изображают картину инобытия, но противопоставляют ее феодальному и буржуазному миру. "Это мир героики и свободы цельного человека", - заключает Юсуфов.
В национальной культуре декабристов прежде всего интересовал общественный идеал. В начале на основе национальной культуры романтики выражали свой собственный идеал, и только спустя время, стали видеть в ней идеал самой национальной культуры. "Говоря об обращении русских романтиков к культурам нерусских народов, мы отмечаем аналогичные явления в литературах Западной Европы, - продолжает автор монографии. -Произведения русских романтиков из национального мира России следует рассматривать в общеевропейском контексте романтизма... Их картины дополняют открытия европейских романтиков. Стало быть, многие стороны общей концепции европейского романтизма уясняются и развиваются в творчестве русских романтиков. Образы русских романтиков выражали часть большой социальной правды о мире, раздвигали горизонты социального и исторического мышления поэзии... В отдельных мотивах и образах русских романтиков находят яркое выражение идеи раннего утопического социализма начала XIX века"1.
Обычно теорию национального искусства у декабристов сводят к двум положениям: гражданская национально-историческая тема и национальный колорит. Русские просветители и французские энциклопедисты впервые выдвинули понятие типа национальной культуры и ее характера. Учитывались при этом географическая и социальная среда. Переняв идеи русских мыслителей и идеи "народного духа" ранних немецких романтиков, декабристы пересмотрели теоретические воззрения рационализма и при этом обратились к новым данным историографии и других наук. На смену рационализму просветителей пришла романтическая теория национальной культуры, которая
'Там же.-С. 16-17.
в противовес схематичности первого глубже и полнее учитывала взаимоотношения среды и человека.
Перед ними встала и проблема национальной самобытности. По мысли Пушкина, Россия призвана была освоить культурные ценности Европы и Азии. Декабристы ставили задачу освоить опыт Запада и Востока. Кюхельбекер писал: "При основательных познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей, Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии: Фердоуси, Гафиз, Джами ждут русских читателей"1.
Отмечая, что М. К. Азадовский, В. Г. Базанов, Н. Л. Степанов и другие советские исследователи убедительно показали тесную близость фольклоризма декабристов и проблемы национальной культуры, Р. Ф. Юсуфов пишет: "Пониманию национальной самобытности как воспроизведения национального характера, воссоздания в литературе бытия народов предусматривало использование таких элементов его культуры, как народная поэзия и язык"2. Интересно еще такое высказывание Р. Ф. Юсуфова: "А. Бестужев, С. Сомов, высоко оценивая эпос, полно выражающий цельность человека, живущего в согласии с миром вещей, природой и самим собой, призывали литературу обратиться к поверьям народа, преданиям, мифам, устным сказаниям о богатырях. Программа использования фольклора в литературе у декабристов, включая поэзию всех народов, наряду с поэзией славян и Скандинавии предусматривала использование народной поэзии русского Востока, "племен, верующих в Магомета"3. Заслуживает внимания и другая мысль, развитая в монографии: "Национальное начало в концепции Бестужева олицетворяют произведения Кантемира, Ломоносова, Фонвизина, Державина, а уяснение европейского литературного опыта - Карамзин, Жуковский, Вяземский,
2 Юсуфов Р. Ф. Русский романтизм... - С. 30.
3 Там же.-С. 31.
Баратынский, Рылеев, Пушкин. Концепция А. Бестужева не оставляла места для "подражания". В оценке соотношения подражания и самобытности у декабристов был и элемент диалектический. Так, если Сумароков - образец внешнего подражания, то Жуковский являет собой тип творческого освоения"1.
Особое место в творчестве романтиков занимает также вопрос историзма. По мнению Р. Ф. Юсуфова, "выявление роли самих национальных культур в процессе роста русского исторического сознания - задача литературоведов, философов и историков", но литературоведов "интересует более частный вопрос: анализ художественных образов в творчестве романтиков в аспекте разрабатываемых русской литературой и общественной мыслью идей историзма"2.
В художественной публицистике поэтов-декабристов "история все более осмысливалась как результат действия отдельных лиц, на которых в силу тех или иных обстоятельств ложится ее отблеск. Личность становилась центром пересечения различных социальных и исторических сил. Одновременно на арену истории выходил народ. Открывалась связь времен. Корни настоящего уходили в прошлое. Смыслом человеческой истории становилось конечное торжество гуманизма и справедливости, а литература исследовала человеческое содержание истории"3.
Говоря о проблеме человека в творчестве романтиков, Юсуфов обращается к творчеству Лермонтова и Бестужева-Марлинского. "Через всю повесть "Аммалат-бек" проходит образ вольного и героического Дагестана, -пишет он. - И этой своей стороной повесть обращена к современности. Образ Дагестана звал к борьбе против реакции, против торжества пошлости, эгоизма, себялюбия, обыденщины, звал к сопротивлению, к подвигу, героичности"4.
1 Там же. - С. 49.
2 Там же. - С. 200.
3 Там же.-208.
4 Там же. - 367.
"Воссоздавая в образах и картинах культуры других народов, русская литература XIX века перерабатывала для своего народа опыт других, осваивала их мораль и этику"1, - пишет в заключение своей монографии Р. Ф. Юсуфов.
Значительный вклад в изучение русско-дагестанских литературных связей внес также Г. Г. Ханмурзаев, который, в частности, достаточно подробно исследовал проблему романтического героя в творчестве А. Марлинского2.
Таким образом, анализ восточных, в частности, кавказских мотивов в русском романтизме первой трети XIX века наглядно показывает, что обращение русских поэтов того времени к Востоку было не случайным явлением, что оно обуславливалось прежде всего историческими, художественными потребностями литературного, идейно-философского, социального развития самой России, ее культуры, сложилась в достаточно стройную концепцию; это обращение к Востоку подпитывалось и искренней любовью, сочувствием к борьбе за свободу самых разных народов, что всегда было присуще передовым деятелям России, и прежде всего - писателям, поэтам, художникам.
Для аргументации многих наших выводов и заключений необходимо определить конкретные пути, источники, через которых А. Бестужев-Марлинский получил сведения о Дагестане, насколько эти сведения были значимы, достоверны, обширны - без всего этого многие наши доводы могут как бы повиснуть в воздухе. В этом плане сделана значительная работа, о чем мы уже говорили; опираясь на существующую литературу, а также на ряд наших наблюдений и выводов, вкратце осветим поставленную выше проблему.
А. Бестужев-Марлинский относится к числу наиболее хорошо знавших Кавказ, в частности Дагестан, русских писателей, и в этом основную роль, разумеется, сыграло его длительное пребывание в этих краях, его личное участие во многих событиях на Кавказе. Здесь он был более 7 лет, с 1830 по
' Там же. - 406.
1 Ханмурзаев Г. Г. Русские писатели XIX в. о Дагестане. - Махачкала, 1988.
1834 год — в Дербенте. Здесь были созданы лучшие его произведения: "Лейтенант Белозер", "Страшное гадание", "Фрегат "Надежда", "Латник" и др., повести на дагестанскую тему - "Аммалат-бек" и "Мулла-Hyp". Это была самая плодотворная пора в жизни А. Марлинского.
Однако пребывания в том или другом иноэтническом краю и даже активного собственного участия в событиях, происходивших там, - всего этого далеко не достаточно для глубокого осмысления событий, для "узнавания" народов края, их истории, нравов, быта и т. п. - важно еще иметь возможность непосредственно общаться с местным населением. Этой возможностью А. Марлинский вполне располагал, и осуществлялось общение посредством так называемого "татарского языка", под которым в Южном Дагестане, как сейчас установлено исследователями, необходимо иметь в виду азербайджанский язык, а в Северном Дагестане и Чечне - кумыкский.
До XX века русский язык не имел в Дагестане особо значимого распространения; арабский язык был языком науки, религии, т. е. в той или иной степени им владели алимы-ученые, представители духовенства; вместе с тем, в таком многонациональном регионе, как Северный Кавказ и Дагестан, естественно, нужен был язык межэтнического общения, и в силу целого ряда обстоятельств (освещение их не входит в нашу задачу) таким языком стал "татарский". Например, в письме к С. Раевскому в 1837 году М. Лермонтов писал: "Начал учиться "по-татарски", язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе..."1. Еще до него сам А. Бестужев тоже отмечал такую функцию "татарского языка".
0 достаточно хорошем владении А. Бестужевым "татарским языком" уже
неоднократно писалось в исследованиях, об этом свидетельствуют и сам он, и
его современники, и, в частности, огромное количество азербайджанских и
кумыкских слов, выражений, фольклорных текстов, использованных в его
1 Лермонтов М. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. - М., 1965. - С. 411.
произведениях (а зачастую и переведенных писателем). Приведем лишь некоторые из них: из "Мулла-Нура" - "Чах даты, чакмак даты, Аллах версын ягышы!" - "Кремешки, камешки, дай бог вам дождя, умыться!" (припев), " Эмюрюм-башы гптти, яры, сен-сюс" — "Без тебя, милая, вянет весна моей жизни" (из песни), "Янан ерден, чихар тютюн" - "С места, где горит, всегда дым поднимается" (пословица), "Бош зат" — " Пустая вещь" и мн. др.; из "Аммалат-бека" - "Игид" - "Удалец", "Хош гяльды" - "Милости просим"; "Яхшимусен, тазамусен, сен немамусен?" - "Как живешь-можешь?", "Не хабар?"'- "Что нового?" и т. д.
Более того, Бестужев-Марлинский дает разъяснения даже таким тонким языковым явлениям, как многозначность лексем, как "обыгрывание" слов, своеобразная "игра" словами, что свидетельствует о прекрасном владении им "татарским" языком. Так, в "Аммалат-беке" Султан-Ахмет-хан, попрекая князя в верности России, говорит: "... Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем другой рвет золотые цветы из твоего сада", и, комментируя эти слова, автор пишет: "Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль - поллар, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль - червонец".
В "Мулла-Hype", когда речь зашла о девушке на выданье Кичкене, Искендер-бек, усмехаясь, спросил: "Так ее до сих пор зовут Кичкене?" Автор комментирует: "Кичкене значит малютка. Искендер-бек играет здесь словами". Там же А. Марлинский пишет: "аджах - наш очаг, пепелище, камин (atre); в переносном смысле: семья, род, племя...".
Интересно, что многим словам и выражениям Марлинский дает даже этимологическое объяснение, зачастую не опровергаемое и ныне (боевой клич "ура!", слова "караул", "уздень", выражение "пью клятву", т. е. присягаю, и др.); порою, он не упускает и возможности поиронизировать над действительно того заслуживающими "этимологиями", например: "Очень недавно случилось мне прочесть чудесное толкование на татарское слово киса, кошелек, занятое нами
у монгольских татар, а татарами у персиян, а персиянами у аравитян. "Кошельки, - говорит господин этимолог, - делались в старину (???) из кошек (не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного кисочка произошло киса". Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил однако ж, от чего происходит библейское слово кошница? Неужели хлеб и рыб носили иудеи в кошачьих шкурках? А кошель, кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном корне. Все они родились от старинного кош, корзина" ("Мулла-Нур").
Заметим здесь также, что, судя по многочисленным комментариям к произведениям, А. Бестужев-Марлинский хорошо разбирался в арабо-мусульманской терминологии, в Коране. (Это особенно значимо для нашего исследования).
Другим важным источником, из которого А. Бестужев-Марлинский черпал сведения о Кавказе, о Дагестане, несомненно, была научная литература. Как высокообразованный человек он еще в докавказский период своей жизни уже имел опыт пытливого обращения к жизни и быту различных народов.
Слова И. С. Брагинского о новом, более углубленном, восприятии А. С. Пушкиным Востока после 20-х годов XIX в. и его причинах, истоках, очевидно, во многом можно отнести и к А. Марлинскому: "Истоками нового восприятия культуры Востока послужили наблюдения в годы южной ссылки, повышенный интерес к фольклору и литературам Востока, философское осмысление народных судеб, судеб человечества. Сказалось, видимо, и развитие востоковедения в России: в 1818 г. был основан Азиатский музей Академии наук и началась научная деятельность академика X. Френа и преподавательская — А. Болдырева в Москве и О. Сенковского в Петербурге. Рост интереса к восточной культуре отразился в многочисленных переводах и вольных переложениях восточных художественных произведений в периодической печати первой четверти XIX в., особенно в ежемесячном журнале "Азиатский вестник" (1825-1827). Журнал этот был "загроможден
арабскими пословицами и нравоучительными изречениями восточных писателей". Пушкин читает "Коран" в переводе Веревкина. Он требует у Л. С. Пушкина: "Библию, библию! и французскую непременно "... Когда Пушкин обращался к библейским и кораническим образам и сюжетам, он угадывал в них своеобразную восточную поэзию и поэтику..."1. Учитывая все возрастающий интерес в XIX в. к Кавказу, в частности у декабристов, то естественно говорит об интересе к этому краю и у Марлинского.
Уже будучи на Кавказе, А. Марлинский ознакомился с достаточно популярной даже в те годы хроникой Мухаммеда Аваби из Акташа "Тарихи Дербент-наме", хотя не давал ей особо высокой оценки: "Дербент-наме -повествование о Дербенте, смесь нелепых басен с историческими истинами: полупоэма, полусказка, очень старинная и весьма уважаемая" ("Мулла-Hyp"). В "Кавказской стене" он замечает: "... Если вы охотники чихать от пыли старинных рукописей и корпеть над грудами ненужных книг, то советую вам выучиться по-татарски и пробежать Дербент-наме; вспомнить латынь, и прочесть de тиго Caucaseo Баера; заглянуть в Гмелина; пожалеть, что Клапрот ничего не писал об этом, и вдвое пожалеть, что шевалье Гамба написал о том чепуху - наконец сличить еще дюжину авторов, которых я забыл или не знаю, но которые знали и упоминали о Кавказской стене и потом, основываясь на неоспоримых доказательствах, сознаться, что время построения этой стены неизвестно.. ".
В произведениях, особенно в авторских комментариях А. Бестужева-Марлинского мы действительно находим много фактов, свидетельствующих о том, что он достаточно хорошо знал историю Дагестана (разумеется, в рамках накопленных к тому времени знаний).
Итак, В. Г. Базанов вполне имел основания утверждать следующее: "Бестужев - знаток Кавказа. Он через фольклор, через этнографию стремился
1 Брагинский И. С. Проблемы востоковедения. - М., 1984. - С. 318.
понять истинную физиономию народа, его потребности, его живую историю. Бестужев не просто писатель-этнограф: он писатель с политической программой, рассматривающий быт и этнографию Кавказа в свете общих идей декабризма"1.
Цель и задачи нашей работы - монографическое исследование довольно широкого круга проблем:
охарактеризовать связи А. А. Бестужева-Марлинского с Дагестаном, в особенности с художественным наследием народов Дагестана;
рассмотреть эти проблемы на фоне развития русского романтизма, аг также духовного творчества и социально-политических событий в Дагестане в первой половине XIX в.;
исследовать данные вопросы в контексте культур Кавказа (Востока) и России (в основном - Запада);
проследить конкретное проявление отмеченных взаимосвязей в некоторых типичных символах;
показать основные пути эволюции этого комплекса явлений.
Такой широкий круг проблем, по нашему мнению, лишь на первый взгляд может показаться слишком обширным и, возможно, даже "не сводимым" воедино в рамках кандидатской диссертации. Однако все названные выше проблемы системно взаимосвязаны, взаимообусловлены, говоря иными словами, сам материал и задачи его научного изучения диктуют, на наш взгляд, именно такой подход к исследуемой нами теме.
Современная наука выработала достаточно обоснованные и эффективные принципы, методологию исследования подобных проблем, на которые мы и опираемся.
Исходя из того, что в объект нашего исследования привлечены не только литературный и фольклорный материалы, но, в меру необходимости и наших
1 Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. - М., 1953. - С. 491-492.
возможностей, также данные мифологии, религии, этнографии, истории, языка и др., мы, прежде всего, стремились использовать принципы комплексного и системного исследования.
"Сложность, многомерность общественных явлений, — пишет Д. Марков, - требуют к себе многопланового подхода... Мысль ученого стремится к возможно более широким выводам, не ограничиваясь, скажем, историческим опытом только одной страны. Ученые соотносят явления данной страны со сходными и в то же время различными явлениями в других странах. А задача целостного изучения хотя бы определенного периода истории того или иного народа (и его экономики, и культуры и т. д.) неизбежно приводит к комплексности научного анализа - она вызывается комплексностью самих исторических реальностей. Другими словами, комплексность преследует цель установить и объяснить системную связь и взаимодействие элементов в изучаемых явлениях"1.
Говоря о взаимосвязях литературоведения с другими науками, А. С. Бушмин отмечает: "Обмен идеями и методами между науками происходил всегда", но подчеркивает, что "в настоящее время этот процесс характеризуется расширением масштабов, убыстрением темпа и приобретает все более важное значение...
Дальнейшая дифференциация знания создает лучшие предпосылки для более совершенной, более органичной и для более, так сказать, плотной интеграции. Резкие границы между науками стираются, становятся более тонкими и гибкими..."2.
С системным анализом тесно связаны сравнительно-исторический и типологический методы. Литературоведением и фольклористикой здесь накоплен огромный опыт (А. Н. Веселовский, В. М. Жирмунский,
1 Марков Д. Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных науках. -
М., 1983.-С. 38.
2 Бушмин А. С. Наука о литературе. - М., 1980. - С. 73.
Н. И. Конрад, Д. С. Лихачев, И. С. Брагинский, В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов, Е. М. Мелетинский, В. М. Гацак и др.).
Как справедливо пишет Д. Ф. Марков, принципиально важно "ясно видеть, что сравнительные исследования исторического или культурного процесса включают два аспекта - изучение непосредственных (контактных) связей и влияний, с одной стороны, и типологических явлений, с другой. Иногда эти два аспекта, на мой взгляд, ошибочно противопоставляются друг другу: одни ученые относят к сравнительным исследованиям только первый аспект, выводя за их пределы второй, другие — наоборот..." Далее автор заключает: "Мне кажется несомненным, что оба указанных аспекта немыслимы вне сравнительно- исторических исследований"1, и мы вполне соглашаемся с ним, т. е. привлекаем и типологические схождения и контактные связи, при этом имея в виду и то, что в художественных произведениях не всегда удается провести между ними уверенную дифференциацию.
Мы отдаем себе отчет в том, что сопоставление дагестанской литературы, тем более различных течений, направлений в ней, общественно-политических ситуаций с аналогичными явлениями в русской и западноевропейской культурах и истории достаточно рискованно и на первый взгляд даже может показаться несостоятельным, некорректным. Однако углубление в дагестанский материал, который лишь в последние годы стал располагать достаточно обширными фактами и возможностями привлечения в круг исследования их в полном объеме (без выключения, в частности, духовной литературы), а также использование сравнительно-исторического и историко-типологического методов, принципов научного анализа с обращением к исследуемому художественному материалу как к "части" общей духовной системы, позволили нам, на наш взгляд, обнаружить и типологические схождения и, не исключено,
1 Марков Д. Ф. Указ. раб. - С. 12.
непосредственные взаимосвязи, взаимовлияния, казалось бы, в столь непохожих и даже чуждых друг другу регионах и зонах Европы.
Порою может показаться, что мы излишне увлекаемся древностью,
чф которая вроде бы не имеет какого-либо существенного значения для нашей
темы. Однако и на это мы идем осознанно и, выражаясь кратко, исходя из следующего: а) истоки многих символов, мотивов, сюжетов и т. п. лежат в общем для Востока и Запада библейско-кораническом пласте культуры1; б) домонотеистические (языческие) представления этносов Востока и Запада, во всяком случае на стыке Евразии, куда относятся Кавказ и юг России, их культуры с древних времен были не только типологически очень близки, но и
связаны непосредственными контактами, т. е. они относились к одному, пусть и не совсем однородному, но достаточно очерченному однотипному зональному типу культуры; в) русский романтизм стремился художественно "освоить" культуры других народов, в особенности Востока, составной и наиболее притягательной для русских писателей частью которого всегда являлся Кавказ.
При русско-дагестанских сопоставлениях, "сближениях" явлений мы
исходили также из положения о стадиальности в развитии культур, о
прохождении ими при эволюции одинаковых или сходных этапов, ступеней,
уровней, хотя это зачастую происходит хронологически в довольно отдаленные
периоды - в разные десятилетия, а то и века (достаточно назвать работу акад.
Н. И. Конрада "Запад и Восток" - М., 1972). На определенных этапах истории
были такие совпадения, сближения также русской и дагестанской культур. Для
ф нашей темы особый интерес представляет конец XVIII - начало XIX веков.
Вяч. Вс. Иванов писал: "Восток в поэзии Запада - тема духовная прежде всего. Это нисколько не
отрицает значение сопоставлений поэтических форм, которые Западом уже начиная с античных истоков новой
европейской литературы заимствовались из поэзии Востока-она несколькими тысячелетиями старше западной
и непрестанно влияла на последнюю. Сами эти формальные сходства определились более глубинным током
мыслей, настроений, образов, шедшим из очагов ранней восточно-средиземноморской культуры - духовной
колыбели человечества". (Темы и стили Востока в поэзии Запада // Восточные мотивы: Стихотворения и
поэмы. - M., 1985. - С. 43(М31). '
Чтобы проиллюстрировать наличие таких сближений в русской и дагестанской литературах отмеченного периода, приведем цитаты из двух солидных изданий.
В "Истории всемирной литературы" написано: "К началу второго десятилетия романтизм занимает ключевое место в динамике литературных направлений в России, обнаруживая более или менее полно свое национальное своеобразие. Чрезвычайно рискованно сводить это своеобразие к какой-либо черте или даже сумме черт; перед нами скорее направление процесса, а также его темп, его форсированность (в цитатах из этих двух изданий слова подчеркнуты нами - X. И.) - если сравнить русский романтизм со старшими "романтизмами" европейских литератур.
Эту форсированность мы уже наблюдали на предыстории русского романтизма - в последнее десятилетие XVIII в. - в первые годы XIX в.. когда происходило необычайно тесное переплетение преромантических и сентиментальных тенденций с тенденциями классицизма. Переоценка разума, гипертрофия чувствительности, культ природы и естественного человека, элегический меланхолизм и эпикуреизм сочетались с моментами систематизма и рациональности, особенно проявлявшиеся в сфере поэтики. Упорядочивались стили и жанры ... шла борьба с излишней метафоричностью и витиеватостью речи ради ее "гармонической" точности...
Убыстренность развития наложила свою печать и на более зрелую стадию русского романтизма...
Русскому романтизму знакомы обе стадии процесса (эволюции романтизма в Западной Европе - X. И.) - и начальная и конечная; однако при этом он форсировал движение..."1.
Теперь обратимся к новой книге академика Г. Г. Гамзатова "Дагестанский феномен Возрождения", где он, в частности пишет: "... Начало складывания общероссийской региональной общности и "вписывания" дагестанской зоны в
История всемирной литературы, в девяти томах. Т. 6. - М., 1989. — С. 306.
эту общность хронологически относится к рубежу XVIII-XIX вв.. который, как
известно, принято считать началом Нового времени в мировом развитии. Этим
же рубежом отмечено и складывание мировой литературы, на карте которой
& наблюдаются крупные изменения, затронувшие как традиционные общности
регионального литературного развития, так и "литературы, находящиеся в процессе своего становления" (И. Г. Неупокоева). Последнее касается, в частности, литературы народов Дагестана...
... На арену выступала прогрессирующая Россия, куда в недалеком будущем переместится международный центр освободительного движения - в этих условиях историческая справедливость стояла на стороне русского демократического "вторжения" в Дагестан и в другие зоны ... На смену прежним, слабым, случайным и хаотичным контактам опосредованного типа теперь наметились непосредственные, устойчивые, плодотворные связи с Россией, Европой, Западом"1.
Далее исследователь пишет: "Многослойной была в Дагестане литературная жизнь, своеобразен художественный синтез, причудливое сплетение различных стадий и уровней в общем потоке, и обусловлено это было ускоренным типом социально-культурного развития Дагестана в данную эпоху... Тут присутствовали элементы многих направлений, вылившиеся к Новому времени в просветительскую струю, романтическое течение. реалистическую стадию..."2.
Таким образом, в русской и дагестанской литературах можно обнаружить
:4 и много общего, при этом, если на рубеже XVIII-XIX вв. Россия как бы
"догоняла" Европу, то Дагестан - Россию, а через нее - и Европу.
Эти сопоставительные данные из русской и дагестанской культуры XVIII - первой половины XIX вв., думается, вполне отвечают положениям
1 Гамзатов Г. Г. Дагестанский феномен Возрождения. - Махачкала, 2000. - С. 94.
2 Там же.-С. 99-100.
акад. А. Н. Веселовского ("встречные течения") и В. М. Жирмунского, который, в частности, писал: "Всякое влияние исторически закономерно и социально обусловлено: для того, чтобы оно стало возможным, необходимо, чтобы аналогичные более или менее оформленные тенденции (идеи и настроения, темы и образы) уже наличествовали в данной стране, у идеологов данного общественного класса" . Несмотря на отмеченные выше особенности в развитии культур, "Русская литература... на рубеже XVIII-XIX вв. вступает во взаимодействие с литературами народов, переживающих переходный этап от феодализма к капитализму...; она вступает во взаимодействие и с художественным творчеством так называемых малых народов, у которых чрезвычайно богатая героическая поэзия и романтическая лирика и все же не дали синтеза жанров прозы и драматургии, а поэтика литературного художественного творчества еще близка к фольклорной традиционности. Русская литература обращается к поэтическому творчеству этих народов..."2.
Приступая к исследованию творчества поэтов-романтиков XIX века применительно к кавказской теме, автор диссертации, как отмечалось, ставил своей задачей рассмотреть некоторые характерные символы в русской поэзии, возможно, заимствованные из местной горской традиции, но при этом основной упор делался на типологические схождения, совпадения, на своего рода параллелизм, аналогичность явлений. Глубокие, сокровенные духовные символы всегда многозначны. И потому одни и те же символы оказались, в частности, "способными" выразить и идеалы декабристов, и чаяния о лучшей доле в мифопоэтическом сознании горцев.
Одни и те же предметы нами как бы рассмотрены под разными углами зрения, в разных ракурсах; тем самым расширяется их горизонт.
В изученных автором трудах о русском романтизме уделено много внимания его германским, французским корням, байроновскому влиянию, но
1 Жирмунский В. M. Сравнительное литературоведение.... -С. 21.
2 Юсуфов Р. Ф. Русский романтизм... - С. 6.
мало исследована возможность здесь и кавказских корней, истоков. В особенности это касается творчества А. А. Бестужева-Марлинского — поры его кавказской ссылки. Выбранный автором подход к решению поставленной задачи в значительной мере определяет методологию работы, которая обогащает и расширяет уже установившийся взгляд на романтизм первой трети XIX века. Как способ исследования применяется сопоставление фольклорных символов разных народов, их анализ, установление общности и основных элементов и выявление этой общности в метафорах и образах поэтов-романтиков. В раскрытии глубинного смысла символов у поэтов-романтиков через выделение их кавказских аналогий, возможно, восходящих к общему ритуально-мифологическому арсеналу, архетипу, состоит научная новизна данного исследования.
Множество символов у романтиков XIX века строится на основе устного народного творчества (символы, производные от мифов, сказок, легенд). Многие из таких поэтических символов стали привычными с давних пор. (Например, кто не слышал такие выражения, слова-символы, как "звезда небес", "ладья скользящая", "престолы вечного Аллы", "чаша Джамшида", "чаша Грааля", "Череп", "Кубок", "Кравчий", "Виночерпий", "Вакх"?).
Отдавая дань успехам литературоведения в изучении кавказской темы у русских романтиков, все же следует отметить, что слабо освещены символы, определившие своеобразие образного поэтического мышления, не выделены кавказские аналогии, а возможно, и корни многих образов в поэзии А. С. Пушкина, А. А. Бестужева-Марлинского, Д. П. Ознобишина, М. Ю. Лермонтова. Поэтому автор ставит своей целью и задачей раскрыть аналогии или связи поэтических образов звезды, символов ладьи и некоторых других в творчестве поэтов-романтиков с фольклорными и религиозными образами народов Кавказа.
Выявление типологических и контактных схождений и связей культур и литературных традиций являет собой, как отмечалось, новизну в освещении
проблемы. Если раньше больше внимания уделялось внешним атрибутам Кавказа (кинжал, бурка, папаха, сабля, мундштук, бешмет, черкеска), характеру горца (братанье по крови, удаль, джигитовка), то нами предпринимается попытка заглянуть как бы внутрь народного сознания, осветить потаенную сокровенно-духовную сторону, уловить сложную систему символических образов, созданных горцами. Следует как бы взглянуть на вещь внутренним взором и, где не хватает аргументации и научных, строго выдержанных фактов, постараться "прочувствовать" неувядающую магическую силу символа. Ведь символы не молчат. Они как бы застыли на саклях, на надгробиях, на минбарах, в кладке стен мечетей и домов, но они рассказывают, нашептывают ... Только надо внимательнее прислушаться и понять их, вжиться в мир символа, проникнуть в его сущность.
Итак, данная работа прежде всего преследует цель определенного теоретического углубления существующих представлений о роли и месте А. Бестужева в художественном отражении Дагестана, в творческом использовании им духовного наследия народов Дагестана для развития концепции русских писателей-романтиков по национальным культурам. Положения и выводы диссертации могут быть использованы также в преподавательской практике в вузах и школах республики при изучении курса русской литературы и в краеведческой работе. Вопросы взаимоотношений народов Дагестана и русских всегда были достаточно актуальны, однако приходится констатировать, что в связи с событиями последних лет на Северном Кавказе они приобрели особую актуальность. Научно обоснованный и наглядный показ того, с каким глубоким уважением и искренней любовью относились к горцам передовые представители русской интеллигенции (и, прежде всего, пожалуй, писатели), а также исконно народного отношения в регионе к России может внести свой позитивный вклад и в решение межнациональных взаимоотношений. В этом отношении в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым и Толстым должен быть поставлен и Марлинский.
В "Письмах из Дагестана" он писал: "Я слышал... воинственные песни аварцев, я наблюдал нравы горцев", "О, люблю я горы!", "Меня любят очень татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком". Об этом свидетельствует и очевидец, ссыльный Я. Костенецкий: "Когда Бестужев покидал Дербент, все городское население провожало его верхом и пешком верст за двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя по пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы, музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искандер-Беку"1.
1 См.: Трунов Д. Дорога к свету. - Махачкала, 1962. - С.177-178.
Восточные мотивы и символы в русском романтизме первой трети XIX в
Взаимоотношения и взаимосвязи народов Северного Кавказа и России имеют давнюю историю. Однако надо отметить, что ранний ее период исследован далеко не достаточно, хотя осмысление историко-культурных взаимовлияний этих регионов в раннее средневековье может оказаться достаточно важным и для более поздних эпох, создавая некую преемственность процесса.
Наиболее ранние сведения о дагестанско-русских взаимосвязях обрывочны, нередко основаны на преданиях и предположениях, но тем не менее для нас они представляют определенный интерес.
Крупный дагестанский историк Р. М. Магомедов пишет: "В X веке много судов древних руссов плавало в Каспийском море. Руссы предпринимали походы и сушей, со стороны Северного Кавказа... Когда руссы подошли к Дагестану, дагестанцы присоединились к ним и выступили в поход как их союзники...". И далее: "В X веке в Дербенте было много русских торговых людей. Воины руссов составляли лучшую гвардию дербентского эмира... В 1175 году в битве близ Баку принял участие русский флот из 70 кораблей, находившихся на службе у эмира Дербентского". Эту картину дополняет восточный летописец Мухамед Рафи, упоминая о совместном выступлении дагестанцев и русских против арабских завоевателей, а также автор XIX века А. Руновский: "На одном из пунктов западного побережья Каспийского моря отряду аббасидов, следовавшему по Кумыкской области на север, готовилась встреча с несметным множеством язычников, собравшихся сюда из разных стран света, в том числе и из России..." Здесь же Р. Магомедов цитирует акад. Гюльденштедта: "Лезгины (дагестанцы - X. И.) никакой нации не оказывают столько снисхождения, как россиянам"1.
Следующим этапом взаимосвязей народов Северного Кавказа и России является время заселения региона русскими казаками, истоки которого начинается, возможно, с послехазарского периода. Здесь, думается, нет необходимости приводить достаточно известные факты, свидетельствующие о том, что казаки региона испытали большое влияние местных народов в материальной и духовной культуре и нередко даже в этногенетическом отношении2.
О продолжении достаточно интенсивных контактов Северного Кавказа и Дагестана с Россией в XVI-XVIII вв. говорят торговые, политические и культурные взаимосвязи3, посещение края русскими путешественниками и учеными (А. Никитин, Р. Биркин, Ф. Котов, А. А. Суханов, И. Гербер, Я. Маркович и др.)4 и даже определенное участие дагестанцев в крестьянских войнах под руководством И. Болотникова и С. Разина5. Однако надо отметить, что в этот период усиливаются экспансионистские действия России, которые в целом, естественно, не лучшим образом сказываются на взаимоотношениях народов. И все же XVII в. можно охарактеризовать как период пусть не единовременного, не всегда мирного, но довольно интенсивного вхождения дагестанских владений (особенно равнинных и предгорных) в состав России6. Наиболее значительным актом в этом направлении был так называемый Персидский поход Петра І в 1722 г., во время которого император побывал на Сулаке, в Тарках у шамхала Адиль-Гирея Тарковского и в Дербенте, где ему были вручены ключи от города. Этот поход завершился трактатом, согласно которому за Россией были признаны Дагестан, Дербентское, Кубинское и Бакинское ханства1. На равнине продолжалось интенсивное застройство русских крепостей, городков и городов (Терский городок, Кизляр, Моздок и др.), последние становились активными проводниками российского и европейского экономического и культурного влияния на Кавказе. "Важное значение для торговли имел указ Петра I 1724 г., по которому разрешалось вывозить из России в Дагестан железо, свинец, порох, а также дозволялся беспошлинный перевоз (и свободная торговля) вина, табака, "всяких хлебных и мясных припасов" и скота в Дербенте, в крепости Св. Крест и в других местах новой провинции. По указу местным торговцам предоставлялись льготы. К их услугам были и русские купеческие суда. Принятые меры незамедлительно сказались и на росте внутренней торговли. В Тарках, Эндирее, Аксае и в других местах стали возникать торговые ряды русских, армянских и северокавказских купцов"2.
Не безынтересно отметить, что в свите Петра I были: Дмитрий Кантемир - видный государственный деятель, сенатор, писатель, композитор, историк (он управлял походной канцелярией и типографией), владевший арабским, турецким и персидским языками; его 13-летний сын Антиох -будущий известный поэт-сатирик и дипломат; Ф. И. Соймонов - первый русский картограф; ученые, специалисты в разных областях И. Гербер, Дж. Белль, В. М. Бакунин и др.
Большое значение имело и начатое еще до прихода русских войск изучение природных ресурсов, истории и этнографии (это для нашего исследования особенно важно - X. И.) народов Северо-Восточного Кавказа. Описания края, составленные А. П. Волынским, А. И. Лопухиным, А. Бекович-Черкасским, И. Г. Гербером, Л. Ф. Еропкиным, Д. К. Кантемиром, Ф. И. Соймоновым и многими другими, являются ценным источником для изучения его истории и этнографии"1 (и здесь отметим, что со многими из этих материалов, особенно кантемировскими, высокообразованный и любознательный писатель А. Бестужев-Марлинский, очевидно, был знаком).
Особенности эпохи освоения, завоевания Кавказа отложили свой отпечаток и на литературные произведения, в которых отражены и дагестанские события или их отголоски. И надо отметить, что в них абсолютно превалирует одобрение завоеваний, присоединений и т. д., даже своего рода эйфория победами русского оружия. Это резко отличает стихотворения XVIII века от большинства возникших несколько позднее романтических и реалистических произведений, их основных традиций. Причин этому контрасту, видимо, много; нам представляется, что это обусловлено и общим патриотическим пафосом "пробуждающейся" России, и искренней верой в то, что Россия несет только добро к "дикарям" Кавказа, и жанром оды, которым написаны многие кавказские произведения XVTII в. (жанр оды "обязывает" восхвалять адресата), и уровнем таланта авторов, но главное, очевидно, в том, что российское общество тогда не знало истинных последствий походов и литература еще "не созрела" до достаточно глубокого осмысления явлений, до гуманистических принципов их оценки.
Символ звезды в творчестве А. Марлинского в контексте дагестанской и общевосточной фольклорно-литературных традициях
Согласно последним изысканиям науки в области изучения символов, и особенно мифологических символов (а здесь и такие ипостаси Богини-Земли, как птица, огонь, конь и другие), подобные сходные образы не обязательно должны заимствоваться. Почти общепринятой можно считать ту точку зрения, по которой символы и мифические образы глубоко коренятся в психике, в сознании человека, в его подсознании. У разных людей, у разных племен и народов всегда возникали схожие мифообразы, которые нельзя объяснить прямым заимствованием. К. Г. Юнг одним из первых занялся этой проблемой1. "Продукты" сознания, которые есть всегда у каждого человека и которые обуславливают похожесть мифов и символов, он назвал архетипами. Уже это может объяснить сходство символов у народов Дагестана и в поэзии декабристов, но, конечно, связи или совпадения на уровне символа могут быть и гораздо шире. Пример этому мы находим у К. Кереньи, который показал в своем труде "Введение в сущность мифологии" , как сходно представляли себе порядок устройства города или дома далекие друг от друга народы: римляне, индусы, западные африканцы. В основании всего, символом начала, все они видели квадрат и круг, наложенные друг на друга - символ мандола.
Подобное устройство сакральных объектов и культовых построек мы находим и на Кавказе, подобные же символы-мандолы обыкновенные люди видели во сне - не это ли убедительный довод для признания истинности явления архетипа? Если так, то и образ Богини-Матери, Богини-Земли тоже может быть общим для многих народов, обнаруживаться в некоторых типичных для этого образа ипостасях, таких как поле, птица и т. д. Мы знаем, что эти архетипические символы присущи всем народам, в том числе и дагестанцам; мы знаем также, что древние изображения Богини-Земли находят у всех народов. Все это позволяет сделать вывод, что символы не только кочуют от одного народа к другому, но и сами по себе имеют источник в сознании каждого человека, иначе говоря, общечеловечны. Изменение, трансформация символов — дело обычное, хотя почти всегда можно реконструировать изначальный образ. Чаяния у людей одни и те же, сходство же образов является результатом общности, сходства источника. В данном случае следует говорить не о заимствовании, а о параллелизме мышления.
Известно, что земля, как таковая, являлась символом Богини-Матери с незапамятных времен. Поле же, как атрибут земли, как ее часть, Богиня-Мать стала заменять ее, и земля стала обозначаться через поле. (Атрибут был взят по аналогии размножения: деторождение у женщин и плодородие земли). Это известный прием, когда часть выражает собой сущность, суть или идею целого. Цвет Богини-Матери был не случайно зеленым - знак весны, преображения, цветения, возрождения. Графически поле изображалось треугольником или чаще квадратом, на вершине которого находилось изображение головы Богини - круг. Из того же арсенала образов, символизирующих преображение, возрождение, цветение, умирание и воскрешение, пришел в литературу образ птицы Феникса. Первоначально этот образ носил идею умирающего и возрождающегося солнца.
Как известно, солнце - атрибут Богини плодородия, дарующей жизнь. Отсюда идет обожествление его, поклонение огню, небесным светилам.
В отдельный культ возводится поклонение звездам. Формируются культуры, касты жрецов, языческие религии огнепоклонников. И из-за видимого сходства светил солнца, звезд возникает поэтический образ солнца-птицы, звезды-птицы. Обо всем этом мы продолжим разговор в дальнейшем.
Конь в известной степени является выражением идеи Богини плодородия. Конь быстр, стремителен, поэтому уподобляется птице, его рисуют с крыльями - появляется поэтический образ Пегаса. Из-под копыт его высекаются искры, поэтому он отождествляется с огнем. Часто его изображают огнедышащим. Происходит мифологизация образа, и коня уже рисуют запряженным в солнечную колесницу. Голову коня изображают на знаменах и водружают на корму кораблей. Точно так же голову птицы можно увидеть на знаменах и на корме корабля.
Таким образом, птица и конь оказываются "втянутыми" в систему образов, входящих в ареал Богини-Матери земли.
В частом упоминании поля в фольклоре многих народов тоже видится тяготение к забытым архаическим народным представлениям о Богине земли. Земля считается священной практически у всех народов. Понятия родина, отечество связаны с родной землей, с ее просторами. Землю называют матерью. Подобно матери, она вскармливает народы. Из этого обожествления земли идет библейское и кораническое представление о том, что Бог создал человека из глины.
У язычников глина, земля почитались как элементарные одушевленные частицы, носители сознания. Им поклонялись. Камни, валуны как основа земли, как ее "хребет" или "ребра" почитались еще больше. Люди создавали каменные изваяния, каменных истуканов, каменных баб, идолов и поклонялись им. Из кремня высекался огонь. Огонь же - атрибут Богини земли, Богини плодородия. Отсюда уподобление камней звездам, птицам, ваяние из камней крылатых пегасов, перунов, статуй богов и богинь, перенос этих деталей в орнамент, декор, резьбу по камню, в архитектуру.
Образ Великой Богини, Матери-Земли тесно связан и с образами звезды и ладьи. Конь — ипостась Великой Богини - изображен на корме Ноева Ковчега. Жизнь после Потопа оказывается спасена, когда голубица (птица!) находит землю и не возвращается обратно в Ковчег. Существуют и другие подтверждения связи двух образов. У Великой Матери было много имен: иранцы называли ее Ардвисура Анахита, отождествляли с чистой влагой и прекрасной девой в повозке четырех коней; западные семиты называли ее
Астартой, олицетворением планеты Венера, и отождествляли с аккадской Иштар; арамеи почитали ее под именем Атарате; армяне - как Астхик (в переводе "звездочка"!) и приносили ей в жертву розы, выпускали голубей, обрызгивали водой; для египтян она была и Тефнут и Сехмет, греки величали ее Афродитой, римляне - Венерой. Уже в эпоху поклонения Великой Матери возникло представление о единстве всех ее имен, их тождественности и принадлежности одной единственной Великой богине. Этим объясняется и многообразие, и смешанность атрибутов и символических ипостасей богини межнационального характера, а также их распространение далеко от главных центров культа.
Многие символы из пантеона древней Богини сохранились и в Дагестане. Например, по сей день люльки для детей делают в форме ладьи, зачастую с головой коня на корме. В каменной архитектуре преобладает изображение птиц, крылатых львов, солнца, звезд. Эти изображения украшают каменные ниши домов, ворота, порталы.
Символ ладьи в творчестве А. Марлинского в контексте религиозных воззрений и фольклорно-литературных традиций народов Дагестана и Востока
Выше мы отмечали черты сходства между такими мистическими традициями, как суфизм и масонство, и предположили, что подобное сходство не может быть случайностью. Выявить их истоки или, по крайней мере, приблизиться к ним должен помочь анализ некоторых общих символов, из которых нами пока выбраны два основных: символ звезды и символ ладьи. Оба эти символа известны как в масонстве, так и в суфизме, но нас, помимо типологии, интересует и возможный "первоисточник", из которого обе традиции, возможно, и заимствовали данные образы. При рассмотрении символа звезды обнаружилась непосредственная его связь с культом и мифологическим образом Великой Богини-Матери. Видимо, в конечно итоге к мифологическим представлением восходят символические астральные системы масонства и суфизма, из тех истоков, что почти в первозданном виде сохраняются фольклорной традицией, в том числе, как мы видели, и дагестанской. Мы считаем, что и образ-символ челнока, столь любимый в русской поэзии и прозе романтического периода, тоже может иметь генетическую связь с представлениями о Богине-Матери, и в таком случае мы смогли бы назвать общим истоком мистических традиций масонства и суфизма (тем истоком, благодаря которому мы видели их некоторую схожесть) мистерии и культ Великой Богини.
По мифам известно, что в сюжете переплывания вод смерти и возвращения в реальный мир душа умершего и заходящее солнце отправляются в Преисподнюю на Ладье смерти и возвращаются из Преисподней на Ладье воскрешения. "При этом Солнце (Гелиос, Ра и др.) само переплывает в Ладье воды смерти, а душу человека переправляет перевозчик (греческий Харон, индийская Сатья-вати, шумеро-аккадская Ур-шанаби и др.). С образом Ладьи смерти связана роль ладьи в погребальных ритуалах: ... погребение в ладье или в гробу ладьеобразной формы, отправление мертвого в ладье в море или по реке..., изображение Ладьи на погребальной утвари и могильных камнях.
Основным сакральным элементом ладьи смерти является корма (перевозчик-кормчий)... Амбивалентность семантики смерти и возрождения обнаруживает Ладья потопа, которая со своим содержимым единственная преодолевает гибель и является средством будущего возрождения, заключая в себе "семя всех вещей" (корабль шумеро-аккадского Зиусудры - Ут-Напишти, индийского Ману), либо супружеские пары будущих прародителей (греческие Девкалион и Пирра, библейский Ной и скандинавский Бенгильмир с супругами)..."1.
Дагестанскому фольклору тоже не чужд образ ладьи. В целом ряде образцов народного творчества и обрядов дагестанцев, так или иначе, присутствует ковчег.
Например, это деревянная бочка, сундук или плетенка, которую несет невесть куда течением реки, а в ней невольный пловец, беззащитный мальчик. Далее следует сказочная история о том, как мальчик становится принцем. В этом красочно описанном сюжете угадывается параллель библейскому сюжету о пророке Моисее (вспомним, как тот спасается от гнева фараона) и др.
Обратим внимание также и на библейский Ноев Ковчег. Ведь и Ной на своем судне спасается от гнева Всевышнего на непокорных ему созданий и плывет в иной, неведомый мир, аллегорически противоположный этому миру.
У некоторых арабских племен и поныне сохраняется обычай: уложить тело покойника на тростниковую ладью и, предав ее огню, толкнуть в море. Это языческий ритуал отправления души в потусторонний мир. У народов Дагестана делают особые деревянные люльки для детей; они очень напоминают люльки-челноки и способ привязывания тела к лодке упомянутыми выше арабами к колыбели - примерно одинаковы. Случайны ли все эти совпадения? Если представить себе, что смерть даже одного единственного человека тоже есть катастрофа или в своем роде "конец света", то по аналогии с библейским концом света, когда разрушается все, надо пытаться спасти хотя бы что-то. В случае отдельного человека этим "что-то" является человеческая душа.
Лодочник сопровождает души людей из царства света (жизни) в царство тьмы (смерти). Таким образом, именно душа является самым ценным в человеке. В мифах народов мира с древнейших времен было много богов, подобных греческому Харону, образ которого является их далеким поздним отражением: Шамаш, Осирис, Гермес и др. Относительно функции этих богов можно сказать следующее: когда одно качество переходит в другое или одно состояние переходит в другое, происходят такие изменения, какие в последующем невозможно восстановить, то есть изменения необратимые. В случае же душ, когда их по опасной переправе отправляют в иной мир, им грозят увечья. Поэтому древние считали необходимым сопровождать их, для этого-то и были предназначены боги-посредники.
Известно, что и масонские братства и суфийские ордена тоже признавали необходимость посредника - великого Лодочника. Посредником подобного же рода в эзотерической доктрине суфиев и масонов являются: у первых - иерархия вали, пиров, шейхов, муршидов, авлийя, у вторых - адепты. В несколько утрированной форме можно сказать, что все учение тайных обществ сводится к имитации самой главной сокровенной тайны жизни -смерти!
Греческая легенда о славном корабле Арго, который проходит через скалу, что закрывается и открывается, является осколком древнего мифа о том, как герой проникает в подземный мир через раскрывающуюся брешь, чтобы освободить заключенное там солнце (в греческой мифологии — чтобы забрать золотое руно). У многих народов, в том числе у лакцев, существуют мифические представления о том, что умерший должен пройти на тот свет меж двух сдвигающихся скал. По представлениям лакцев, в потусторонний мир мрака, находящийся за "морем", уходили не только души умерших, туда уходило и солнце. Заходящее солнце спускалось на землю или в море. В обоих случаях оно уходило в мир владыки "низа", то есть земли и земных вод. Вход в тот мир находился где-то на Западе, за морем. Чтобы попасть в загробный мир, души умерших должны были преодолеть водное пространство1.
Подобные представления привели к возникновению таких погребальных обрядов, как захоронение в лодке, отправляемой в открытое море, или погребение с лодкой, или же сооружение надгробия в виде лодки. Лодка, перевозящая умерших в загробный мир, приобрела значение принадлежности божества преисподней. В Греции на празднике Диониса, имеющего черты бога земли, его изображение возили на лодке, установленной на колесах. В древнем Египте на религиозных мистериях жрецы носили на своих плечах священную лодку. От таких древних обрядов ведет свое происхождение лодка на колесах, являющаяся аксессуаром праздника, тоже в свое время посвященного пробуждению земли после зимней спячки, т. е. божеству земли2.