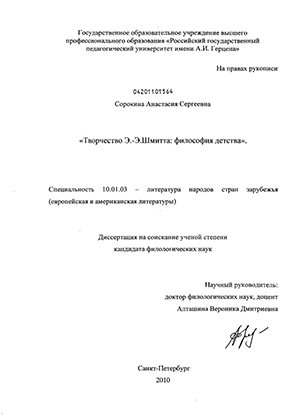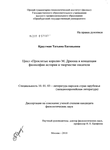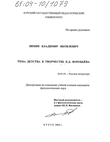Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Творчество Э.-Э.Шмитта в контексте идей постмодернизма 16
1. Реабилитация метаповествований в творчестве Э.-Э.Шмитта 19
2. Проблема языка в постмодернизме и ее решение в творчестве Э.-Э.Шмитта 36
3. Преодоление постмодернистского иронического дискурса в творчестве Э.- Э.Шмитта 49
4. Массовая литература и творчество Э.-Э.Шмитта 58
5. Идейно-философское содержание повестей и проблема цикла 73
Глава 2. Феномен детства в творчестве Э.-Э.Шмитта 85
1. Формирование темы детства в творчестве Э.-Э.Шмитта 88
2. Концепция детского сознания в творчестве Э.-Э.Шмитта 98
Глава 3. Специфика детских образов в «Цикле Незримого» Э.-Э.Шмитта 109
1. Концепция детства Э.-Э.Шмитта в свете философских идей романтизма 113
2. Влияние «философии сердца» Б.Паскаля на творчество Э.-Э.Шмитта 129
3. Наследие Ф.М.Достоевского в «Цикле Незримого» Э.-Э.Шмитта... 134
4. Осмысление феномена детства в экзистенциализме (Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер) 138
5. Э.-Э.Шмитт и экзистенциализм 159
Глава 4. Философия детства в «Цикле Незримого» и французская литературная традиция 170
1. А. де Сент-Экзюпери и Э.-Э.Шмитт: проблема «незримого» 170
2. Образ детства и семантика рубежного времени (Г.Башляр и Э.-Э.Шмитт) 177
3. Роль мифа в изображении детства (М.Турнье и Э.-Э.Шмитт) 182
4. Социальный аспект темы детства в «Цикле Незримого» Э.-Э.Шмитта и в романе Э.Ажара «Вся жизнь впереди» 188
Заключение 193
Библиография 202
- Преодоление постмодернистского иронического дискурса в творчестве Э.- Э.Шмитта
- Концепция детского сознания в творчестве Э.-Э.Шмитта
- Осмысление феномена детства в экзистенциализме (Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер)
- Роль мифа в изображении детства (М.Турнье и Э.-Э.Шмитт)
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено рассмотрению детских образов в прозе современного французского писателя Э.-Э.Шмитта. Начало его творческого пути приходится на 90-е годы прошлого столетия и за прошедший период привлекло внимание большой аудитории. Обращение писателя к образу ребенка явилось следствием его полемического отношения к постмодернистским тенденциям в литературе, которые стали выражением практицизма и прагматизма. Умение ребенка видеть сердцем, а не разумом обусловило привлечение Шмиттом детского сознания к разрешению общечеловеческих метафизических проблем, в частности, межрелигиозных конфликтов.
Актуальность исследования. В настоящее время в литературе прослеживается ослабевание влияния на литературу теоретических постулатов постмодернизма, сформулированных в 70-80-е г.г. XX века. Творчество Шмитта приходится на завершающую стадию развития этого общекультурного течения, для которой характерно появление новых тенденций. Их проявлением в прозе французского писателя является, в частности, образ ребенка, исследование которого отвечает возрастающему интересу отечественного и зарубежного литературоведения к художественному воплощению феномена детства в западноевропейской литературе.
В творчестве Шмитта тема детства возникает в 90-е годы прошлого века и хронологически совпадает с тем временем, когда особенно громко заявили о себе конфликты на межрелигиозной и межэтнической основе. Во главу угла были поставлены вопросы о ценности отдельной личности, о границах свободы, о вере и неверии, о терпимости и уважении к Другому, об истине и путях познания Бога. Проблемы морально-этического порядка составляют ядро литературно-философских размышлений писателя. Опираясь на идеи религиозного экзистенциализма и совмещая их с детским гармонизирующим взглядом на мир, Шмитту удается развязать гордиевы узлы человеческого существования. Так рождается философия детства в творчестве Э.-Э.Шмитта.
Таким образом, отражение в творчестве Шмитта последних тенденций в современной французской литературе, обращение писателя к детскому сознанию в связи с метафизическими проблемами человеческого бытия, приобретшими в настоящее время особую актуальность (проблемы терпимости и уважения к Другому, религиозной веры, смысла жизни и др.), определили выбор темы данного исследования «Творчество Э.-Э.Шмитта: философия детства».
Объектом исследования является весь корпус философских и этических построений автора, которые он представил в детских образах в «Цикле Незримого».
Предметом исследования является репрезентация феномена детства в
творчестве современного французского писателя Э.-Э.Шмитта.
Цель данного исследования - выявить философский смысл художественного воплощения детства в «Цикле Незримого» Э.-Э.Шмитта.
В рамках поставленной цели необходимо решить ряд задач:
изучить философско-эстетический фон, на котором создавались произведения Шмитта;
выявить философскую базу творчества писателя;
исследовать систему детских образов в прозе Шмитта;
проследить зарождение философии детства в прозе Шмитта;
определить основные тенденции, оказавшие влияние на формирование образа ребенка в творчестве писателя;
определить поэтические особенности творчества Шмитта;
7) проанализировать специфику художественного стиля писателя.
Материалом исследования являются пять повестей, составляющих
«Цикл Незримого»: «Milarepa» («Миларепа») (1997), «Месье Ибрагим и цветы Корана» (2001), «Оскар и Розовая Дама» (2002), «Дети Ноя» (2004) и «Sumo, qui ne pouvait pas grossir» («Борец сумо, который никак не мог потолстеть») (2009). Первая из них еще не была переведена на русский язык, последняя повесть вышла в русском переводе в 2010 году, а остальные три издаются в основном одной книгой. Кроме этого, к исследованию привлекаются другие прозаические произведения писателя, подготовившие появление детских образов в цикле или отражающие представления Шмитта о феномене детства («Секта эгоистов» (1994), «Евангелие от Пилата» (2000), «La part de Г autre» («Доля другого») (2001), «Ma vie avec Mozart» («Моцарт и я»)(2005)).
В качестве основных в работе были использованы такие методы исследования, как сравнительно-исторический, историко-генетический и герменевтический.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили монографии, затрагивающие вопрос специфики детского сознания, В.В.Зеньковского «Психология детства» (1924), Е.М.Мелетинского «Поэтика мифа» (1976), а также эссе К.Г.Юнга «Божественный ребенок» (1958); работы о философских основаниях детских образов Л.К.Нефедовой «Онтологическая семантика образов детства» (2005) и «Феномен детства в основных формах его репрезентации (философия, миф, фольклор, литература) (2005); исследование М.Эпштейна, Е.Юкиной «Образы детства» (1979), посвященное художественной репрезентации детства в литературе, и работа О.О.Масловой «Концепт детства в научной и художественной традициях XX века» (2005); монографии Н.Б.Маньковской, И.П.Ильина, Д.В.Затонского, исследующие теоретическое обоснование постмодернизма; работы С.Зенкина, Н.Кулиш, М.К.Лацоевой, С.Б.Рындина, Л.Г.Андреева и С.Фокина по современной французской литературе. Также были использованы работы современных французских литературоведов, таких как D.Viart, J.Villani, M.Delon , A.Compagnon и др.
Степень разработанности проблемы. Теоретические исследования
творчества Э.-Э.Шмитта как в зарубежном, так и в отечественном литературоведении представлены немногочисленными источниками: монография M.Meyer « Eric-Emmanuel Schmitt, ou les identites bouleversees » (М.Мейер «Эрик-Эммануэль Шмитт, или смена координат») (2004); аналитический синтез творчества Шмитта A.-M.Lamontagne и Ch.Lahaie, проведенный в рамках телевизионного проекта «CONTACT, encyclopedic de la creation» («Контакт, энциклопедия творчества») (2004), материалы которого публикуются на официальном сайте программы.
В отечественном литературоведении, за исключением газетных статей, вышедших по случаю издания того или иного произведения на русском языке, существует только две научных статьи: Л.Аннинского «Пять франков на конфеты» (2007) и Э.Ф.Шафранской «Тема детства в прозе Э.-Э.Шмитта» (2006). Также в 2010 году Г.Соловьева сопроводила свой перевод последней повести цикла «Борец сумо, который никак не мог потолстеть» пояснительной статьей, проследив творческую эволюцию писателя.
Большое значение для раскрытия представлений писателя о феномене детства имеют его собственные комментарии к повестям цикла, опубликованные на его официальном сайте, автобиографический роман «Моцарт и я» (2005), в котором Шмитт частично раскрывает свое видение детства, а также прямые высказывания Шмитта о детстве в интервью отечественным и зарубежным газетам и журналам. Положения, выносимые на защиту:
Творчество Э.-Э.Шмитта хронологически вписывается в эпоху постмодернистских тенденций в искусстве. Вместе с тем, проводимая писателем в его произведениях положительная программа жизни, основанная на оптимистическом взгляде на жизнь, не соответствует трагично-эсхатологическим настроениям многих представителей постмодернизма.
Образ детства в творчестве Шмитта явился воплощением пропагандируемой писателем положительной программы жизни, направленной на реабилитацию универсальных ценностей.
Обращение Шмитта к детскому сознанию связано с попыткой разрешения важнейших экзистенциальных вопросов. Для достижения этой цели писатель использует потенциал детского сознания, который определяется близостью последнего к мифологическому сознанию, естественной религиозностью и способностью к интуитивному познанию бытия.
В трактовке Шмиттом феномена детства прослеживается влияние как определенных философско-эстетических систем (романтизма и экзистенциализма), так и отдельных мыслителей и писателей (Б.Паскаля, Г.Башляра, А. де Сент-Экзюпери, Ф.М.Достоевского, М.Турнье, Э.Ажара).
Шмитт следует определенной традиции в изображении ребенка, сложившейся во французской литературе. Преемственность Шмитта основывается на понимании детства как идеального
состояния души или как метафизического ядра личности, отвечающего за сохранность морально-этических ценностей. 6. В творчестве Шмитта детское сознание сопряжено с религиозным сознанием, что дает возможность писателю прийти к разрешению экзистенциальных узловых моментов человеческого бытия. Научная новизна данного исследования состоит в том, что:
восполняется недостаточная изученность детских образов в литературе Франции XX-XXI веков;
впервые предложено литературоведческое теоретическое исследование прозы Шмитта, в том числе в аспекте его философии детства;
дополняется малое количество исследований, особенно монографического характера, о французской литературе XX-XXI веков как во Франции, так и в России.
Теоретическая значимость работы заключается в исследовании репрезентации феномена детства во французской литературе XX-XXI веков. Возникновение детских образов в художественной литературе обусловлено законами рубежного времени, которое через них актуализирует возможные перспективы становления внутреннего мира личности. Впервые в отечественном и зарубежном литературоведении творчество Шмитта рассматривается в контексте современных литературоведческих и философских идей, а к изучению философии детства в творчестве Шмитта был применен интегративный подход. Кроме того, в работе предложен анализ поэтики и проблематики «Цикла Незримого»: определяются особенности жанра recit, которые задают свою композиционную и образную систему построения художественного произведения, исследуется проблема единства авторского прозаического цикла.
Практическая значимость состоит в возможности использования основных положений работы в ходе дальнейших исследований в области репрезентации детских образов в современной французской литературе, при изучении творчества Э.-Э.Шмитта, а также при чтении общих курсов по истории зарубежной литературы XX-XXI веков, по истории новейшей французской литературы, спецкурсов по детской литературе, а также при составлении учебных пособий по названным темам.
Рекомендации по использованию результатов исследования. Полученные научные результаты могут быть применены при изучении феномена детства в творчестве других авторов, жанра recit во французской литературе, проблемы циклизации художественных текстов, а также произведений, написанных в последнюю стадию эпохи постмодернизма.
В ходе апробации исследования основные положения работы обсуждались на межвузовских научно-методологических конференциях «Тема детства в западноевропейской литературе» (2007), «Детство как литературный дискурс» (2008), «Компаративистика: история и
современность» (2008), «Детская литература как предмет компаративистики» (2009) и «Литературные взаимосвязи и типологические схождения. История и современность» (2010) в РГПУ им. А.И. Герцена. Основные положения и выводы исследования отражены в публикациях диссертанта.
Структура работы: Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии. Текст диссертации изложен на 225 страницах.
Библиографический список включает в себя 251 наименование.
Преодоление постмодернистского иронического дискурса в творчестве Э.- Э.Шмитта
На последнем этапе (начиная с 80-х г.г. по настоящее время) развития постмодернизма на поверхность выходит столкновение монологизма и диалогизма, противостояние которых изначально было заложено в нем в зачаточном виде. В связи с этим французский исследователь постмодернизма Б.Вестфаль задается вопросом: «как соединить высвобождающую силу общей фрагментации, ведущей к разнородности, и диалогизм с его непредвиденными эффектами, которые проявляются в попытке новой унификации планетарного масштаба (апофеоз монологизации)?» [Westphal Poslmodernisme. URL:www.ditl. info/arttest/artl5470.php]. Для нашей работы особенно важным является то, что создание «Цикла Незримого» приходится именно на этот период, так как тем самым обосновывается актуальность проблемы противопоставления монологического и диалогического типа мышления для творчества Шмитта.
С философией диалога Шмитта сближает отнесение себя к религиозной ветви экзистенциализма, поскольку «диалоговая философия часть экзистенциальной аксиологии» [Федяева, 2003:6]. В начале главы мы приводили цитату из интервью Шмитта, где он ссылается на идеи Б.Паскаля и С.Кьеркегора. С именем последнего в западноевропейской философии связано появление наряду с идеалистической экзистенциалистской ценностно-эстетической системы, преподносимой автором с позиций религиозного сознания. Переворот, который совершил в философии Кьеркегор, заключается в отказе от идеалистического тезиса тождества бытия и мышления, за которым стояло разделение мира на идеальный и материальный: «Если для Гегеля мир существовал как мир объектов, которые нужно познать, то для Кьеркегора мир состоял из самостоятельно существующих субъектов, которые не могут рассматриваться как объекты познания» [Там же:20]. Вместо субъект-объектных отношений «я» с миром предлагались субъект-субъектные. При таком решении истина приобретала личностный характер, а в этику вводи[лись] понятия личной ответственности и выбора» [Там же:8]. Отталкиваясь от экзистенциалистских идей Кьеркегора, Ф.Эбнером и М.Бубером была сформулирована «философия диалога как единая теория» [Там же:5.], которую позже развил М.Бахтин.
В рамках диалоговой философии диалог понимается как «особая форма взаимодействия между равноправными и равнозначными сознаниями» [Плеханова, 2002. URL: http://www.psyinst.ru/library.php7part =article&id=1143], иначе говоря, между субъектами. Он создает особые условия для смыслопорождения. Смысл не существует в готовом виде, но рождается в диалоге. Понимание возникает там, где встречаются два сознания, то есть на границе между ними. Истина событийна, она не является объективно заданной, а предполагает многовариантное истолкование происходящего. Именно при встрече как минимум двух сознаний рождается истина, она всегда - на границе «между».
Диалоговая философия в трактовке постструктуралистов приобрела формалистическое и игровое оформление. Именно из игрового понимания диалога и теории «смерти субъекта» в рамках постструктурализма родилась концепция интертекстуальности. Идея диалога Бахтина была заимствована идеологами постструктурализма, но переиначена. Ю.Кристева, которая впервые ввела в постструктуралистский обиход бахтинскую категорию диалога и построила на ней теорию интертекстуальности, делает акцент на бессознательном коллективном цитировании. То есть она уничтожает субъективную составляющую диалога, которая лежала в основе диалоговой философии Бахтина. Ю.Кристева ограничила диалог сферой литературы и свела его до диалога между текстами. Таким образом, под интертекстуальностью подразумевалась принципиальная открытость текста, то есть его способность взаимодействовать с другими текстами. В результате подобного понимания интертекстуальность приобретает гипертрофированные формы. Открытость текста абсолютизируется, в него включается бесконечное множество других текстов. В результате они образуют «великий интертекст» культурной традиции, в котором бессмысленно искать источники составляющих его элементов. Интертекстуальность из второстепенного приема превращается в самодовлеющий принцип организации художественного текста.
Установка на интертекстуальность присуща авторскому методу Шмитта, но он не злоупотребляет аллюзиями, не включается в игру текстов. В его произведениях присутствуют частые ссылки на Библию, на мифы, на фигуры известных людей, на музыкальные произведения. Однако итертекстуальность в его творчестве выполняет вспомогательную функцию. Этим приемом писатель пробуждает культурологическую память читателя и приковывает его внимание к определенной узловой проблеме бытия.
Концепция детского сознания в творчестве Э.-Э.Шмитта
На общем фоне произведений Шмитта, населенных героями-взрослыми, может показаться неожиданным появление в его творчестве героев-детей. Однако эта, непонятная на первый взгляд, смена субъекта художественного мира писателя имеет свои причины. Для их выявления нам вновь придется коротко вернуться к проблеме взаимоотношений Э.-Э.Шмитта с идеями постмодернизма.
В предыдущей главе мы подробно останавливались на точках сближения и расхождения между постмодернистской философией и творчеством Шмитта. В данный момент нас будут интересовать не отдельные идеи постмодернизма, а общий пафос этого современного культурного течения, его последствия для человека и то, что противопоставляет этому пафосу Шмитт как писатель.
Постмодернизм в своем классическом исполнении имеет одну характерную черту — это критицизм сознания. Беспощадная критика составляет ядро постмодернистской философии, разрушению подлежат все традиционные, устоявшиеся взгляды на мир. Взгляд на мир под знаком отрицания, неприятия и критики обосновывает негативный пафос постмодернистской мысли. В своем пределе постмодернизм для человека не создает ничего, кроме тупиковых ситуаций. Теоретики этого направления, отрицая все традиционное и классическое, в то же время не предлагают ничего взамен, а если и предлагают, то их философские разработки не позволяют выстроить устойчивой картины мира. Такие опоры сознания как разум, истина, морально-этические ценности подверглись тотальной релятивизации. В результате подобного мыслительного эксперимента мир низвергается в хаос, в котором философы-постмодернисты призывали видеть новый тип мироустройства. Человек в такой ситуации предстает существом растерянным, загнанным в лабиринт бесконечных возможностей, из которого нет выхода. Постмодернизм как философия культуры предлагает лишь мнимые выходы из кризиса сознания, на самом деле все они суть тупики. Человек в условиях тупиковых ситуаций — вот конечный результат постмодернизма. Индивиду больше не на что опереться в жизни, его лишили каких бы то ни было принципов способных помочь ему сориентироваться в отношении себя как личности и в отношении окружающей действительности.
Как дипломированный философ, Э.-Э.Шмитт не мог не разглядеть все эти негативные для человека последствия постмодернизма и не почувствовать его депрессивный характер. Пессимизм, который вызывает в человеке современная философия, был осознан Шмиттом в связи с идеей творчества. Перед писателем остро встал вопрос о принципиальной возможности создания чего-либо нового в условиях повсеместного разрушения. Вот как он об этом рассуждает в своей автобиографии «Моцарт и я» («Ma vie avec Mozart», 2005): «Как писать театральную пьесу после Беккета? В какой манере создавать роман после школы «Нового романа»? Посредством чего философствовать, когда саму философию подвергли деконструкции? ... что можно создать в наши дни? Разве это еще возможно?» [Schmitt,2005:91]. Этими вопросами задавалось поколение Шмитта в 80-е годы прошлого столетия, потому как «все это значило спросить себя: «Как жить, когда все умерло? Где сеять на почве, которую наши «учителя» с гордостью обрабатывали, истощали, а потом иссушали?». Коварным и логическим ходом мысли вопрос переворачивался: что еще можно сжечь? Какие еще костры осталось зажечь? Ибо эти послушные и образованные молодые люди, эти очень прилежные ученики так хорошо вымуштрованные, эти мило причесанные отличники воображали себя вандалами и революционерами. Ум коренился в разрыве с прошлым, им было необходимо оспорить или отречься от бытия; так им преподавали историю. Поскольку они узнали, что их старшие современники дошли до «предела» театра, романа, философии, они, добросовестные и покладистые, старались заметить то, что они должны были разрушить, и страдали, не видя этого» [Ibid:93-94]. При всем глубоком понимании негативного пафоса постмодернизма Шмитт намеренно идет не в ногу со временем, а, наоборот, против течения. М.Мейер справедливо замечает в монографии, посвященной писателю, что он «отказывается от отчаяния XX века, заново пересматривая одну за другой самые глубокие проблемы, с которыми сталкивался человек. Он показывает, как люди противостоят им, несмотря на отчаяние, которое они переживают» [Меуег,2004:10] .
Разрешить вопрос о возможности творчества в условиях постмодернизма Шмитту помог случай. Речь идет о мистическом опыте, пережитом им в 1989 году в африканской пустыне Хоггар, где он, отстав от своих друзей, был вынужден провести ночь под открытым небом, зарывшись от холода в песок. В эту ночь он «... испытал чувство Абсолютного и уверенность, что некий Порядок, некий разум наблюдает за нами, и что в этом порядке [он] был создан и желаем. И потом одна единственная фраза занимала все [его] мысли: «Все оправдано» [Lamontagne Une conversion, 2005. URL:http://www.contacttv.net ]. После ночи перерождения мир в глазах будущего писателя приобрел целесообразность: «Именно с того дня я смог начать писать. До того все, что я писал, казалось мне тщетным» [Ibid].
Осмысление феномена детства в экзистенциализме (Ж.-П.Сартр, М.Хайдеггер)
Одной из отличительных черт детского сознания является идеализм, который в трактовке Жана-Поля Сартра существенно отличается от традиционного. Писатель наполняет его философским значением, тогда как в жизни детский идеализм укладывается в рамки идеализированного взгляда на окружающую реальность. Для писателя-экзистенциалиста идеализм детского сознания проявляется в «стихийном детском платоницизме, побуждающем] его смотреть на понятия о жизни как на нечто пресуществующее самой жизни» [Великовский,1998. URL: http://noblit.ru/content/view/443/l/]. В подтверждение этой мысли приведем два созвучных отрывка из «Слов» и «Детства хозяина». В первом произведении читаем: «...открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир. Существовать значило обладать утвержденным наименованием где-то на бесконечных таблицах слова». «Лов[я] вещи в капканы фраз», маленький Пулу считал, что создает и присваивает их. Приведенная выше формулировка детского идеализма в «Словах» представляет собой философское обобщение одного фрагмента из «Детства хозяина». «Это было поразительно: когда Люсьен говорил маме: «Моя красивая мама», она улыбалась, когда он называл Жермену «ружьем», та плакала и шла жаловаться маме. Но когда он произносил слово «каштан», ничего не происходило... Люсьен превратился в маленького разрушителя. Он переломал все свои игрушки, чтобы выяснить, как они устроены...» И далее «Мама часто спрашивала его, показывая на цветок или дерево: «Как оно называется?» Но, качая головой, Люсьен отвечал: «Никак не называется, у них нет имен» [Sartre,2003:19].
Идеализм, в частности детский, вызывает у Сартра явное отторжение. Это один из капканов, в которые попало человечество. То, что идеализм опасен, писатель продемонстрирует на примере фактов из жизни своих героев. Выше мы уже видели, какую реакцию вызвало у Люсьена «деревянное» дерево - отторжение объектного мира. В случае «Слов» происходит более любопытное истолкование идеализма. Он становится онтологическим основанием для постановки знака равенства между ребенком, художником и сумасшедшим. Это особенность, на которую указывает Ж.Виллани. Всех троих объединяет не способность проводить границу между реальным и вымышленным мирами. Вспомним, как Карл Швейцер, при всем его воздействии на сознание Пулу, говорит, что «поэты те же дети». Одновременно Сартр уподобляет писательство неврозу, сумасшествию, потому как иначе не истолковать убеждение ребенка в том, что «за стенами моего дома бродили только бледные копии, более или менее приближавшиеся к прототипу, но никогда не достигавшие его совершенства: в обезьянах зоологического сада было куда меньше обезьяньего, в людях из Люксембургского сада - куда меньше человечьего» [Сартр, 1992:385].
Интересно, что развенчивая идеализм детского сознания, Сартр лишает детский образ традиционной идеализации. Очень натуралистично описаны садистские наклонности маленьких героев. Так, Люсьену «куда забавнее было отрывать лапки у кузнечика, потому что тот вертится при этом волчком под вашими пальцами, а когда ему сжимали живот, оттуда вылезал какой-то желтый крем. Но кузнечики все-таки молчали. Люсьену же очень хотелось помучить одного из тех животных, которые кричат, если им делают больно, курицу например, но даже подойти к ним он боялся» [Sartre,2003:19]. В свою очередь Пулу признается: «Защитник бесчисленных принцесс без стеснения воображал, как порет маленькую соседку по дому. В истории Гризельды, отнюдь не похвальной, меня привлекал садизм пострадавшей...» [Сартр,1992:423]. В этой точно подмеченной Сартром особенности детского менталитета слышатся отголоски той реалистической концепции детства, которая пришла на смену идеалистическому взгляду романтиков на ребенка. Мы имеем; в виду концепцию детства Ф.М.Достоевского, с творчеством которого Сартр был хорошо знаком. Как уже упоминалось выше, детскому сознанию свойственна естественная религиозность. Этот стереотип Сартр отчасти подтверждает, но в силу своих философских убеждений, обрекает своих героев на жизнь без Бога и на их примере демонстрирует зарождение и укоренение в сознании атеистического взгляда на мир. Детская религиозность авторским замыслом переосмысливается как игра на публику. Маленький Люсьен, видимо, очень набожный мальчик. Об этом сообщает его маме, мадам Флерье, кюре церковной школы. Насколько ошибочно это мнение показывает предшествующее ему занимательное описание отношений Люсьена с Богом. Они развиваются по нисходящей: от признания его существования через ненависть к нему вплоть до полного безразличия. Ненависть порождает невозможность укрыться от всевидящего Бога: «...он ненавидел Господа: Господь знал о Люсьене больше, чем сам Люсьен. Он знал, что Люсьен не любит ни маму, ни папу и что он притворяется пай-мальчиком...» [Sartre,2003:22]. Люсьен и перед Богом пытался сойти за благочестивого мальчика, любящего своих родителей. Но это была игра, и она требовала от него слишком большого душевного напряжения, поэтому герой оставляет эту игру и становится абсолютно безучастным к Всевышнему. Для героя-ребенка Сартра легче забыть о Боге, чем постоянно стыдиться своих поступков и мыслей. Подобный эпизод есть в «Словах», когда Пулу, играя со спичками, прожег ковер. В этот момент он остро ощутил присутствие Бога, его укоризненный взгляд на детскую проказу. Способность Господа видеть все превращает героя в соседку по дому. В истории Гризельды, отнюдь не похвальной, меня привлекал садизм пострадавшей...» [Сартр,1992:423]. В этой точно подмеченной Сартром особенности детского менталитета слышатся отголоски той реалистической концепции детства, которая пришла на смену идеалистическому взгляду романтиков на ребенка. Мы имеем в виду концепцию детства Ф.М.Достоевского, с творчеством которого Сартр был хорошо знаком.
Роль мифа в изображении детства (М.Турнье и Э.-Э.Шмитт)
Социальный аспект, которого избегали Экзюпери и Турнье, в творчестве Шмитта отсылает, на наш взгляд, к роману Эмиля Ажара (1914-1980) «Вся жизнь впереди» (1975). Эрика-Эммануэля Шмитта, так же как и его предшественника, интересуют, прежде всего, взаимоотношения между людьми, между разными сознаниями и культурами.
Для Франции проблема сосуществования различных культур в едином пространстве нации ярко проявилась в XX веке, когда многие из ее колоний стали самостоятельными государствами, но при этом не утратили весь спектр отношений с французской метрополией. Влияние Франции на быт, экономику и культуру ее колоний было и остается колоссальным. Во многих странах французский язык является вторым государственным языком, что приводит к активному взаимодействию бывших колоний и Франции на разных уровнях. Кроме того, подписание Римского договора в 1958 году положило начало Европейскому союзу, инициатором создания которого стала Франция. Открытие границ для народов других государств и результаты колониальной политики, приведшей к большим потокам эмигрантов, способствовали возникновению проблематики европейского национально-религиозно-рассово-культурного многообразия.
На фоне этих социально-культурных событий в 1975 году французский писатель Роман Касев под псевдонимом Эмиль Ажар пишет роман «Вся жизнь впереди» - по мнению критики, самое яркое произведение современной французской прозы. В отличие от Экзюпери, ядром романа станет изображение социального аспекта жизни, увиденной и осмысленной десятилетним ребенком. Однако мотив «зоркости» детского сердца продолжит настойчиво напоминать о себе.
Остроту и актуальность европейского многообразия Эмиль Ажар выразил в истории маленького араба Момо, который находится на воспитании в пансионате старой еврейки, бывшей проститутки, Мадам Розы. Непосредственность Момо, его безграничная любовь к женщине, воспитавшей его, по-детски чистый юмор, с которым он рассказывает о своей жизни в трущобах Парижа, о трудностях, которые ему нужно преодолевать каждый день, о медицине, которая может продлить жизнь Мадам Розы в бессознательном состоянии, превратив ее в «овощ», - все это для того, чтобы показать, как ребенок за внешним видит суть вещей. Не будучи выключенным из жизни, он наблюдает за ней, обладая истинной мудростью бытия. Момо против продления жизни в коме под наблюдением врачей, потому что это противоречит божественным законам природы, всему отведен свой срок, и препятствие ходу естественных законов не может называться гуманным. Но в то же время он видит, как беспощадно время и природа обходятся с любимыми им людьми: Мадам Роза - дряхлая старуха практически без волос, она уже не в состоянии самостоятельно передвигаться; месье Шарметт с темным лицом и впалыми глазами страдает от ревматизма. Время уродует людей, превращает их в беспомощные слабые существа, крадя у них остатки жизненных сил.
С образом старой еврейки в повествование входит два важных социальных мотива: во-первых, она носительница памяти о войне (Мадам Роза пережила Аушвиц), во-вторых, через нее Момо приобретает знание о смерти, о том, как она приходит. Две самые страшные на свете вещи войну и смерть - маленький Момо познает благодаря своей воспитательнице. Он видит ужас в ее глазах, когда она смотрит на портрет Гитлера, один взгляд на которого может вывести ее из состояния одурманенности транквилизаторами. Момо узнает о существовании подвала, обустроенного его покровительницей под бункер со съестными припасами на случай начала очередной войны. Мадам Роза спускается туда, когда ей снятся кошмары войны, которые она пережила, чтобы почувствовать себя в безопасности. Маленький герой видит, как каждый день ускользает жизнь из тела Мадам Розы. Если в начале романа она еще способна, несмотря на свою тучность, преодолевать лестницу, спускаться в подвал, то позже она уже не сможет самостоятельно передвигаться и будет сидеть в кресле, а Момо станет ее наряжать, наносить макияж. Он, как может, борется со смертью, всеми силами откладывая ее приход, даже тогда, когда его «мама» умрет, он будет поливать ее труп духами, продолжать ее наряжать до тех пор, пока трупный запах не заставит жителей дома взломать замок подвала и обнаружить прижавшегося к мертвому телу малыша.
Ажар широко использует контрастное изображение действительности: ужасы войны, представленные образом старой еврейки, и мирной жизни Момо, которая, впрочем, также полна горя, нищеты и страданий; старость- Мадам Розы и детство Момо; ее жизнь позади, его жизнь впереди. Подобное совмещение, казалось бы, несовместимых понятий и ситуаций, увиденных и прожитых десятилетним ребенком, свидетельствуют о той внутренней диалектике жизни, которая подчас скрывается от взгляда взрослых, смотрящих скорее вперед, чем озирающихся вокруг. Бесконечная нежность и уважение к людям Момо нивелируют темные стороны жизни и дарят надежду читателю, настраивают на оптимистическое настроение, ведь жизнь бесконечно разнообразна, и нужно- суметь найти в себе способность примиряться с ней.