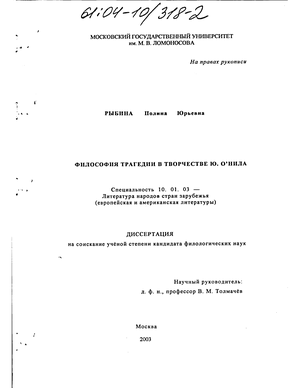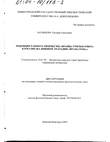Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Философия трагедии Ю. О'Нила 23
Глава II. Трагический универсум Ю. О'Нила
Часть 1. Темы жертвы и рока: "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Луна для пасынков судьбы" 55
Часть 2. "Безнадёжная надежда": "Разносчик льда грядёт" 90
Заключение 116
Библиография 124
- Философия трагедии Ю. О'Нила
- Темы жертвы и рока: "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Луна для пасынков судьбы"
- "Безнадёжная надежда": "Разносчик льда грядёт"
Введение к работе
Драматургия Юджина О'Нила (Eugene O'Neill, 1888-1953) сыграла решающую роль в становлении американской драматургии и американского театра XX века в целом. ОНил создаёт театр, порывающий с чисто развлекательной, псевдоромантической традицией, с одной стороны, и несколько провинциальными пьесами национального колорита — с другой. Впервые на американской сцене заявляет о себе высокая трагедия, имеющая не только национальное, драматургическое, но и общелитературное мировое звучание.
О'Нил — один из величайших трагиков XX века. Пристальное внимание к трагическому в искусстве и современной действительности в целом (1910-е — 1940-е годы) явилось причиной того, что драматург фактически ни разу не обратился к другому жанру. Трагедия стала для него наиболее адекватной формой воплощения художественных и философских идей. Вместе с тем, его сценический язык чрезвычайно богат: приметы экспрессионизма соседствуют в нём со стилистикой театра масок, традиции поэтического театра — с отличительными чертами психологической драмы.
Можно наметить определённый круг проблем, интересующих О'Нила. Характерной особенностью его пьес не без оснований считают трагический разлад между мечтой и реальностью. Обычно эта ситуация ведёт к утрате иллюзий, невозможности для личности, хранящей веру в некий идеал, найти своё место в окружающей действительности. Слепком социума у О'Нила оказывается
семья — то сжатое пространство, где бушуют различные конфликты: между отцами и детьми, мужем и женой, сознательным и бессознательным, полом и характером. Их истоки коренятся в прошлом, с трагической неизбежностью подчиняющем себе настоящее. Былая вина требует искупления, и часто действующие лица пьес вынуждены взять на себя ответственность за грех, совершённый не ими. Отсюда дополнительные измерения как трагического конфликта, так и определённой им о'ниловской философии трагедии. Герой находится в борьбе с самим собой, с своим призванием, природой, Богом.
Общность проблематики свидетельствует о том, что стилистическое богатство и разнообразие пьес неслучайно. О'Нил — один из самых ищущих авторов театра XX века. Его поиск сопровождался творческими кризисами и даже угрозой провала. Цель нашей диссертации — доказать, что трагедия видится О'Нилу не раз и навсегда сложившимся, "каноническим", жанром с определённой тематикой и средствами её театрального воплощения. Модернистская трагедия требует от своего создателя принципиального эклектизма, способности творчески осмыслить самые разные взгляды на трагическое, для того чтобы предложить новый взгляд на назначение этого древнейшего вида драмы. Тем более это верно по отношению к О'Нилу: его творчество действительно позволяет говорить о вполне оригинальной философии трагедии. В центре нашего внимания оказывается не столько трагедия как жанр, сколько о'ниловская "версия" трагедии человека XX столетия.
Термин "философия трагедии", заимствованный нами у русских мыслителей (Н. А. Бердяева, Льва Шестова), позволяет указать на те стороны драматургии О'Нила, которым до сих пор, на наш взгляд, не уделялось
достаточного внимания, тогда как они составляют сердцевину художественного
'* мира, созданного американским писателем.
В работе 1902 года "К философии трагедии. Морис Метерлинк" Бердяев утверждает, что Метерлинк понимает самую внутреннюю сущность человеческой жизни как трагедию: "Трагическое миросозерцание Метерлинка
и » проникнуто глубоким пессимизмом, он не видит исхода и примиряется с жизнью
' " только потому, что «мир может быть оправдан как эстетический феномен».
Метерлинк не верит ни в могущество человеческой воли, активно пересоздающей жизнь, ни в могущество человеческого разума, познающего мир и освещающего путь"1. Важно, что, говоря о философии трагедии, Бердяев концентрирует внимание на миросозерцании не мыслителя, но драматурга, для
і» которого философствование — не самоцель, но органическая составляющая
собственно художественных поисков. "Человек пережил новый опыт, небывалый, потерял почву, провалился, и философия трагедии должна этот опыт обработать"2, — читаем в работе "Трагедия и обыденность" (1905). Акцент, нам думается, сделан именно на художественной обработке опыта, и, что немаловажно, опыта индивидуального. Драматург должен найти адекватную форму воплощения трагедии именно конкретной личности, своего современника.
На связь философии трагедии с конкретной человеческой судьбой обращает внимание Шестов в работе "Достоевский и Ницше. Философия трагедии" (1903). Подобно Бердяеву, он говорит о "небывалом" опыте: "Есть
1 Бердяев Н. А. К философии трагедии. Морис Метерлинк // Бердяев Н. А. Философия творчества,
культуры и искусства: В 2 т. — Т. 1. — М.: Искусство, 1994. — С. 206.
2 Бердяев Н. А. Трагедия и обыденность // Там же. — С. 220.
область человеческого духа, которая не видела ещё добровольцев: туда люди идут лишь поневоле. Это и есть область трагедии. Человек, побывавший там, начинает иначе думать, иначе чувствовать, иначе желать. <...> Он пытается рассказать людям о своих новых надеждах, но все глядят на него с ужасом и недоумением"3. Приобретение нового знания о страшных и загадочных сторонах жизни дается дорогой ценой, грозит всеобщим отчуждением. Тем не менее, оно необходимо. Трагедия, по мысли Шестова, неизбежно ведёт к "переоценке всех ценностей", а значит, не позволяет довольствоваться готовыми истинами, провоцирует на поиск своей "правды". Таким образом, согласно Шестову, "философия трагедии" противостоит "философии обыденности", то есть нетворческому отношению к жизни.
Термин "философия трагедии" удобен также тем, что не исключает парадоксальности, неоднозначности понимания трагического. Для О'Нила на первом месте оказывается, конечно, не строгая системность его умозаключений, но художественная правда. Его высказывания о трагедии могут на первый взгляд показаться противоречивыми. Но, облекая свои идеи в образы, он выводит их на авансцену посредством сценических символов, призванных не постулировать истину, но лишь предвосхищать её.
Стилистика термина, как нам кажется, соответствует не только специфике о'ниловского миросозерцания, по сути своей постромантического, постницшевского, но и общему движению западной культуры на рубеже веков — от символистской изощрённости (эстетики недоговорённости) к искусству более персоналистски акцентированному. Ведь "философия трагедии" —
Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. — P.: Ymca-Press, 1971. — С. 16.
явление, тесно связанное с неоромантической идеей личности, творящей свой кодекс поведения, свою религию и мифологию, чтобы освободиться от власти обыденности. Тем более уместно исследование "философии трагедии" драматурга, чьи художественные поиски, органически вырастающие из культуры рубежа веков, связаны с важнейшим вопросом, поставленным новым веком — вопросом об экзистенциальной природе человека, о возможности воплотить свою свободу. На эту культурную преемственность указывает российский исследователь В. М. Толмачёв: "Наиболее последовательно неоромантическая идея личности в XX веке представлена в философии (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр) и литературе экзистенциализма (Э. Хемингуэй, А. Камю), где ценность личного поступка, пусть отрицательно выраженная, даётся на фоне «смерти богов», столкновения со стихией, «ничто», «абсурдом»"4.
Итак, научная новизна диссертации определяется тем, что творчество американского драматурга рассматривается сквозь призму "философии трагедии". Соответственно, жанровые особенности трагедии оказываются за пределами нашего внимания. Вернее, каноны жанра интересны нам только в той степени, в какой они позволили О'Нилу реализовать его замыслы философствующего художника. О'Нил — трагик, самостоятельно творящий законы, по которым существует его художественный универсум.
Наиболее авторитетные исследователи драматургии О'Нила (Дж. Рэли, О. Каргилл, Э. Торнквист, Т. Богард) традиционно делят его творчество на три периода. К первому (середина 1910-х — начало 1920-х годов) относят ранние
4 ТолмачСв В. М. Неоромантизм и английская литература начала XX века // Зарубежная литература конца XIX — начала XX века / Под ред. В. М. ТолмачСва. — М: Изд. центр «Академия», 2003. — С.
одноактные, так называемые "морские" пьесы: сборник "Жажда и другие одноактные пьесы" (Thirst and Other One-Act Plays, 1914), сборник "Курс на восток, в Кардифф и другие пьесы" (Bound East for Cardiff and Other Plays, 1916). Сюда же следует отнести пьесы: "За горизонтом" (Beyond the Horizon, 1920), в которой впервые оппозиция реальность — мечта воплощается в противопоставлении оседлой жизни на ферме путешествиям в дальние страны; "Золото" (Gold, 1921) с центральной темой собственничества; "Непохожий" (Diffrent, 1921), "Анна Кристи" (Anna Christie, 1922), где парадоксы современной души рассматриваются сквозь призму женских судеб; "Император Джонс" (The Emperor Jones, 1920) и "Косматая обезьяна" (The Hairy Аре, 1922), испытавшие влияние экспрессионизма; "Спаяны" (Welded, 1924) и "Крылья даны всем детям Божьим" (All God's Chillun Got Wings, 1924), развивающие стриндберговские мотивы "любви-ненависти" между полами.
Второй период творчества (середина 1920-х — 1930-е годы) в большей степени связан с формальным экспериментированием: "Великий Бог Браун" (The Great God Brown, 1926), где маска — основной элемент выразительности; "Лазарь смеялся" (Lazarus Laughed, 1927) с его необычной музыкально-смеховой "партитурой"; "Марко-Миллионщик" (Marco Millions, 1927), вписывающийся в традицию поэтического театра; "Динамо" (Dynamo, 1929), где современным "богом" становится электричество. "Католическая" драматургия ("Дни без конца", Days Without End, 1934) соседствует с оригинальным неоязычеством ("Траур — участь Электры", Mourning Becomes Electra, 1931), позволяющим использовать древний миф для создания современной трагедии. Интерес к трагическому конфликту между сознательным и бессознательным в полной мере отразился на образности "Странной интерлюдии" (Strange Interlude, 1928).
Поздний период творчества драматурга приходится на 1940-е годы, следует за несколькими годами "молчания" (конец 1930-х годов). Внешне близкие жанру психологической драмы, пьесы "Долгий день уходит в ночь" (Long Day's Journey into Night, 1940), "Разносчик льда грядёт" (The Iceman Cometh, 1940; пост. 1946), "Луна для пасынков судьбы" (A Moon for the Misbegotten, 1945; пост. 1947), "Душа поэта" (A Touch of the Poet, 1946) придают любимым о'ниловским темам (утраченные иллюзий, власть прошлого над настоящим) символическое измерение, возводят противоречия современности в ранг истинно трагических.
В изучении творчества О'Нила можно выделить несколько этапов5. Первый (1920-е — середина 40-х годов) связан с интерпретацией его ранних пьес. Наибольшего внимания заслуживают четыре работы, поскольку в них, по нашему мнению, намечены главные направления исследований на ближайшие тридцать лет.
Первая — монография Э. Микла "Шесть пьес Юджина О'Нила" (Six Plays of Eugene O'Neill, 1929). Критик уделяет внимание пьесам "Анна Кристи" (Anna Christie, 1922), "Косматая обезьяна" (The Hairy Аре, 1922), "Великий бог Браун" (The Great God Brown, 1926), "Источник" (The Fountain, 1926), "Марко-Миллионщик" (Marco Millions, 1927), "Странная интерлюдия" (Strange Interlude, 1928). Микл чрезвычайно высоко оценивает эти пьесы, сравнивая О'Нила с Шекспиром, Ибсеном, Гёте. Он одним из первых подмечает в них характерные
Miller J. Y. Eugene O'Neill and the American Critic: A Summary and Bibliographical Checklist. — L.: Archon books, 1962. — VIII, 513 p.; Atkinson J. Eugene O'Neill: A Descriptive Bibliography. — Pittsburgh (Pa.): Pittsburgh UP, 1974. — XXIII, 410 p.; Eugene O'Neill: Research Opportunities and Dissertation Abstracts / Ed. by T. Hayashi. — Jefferson (N. C), L.: McFarland, 1983. — X, 155 p.; Фридштейн Ю. Г. Юджин О'Нил: Библиографический указатель / Сост. и авт. вступит, ст. Ю. Г. Фридштейн. —- М.: Книга, 1982. — 105 с.
черты трагедии, высокой драмы: "The man who went forth to face the daily domestic round is suddenly shown face to face with the tremendous, unconquerable, elemental forces against which is spent all the vital energy of man. The great human dramatists use exactly the same methods"6. Таким образом, Микл обращает внимание на определённую сюжетную модель, которая лежит в основе о'ниловских пьес. В одном из пассажей он даёт ей дополнительную характеристику: "The characters never lose touch with the real, but are never out of touch with the beyond-real" 7.
Противоположные трактовки не заставили себя долго ждать. В работе В. Геддеса "Мелодраматичность Юджина О'Нила" (The Melodramadness of Eugene O'Neill, 1934) трагедия в о'ниловской интерпретации низводится до уровня мелодрамы, которой, к тому же, отказывается в театральности ("In the world of theatre... O'Neill is not at home"8). В сущности, работа эта чрезвычайно проницательно подмечает "слабости", действительно свойственные театру О'Нила 1920-х — 1930-х годов. Можно согласиться с мнением Геддеса относительно пьесы "Дни без конца" (Days Without End, 1934: "Drama and philosophy in his plays do not harmonize in a smooth convincing rhythm"9. Исследователь подмечает тот перевес в сторону философских умозаключений, который и в дальнейшем будет отрицательно сказываться на художественной целостности пьес.
Mickle A. D. Six Plays of Eugene O'Neill. — L.: Cape, 1929. — P. 19. 7Ibid—P. 52.
8 Geddes V. The Melodramadness of Eugene O'Neill. — Brookfield (Mo.): The Brookficld Players, 1934. — P.
8.
9 Ibid— P. 12 — 13.
Интересно различие в трактовке о'ниловского "косноязычного
* красноречия" у последующих исследователей и в работе Геддеса: "Не is an
example of a man at war with art. Expression with him is something he does not love
to do; it is too much like a confession, an embarrassment of the heart wrung from him
against his will" 10. Что же касается мелодраматичности, то использование
- (Шилом клише (эффектное появление главного героя, солилоквий, апарте,
запоминающиеся звуковые и живописные образы) будет последовательно рассмотрено Дж. Рэли в монографии "Пьесы Юджина ОНила" (The Plays of Eugene O'Neill, 1965). Критик демонстрирует связь этих клише с водевилем "Монте-Кристо", спектаклем, в котором главную роль исполнял отец драматурга.
* Третье интересующее нас исследование принадлежит Р. Скиннеру:
"Юджин ОНил: поэтические искания" (Eugene O'Neill: A Poet's Quest, 1935).
Драматург воспринимается критиком как поэт-католик (наличие своего рода
католического мировидения у О'Нила несомненно; как и у многих англо
американских модернистов отношение у него к вере и католической традиции
двойственное, соткано из любви-ненависти), воплотивший в пьесах
противоречия своего духовного мира Этот поэт сравнивается Скиннером со
святым, а поэтическая способность понимания другого Я, равно как и
заложенные в поэте возможности многих Я, сопоставлены с соблазнами
("temptations"), возникающими перед святым: "... it is precisely because the poet
reacts as he does to his own potential weaknesses that he is able to create the objective
material for his work of art. Like the saints, he, above most other men, understands the
10 Ibid. — P. 7.
sinner and fears the sin"11. Подобный подход позволяет исследователю
« сформулировать определённое лирическое свойство драматургии О'Нила: "...the
quality of continuous poetic progression, linking them
inner bond. They have a curious way of melting into one another, as if each play were
merely a chapter in the interior romance of a poet's imagination" .
* Ещё одно направление исследований — это рассмотрение драматургии
О'Нила в свете идей психоанализа. Первая работа подобного рода принадлежит В. Хан: "Пьесы Юджина О'Нила: психологический анализ" (The Plays of Eugene O'Neill: A Psychological Analysis, 1939).
Следует отметить, что всплеск интереса к творчеству драматурга пришёлся
на 1950-е годы, когда выходят, в частности, две литературных биографии: "Часть
« долгой истории" (A Part of a Long Story, 1958), принадлежащая Агнес Боултон,
второй жене О'Нила, и "Проклятье пасынков судьбы" (The Curse of the Misbegotten: A Tale of the House of O'Neill, 1959) К. Боуэна, написанная совместно с сыном О'Нила, Шином. В это же время появляются две монографии, в оценке творчества О'Нила придерживающиеся трактовки, намеченной ещё Э. Миклом. Первая — Э. Энджела, "Преследуемые герои Юджина О'Нила" (The Haunted Heroes of Eugene O'Neill, 1953). Вторая принадлежит Д. Фол к — "Юджин О'Нил и трагические противоречия" (Eugene O'Neill and the Tragic Tensions, 1958). Исследовательница сравнивает героев О'Нила с персонажами Э. По, Г. Мелвилла и Ф. М. Достоевского, выявляя в них черты некоего архетипа (Эдип — Макбет — Фауст — Ахав). Д. Фолк обращает внимание на сходство
11 Skinner, Richard D. Eugene O'Neill: A Poet's Quest. — N. Y. (N. Y.): Russel & Russel, 1964. — P. 29.
12 Ibid. — P. IX.
взглядов К. Г. Юнга (оказавшего большое влияние на американского драматурга) и О'Нила в отношении к "вечно существующему" противоречию между сознательным и бессознательным: "Men must find self-knowledge and a middle way which reconciles the unconscious needs with those of the conscious ego. This means that life inevitably involves conflict and tension, but that the significance of this pain is the growth which Jung calls "individuation" — the gradual realization of the inner, complete personality through constant change, struggle and process" 13. Именно в силу этого обстоятельства персонажи о'ниловской драматургии обречены вновь и вновь бороться с самими собой.
В 1960 — 1970-е годы появляется несколько содержательных биографий драматурга. Это работы Д Александер "Становление Юджина О'Нила" (The Tempering of Eugene O'Neill, 1962); Артура и Барбары Гелб — "О'Нил" (O'Neill, 1962); Л. Шеффера — "О'Нил: сын и драматург" (O'Neill: Son and Playwright, 1968), "О'Нил: сын и художник" (O'Neill: Son and Artist, 1973).
В 1965 году выходит уже упоминавшаяся монография Д. Рэли "Пьесы Юджина О'Нила", ставшая во многом классической. Исследователь рассматривает как содержательную, так и формальную стороны драматургии О'Нила. Он начинает с анализа особой космологии пьес и приходит к мысли, сходной с мнением Д. Фолк. В основе художественного универсума О'Нила — принцип полярности, напряжения между противоположными полюсами, которые одновременно несовместимы и неотделимы друг от друга. Рэли подходит к данному вопросу менее абстрактно, чем Фолк, и рассматривает вселенную О'Нила в её разделённое на море и сушу, сельскую местность и
13 Falk, Doris V. Eugene O'Neill and the Tragic Tension: An Interpretive Study of the Plays. — New Brunswick (N.J.): Rutgers UP, 1958. — P. 7.
город, день и ночь. Имея в виду такую полярность, Рэли рассуждает об основных темах драматургии (Шила, о том, каким предстают перед нами о'ниловские Бог, история, человечество. В своём разборе исторических пьес исследователь приходит к выводу, что О'Нилу близок викторианский подход к передаче исторических реалий в литературе. Он приводит слова самого драматурга: "I do not think that you can write anything of value or understanding about the present. You can only write about life if it is far enough in the past. The present is too much mixed up with superficial values; you can't know which thing is important and which is not"14. Прошлое и настоящее — это тоже своего рода полюса.
Главу "Человечество" (Mankind) — одну из лучших в книге — Рэли посвящает расовой проблеме у О'Нила (негры и белые, ирландцы и янки), теме мужского и женского начал, а также концепции личности. Рассматривая драматическую структуру ("dramatic structure or organization") о'ниловских пьес, а также функцию ремарок и диалога в них, Рэли аппелирует к мысли М.Пруста, согласно которой каждый большой художник выхватил из бесконечного потока опыта некую картину ("basic picture"), ставшую для него метафорой всего человеческого существования. Понятие такой картины-метафоры чрезвычайно уместно при разборе именно драматического произведения. Рэли полагает, что основная картина-метафора творчества О'Нила — скорбящая женщина.
Технике О'Нила специально посвящены две работы, вышедшие в конце 1960-х годов: монография Э. Торнквиста "Драма душ" (A Drama of Souls: Studies in O'Neill's Supernaturalistic Techniques, 1968), а также исследование Т. Тиусанена "Сценические образы О'Нила" (O'Neill's Scenic Images, 1968). Автор первой
14 Raleigh, John Н. The Plays of Eugene O'Neill. — Carbondale-Edwardsville (11.): Southern Illinois UP, 1965. — P. 36.
работы приводит слова драматурга, произнесённые им в интервью 1924 года: "I hardly ever go to the theatre, although I read all the plays I can get. I don't go to the theatre because I can always do a better production in my mind than the one on the stage..."15. Казалось бы, О'Нил, на основании подобных взглядов на творчество, должен создавать "драмы для чтения", не заботясь об их сценичности. Действительно, продолжая свои рассуждения, Торнквист замечает, что О'Нил уделял обширным ремаркам в своих пьесах не меньше внимания, чем диалогу, что наделяет их свойствами эпических произведений. По мнению исследователя, драматург пытался доказать, что пьеса, не поставленная на сцене, ценна как литературное произведение. Тем не менее, Торнквист принимает во внимание возможность сценической интерпретации пьесы и видит свою задачу в определении смысловой значимости её собственно драматургической структуры: "In agreement with O'Neill's own usage of the term as I understand it, «supematuralism"» will thus be employed in a wide sense. Any play element or dramatic device - characterization, stage business, scenery, lighting, sound effects, dialogue, nomenclature, use of parallelism — will be considered supernaturalistic if it is dealt with in such a way by the dramatist, that it transcends (deepens, intensifies, stylizes or openly breaks with) realism in the attempt to project what O'Neill terms «behind-life"» values to the reader or spectator"16.
Попытка рассмотрения пьес ОНила как произведений драматического искусства удалась автору лишь второй из упомянутых монографий. Тиусанен специально оговаривает основополагающий принцип чтения пьесы: "... the stage
15 Tomqvist, Egil. A Ehrama of Souls: Studies in O'Neill's Super-Naturalistic Technique. — New Haven (Ct):
Yale UP, 1969. — P. 23.
16 Ibid.—P. 43.
is, or should be, ever present in our imagination as readers — as it has been in the
* playwright's mind" . В своей работе он уделяет внимание четырём из шести
составляющих трагедии, обозначенных в аристотелевской "Поэтике": 1)
"фабуле" 18 или структуре пьесы (plot or structure), в той мере в какой на них
влияют сценические выразительные средства; 2) "словесному
вьіражению"^і(Ліоп); 3) "музыкальной композиции" ("the Lyrical or Musical
element provided by the Chorus"); 4) "сценической обстановке" ("the Spectacular").
Тиусанен обращает особое внимание на то, что драматург достигает своей цели
не только с помощью языка, диалога, но и посредством освещения, музыки,
сценографии.
К работам, посвященным рассмотрению драматургического мастерства
' ОНила, относятся также две монографии, вышедшие в 1970-е годы. Это —
работа Т. Богарда "Контуры времени: пьесы Юджина О'Нила" (Contour in Time: The Plays of Eugene O'Neill, 1972) и исследование Л. Чеброу "Ритуал и пафос — театр О'Нила" (Ritual and Pathos — The Theatre of O'Neill, 1976). В работе Чеброу наиболее убедительно доказывается связь формальных поисков драматурга с древнегреческой трагикой.
Довольно нетрадиционная для исследователей О'Нила монография принадлежит Дж. Робинсону: "Юджин ОНил и мысль Востока. Двойное видение" ("Eugene O'Neill and Oriental Thought: A Divided Vision, 1982). В ней анализируется влияние индуизма, буддизма, даосизма на тематику и образность о'ниловских пьес. Вместе с тем Робинсон приходит к выводу, что драматург не
17 Tiusanen, Timo. O'Neill's Scenic Images. — Princeton (N.J.), Princeton UP, 1968. — P. 3.
18 Русскоязычные термины приведены в переводе В. Г. Аппельрота // Аристотель. Об искусстве поэзии.
М: Худож. лит., 1957. — С. 58.
мог отрешиться от дуалистического западного мировосприятия, лежащего в основе его трагического видения.
В последние годы возрос интерес к исследованию творчества драматурга с позиций психоанализа, что подтверждают работы Б. Воглино — "«Расстроенная психика»: Борьба О'Нила с замкнутостью" («Perverse Mind»: Eugene O'Neill's Struggle with Closure, 1999), а также и С. Блэка — "Юджин О'Нил: За пределами траура и трагедии" (Eugene O'Neill: Beyond Mourning and Tragedy, 1999). Монография Блэка представляет собой первый опыт последовательной психоаналитической биографии драматурга. Основная мысль Блэка заключается в том, что О'Нил сознательно использовал писательство как средство подвергнуть себя психоанализу. Уделяя значительное внимание о'ниловскому восприятию трагедии, Блэк ставит целью показать, как происходило движение от осознания трагичности бытия через длительный период самоанализа к представлениям, находящимся за пределами трагического мироощущения.
В книге "Современные теории драмы: Избранные статьи о драме и театре, 1840 — 1990" (1998), вышедшей под редакцией Г. У. Бранда, о'ниловское представление о задачах театрального искусства рассматривается как пример "антинатурализма" ("anti-naturalism") и вписывается в одну традицию с французскими сюрреалистами (Г. Аполлинер), итальянскими футуристами (Ф. Т. Маринетти), такими видными деятелями европейского театра, как А. Аппиа, Г. Крейг, А. Арто.
Работы немца К. Мюллера "Реальность, воплощённая на сцене" (Inszenierte Wirklichkeiten: Die Erfahrung der Moderne im Leben und Werk Eugene O'Neills, 1993) и американского исследователя 3. Брицке "Эстетика неудачи" (The Aesthetics of Failure: Dynamic Structure in the Plays of Eugene O'Neill, 2001)
объединяет интерес к формальным поискам драматурга, к его стремлению найти
современный сценический язык для воплощения основных тем его творчества.
Из русскоязычных работ следует упомянуть книгу А. С. Ромм "Американская драматургия первой половины XX века" (1978), в которой творчеству (Шила отведена одна из глав, а также монографию М. М. Кореневой
— "Творчество Ю. О'Нила и пути американской драмы" (1990), многостороннее освещающую обозначенную проблематику. Исследовательница не только анализирует творчество О'Нила, но и помещает его драматургию в контекст развития американского театра в целом. Коренева рассматривает два вида трагедий у О'Нила — "трагедию личности", строящуюся вокруг одного центрального героя, и "всеобщую трагедию", где конфликт "рассеян", не
исчерпывается прямым столкновением протагониста с антагонистом. М. М. Коренева настаивает на социально-политических причинах "глубинной трагедии современного человека, отчуждённого от своей истинной сущности, человека, чьё достоинство попрано различными формами узаконенного неравенства, чьи духовные устремления растоптаны обществом, подчинившимся грубо материальным целям"19. На наш взгляд абсолютизация роли "среды" в о'ниловских пьесах искажает его трагическое видение. В этом смысле проницательнее понимание трагического О'Нилом сформулировал российский исследователь С. М. Пинаев, автор монографии "Поэтика трагического в американской литературе. Драматургия О'Нила" (1988): "Под «сегодняшней болезнью» он понимал «смерть старого Бога и неспособность науки и материализма выдвинуть нового, удовлетворяющего первобытный природный инстинкт поисков смысла жизни и избавления от страха перед смертью». С
19 Коренева М. М. Творчество Ю. О'Нила и пути американской драмы. — М.: Наука, 1990. — С. 11.
большим мастерством отображая симптомы «болезни» души и сознания
« современного человека, он тщетно искал причины, вызвавшие эту болезнь" .
Но и это замечание нуждается, на наш взгляд, в некоторой корректировке. Трагедия для О'Нила не средство указать на "болезни" века, он не занимается классификацией общественных недугов. Обращение именно к трагедии
« продиктовано природой его дарования, характером артистического
темперамента, литературными склонностями. Для того, чтобы увидеть в
«
американской действительности материал для создания трагедии, был нужен
художник особого склада. Поклонник Уайлда и Бодлера, Стриндберга и Ницше,
личность с неординарной судьбой, О'Нил "искал" адекватную форму для
воплощения собственных замыслов. Указывая на критическую направленность
1 драматургии О'Нила, исследователи забывают о глубоко оптимистической
трактовке драматургом самой сути трагедии (см. Глава I), ставшей для него путём к пониманию современной души.
Итак, главная цель данной диссертации проанализировать философию трагедии О'Нила, вокруг которой строится весь художественный мир драматурга.
Для решения этой задачи нами выбраны пьесы "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Разносчик льда грядёт", "Луна для пасынков судьбы". С одной стороны, они позволяют проследить трансформацию традиционных трагических тем (роковое проклятье, жертвоприношение) в театре одного из самых оригинальных драматургов XX века. С другой, — именно эти пьесы убедительно доказывают, что О'Нил создал трагический универсум,
20 Пинасв С. М. Эпоха выскочек или второе открытие континента // Американский литературный ренессанс XX века / Сост. С. М. Пинасв. — М: Азбуковник, 2002. — С. 42.
существующий по собственным, неповторимым законам. "Император Джонс" и
"Крылья даны всем детям Божьим" — яркие образцы пластического театра, дающие возможность указать на сценическую выразительность о'ниловской трагедии. Позднейшие пьесы обнаруживают другие стороны художественного мира драматурга. В "Разносчике льда" и "Луне для пасынков судьбы"
скрупулёзная психологическая разработка характеров неотделима от их символической трактовки. Следовательно, выбранные пьесы позволяют представить философию трагедии О'Нила в её динамике.
Исследуя творчество американского драматурга, мы опирались на общие работы по теории и истории трагедии. Среди них монографии, ставшие по-своему классическими: "Сокровенный Бог" (Le Dieu Cache, 1959) Л. Гольдмана,
* "Трагическое видение" (The Tragic Vision, 1960) М. Кригера, "Смерть трагедии"
(The Death of Tragedy, 1961) Дж. Стайнера, "Трагедия и теория драмы" (Tragedy
and the Theory of Drama, 1961) Э. Ольсона. Описание основных черт
трагического видения подводит авторов к анализу конкретных философских и
литературных произведений. Непосредственно трагедии О'Нила уделяется
внимание в работе Э. Ольсона, а также в монографиях Р. Б. Хейлмана
"Разносчик льда, Поджигатель и Страдающий Протагонист" (The Iceman, the
Arsonist, and the Troubled Agent: Tragedy and Melodrama on the Modern Stage,
1973), P. Б. Сьюэла "Видение трагедии" (The Vision of Tragedy, 1980), Дж. Oppa
"Трагическая драма и современное общество" (Tragic Drama and Modern Society,
1989). Плодотворным для данной диссертации оказалось различение
"трагического", "трагедии" и "трагического видения", сформулированное, в
частности, американским исследователем У. Стормом в книге "После Диониса"
(After Dionysus: A Theory of the Tragic, 1998): "Whereas vision and tragedy are
man-made, the tragic is not; it is, rather, a law of nature, a specific relationship of being and cosmos"21.
Следует особо сказать, почему нами выбраны именно эти работы. В них представлены два принципиально разных подхода. Цель одних исследователей (Ольсон, Хейлман) — определить соответствие или несоответствие трагедий О'Нила гипотетическим законам жанра, что, на наш взгляд, искажает неповторимый художественный мир писателя. Уместнее попытаться увидеть в драматурге неканонического трагика. Именно с этих позиций к его творчеству обращается Сьюэл в "Видении трагедии". Он утверждает, что в XIX веке "эстафету" шекспировской трагедии подхватил не театр, а роман (Н. Готорн, X. Мелвилл, Ф. М. Достоевский). Только с появлением X. Ибсена и Ю. О'Нила театр вновь обрёл оригинальных трагиков. Следовательно, "трагедия" понимается исследователем широко, не как жанр, а как квинтэссенция особого мировидения. В этом Сьюэл следует за Кригером, полагающим, что к современной трагедии следует подходить не формально, а тематически.
При анализе конкретных текстов мы опирались на методологию
"тщательного чтения", предложенную американской "новой критикой", в
частности К. Бруксом и Р. Б. Хейлманом в "Понимании драмы" (Understanding
drama, 1948).
* * *
Первая глава данного исследования посвящена рассмотрению философии трагедии О'Нила на материале писем, статей, интервью драматурга. В ней анализируется влияние М. Штирнера, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше на о'ниловское понимание трагедии и её художественное воплощение.
21 Storm W. After Dionysus: A Theory of the Tragic. — Ithaca: Cornell UP. 1998. —P. 18.
Вторая глава состоит из двух разделов, в которых в свете данной проблематики подробно рассмотрены пьесы О'Нила: "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Луна для пасынков судьбы", "Разносчик льда грядёт".
В заключении подводятся итоги исследования. Философия трагедии О'Нила вписывается в контекст литературных и общекультурных исканий межвоенной эпохи.
Философия трагедии Ю. О'Нила
О Нил неоднократно сравнивал своё понимание идеи трагического с представлениями о ней греков и елизаветинцев. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что о ниловское понимание трагедии восходит не столько к грекам ("Поэтика" Аристотеля), сколько к распространённым во второй половине XIX века идеям трагического в искусстве и трагизма человеческого существования (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
Уже в интервью 1920-х годов О Нил говорит о своём особом понимании законов жанра. Он сознательно отмежёвывается от житейского, обиходного понимания трагического: "People talk of the «tragedy» in them, and call it «sordid», «depressing», «pessimistic»..." \ Трагедия ничего общего с пессимизмом не имеет:
"... tragedy, I think, has the meaning the Greeks gave it. To them it brought exaltation, an urge toward life and ever more life. It roused them to deeper spiritual understandings and released them from the petty greeds of everyday existence. When they saw a tragedy on the stage they felt their own hopeless hopes ennobled in art"2.
Итак, О Нил видит своих весьма условных "союзников" в греках. Трагедия несла с собой восторг ("exaltation"), высокую ноту. Она побуждала к жизни, но её дионисическая сила была столь велика, что невольно манила выйти за рамки
1 O Neill Е. Eugene O Neill: Comments on the Drama and the Theatre. — Tubingen: Narr., 1987. — P 25.
2 Ibid. P. 25—26. повседневности. Она придавала идеальное измерение земному бытию. Освобождая от мелочных каждодневных забот, она вела к духовным прозрениям.
Для о ниловского восприятия трагедии чрезвычайно важно противопоставление обыденного и трансцендентного опыта. В его художественном мире ярко заявляют о себе два полюса — повседневность и мечта. Погружённый в обыденную жизнь, человек ощущает свою неполноценность. Для героя О Нила — идеалиста и мечтателя — недоступным оказывается именно то, что он считает подлинной ценностью. Повседневность подавляет человека хотя бы потому, что он слишком слаб, чтобы бросить ей вызов. Часто бремя обыденности воплощается в образе оседлой жизни — фермерского хозяйства ("За горизонтом"; "Страсть под вязами", Desire under the Elms, 1924; "Луна для пасынков судьбы"), которым мечтатель связан по рукам и ногам. Мечта же властвует над о ниловским персонажем потому, что идеализм — врождённое, природное свойство его характера. Тем не менее, она постоянно ускользает. Сфере идеального, как и повседневности, присуща определённая ущербность.
Поэтому и возникает в ранее приведённых словах драматурга образ "безнадёжной надежды" ("a hopeless hope") — один из центральных в о ниловской философии трагедии. Его наличие в человеческой жизни драматург объясняет так:
"... any victory we may win is never the one we dreamed of winning! Achievement, in the narrow sense of possession, is a stale finale. The dreams that can be completely realized are not worth dreaming. The higher the dream, the more impossible it is to realize it fully. But you would not say, since this is true, that we should dream only of easily attained ideals" 3.
Итак, любое достижение, любая "победа" никогда не удовлетворит о ниловского мечтателя, она никогда не совпадёт с идеалом, существующим в его воображении. Таким образом, "безнадёжная надежда" — это несбыточная мечта. Это удалённая точка, "путеводная звезда", которую человек сам создаёт для себя во времени или в пространстве. Чем она недоступней, тем предпочтительней, тем больше влечёт о ниловского героя. Неудача идеалиста закономерна для тех, кто удачу и достижение понимает "узко" ("achievement, in the narrow sense of possession"). На самом деле, причина поражения — в конечной неполноценности мечты.
Вот один из примеров. Нет ничего необычного или трагического в выборе того, что мы назвали "путеводной звездой". Человеку свойственно строить планы и стремиться к достижению цели. Такой человек смотрит в будущее. А куда обращен взгляд о ниловского персонажа? Где его "путеводная звезда"? Корнелиус Мелоди ("Душа поэта", The Touch of the Poet, 1946) стремится соответствовать образу джентльмена, созданному его воображением ещё в молодости. Джейми Тайрон ("Луна для пасынков судьбы") хочет, чтобы любимая девушка оказалась способна на такое понимание и прощение, какого он не встретил со стороны покойной матери. Мэри Тайрон ("Долгий день уходит в ночь", Long Day s Journey into Night, 1940) принимает наркотики, стремясь забыть большую часть своей жизни (замужество, рождение сыновей) и вернуться к дням юности, когда она воспитывалась в монастыре.
Все эти мечты оказываются a priori несбыточными: цель — в невозвратимом прошлом. И дело не только в том, что былого не воротишь, но в том, что герой тщетно пытается ухватиться за собственную иллюзию. Таким, каким он его себе представляет, "прошлое" никогда и не было. Порой эти устремления доведены до абсурда. Логика пьесы "Косматая обезьяна" позволяет предположить, что Янк Смит, отказываясь принадлежать виду Homo Sapiens, пытается повернуть эволюцию вспять и гибнет в клетке гориллы.
Рассуждая о трагедии, ОНил утверждает, что только о несбыточном и стоит мечтать. Мечта недостижима, но важен путь, который человек проходит в своём стремлении осуществить её. Этот тезис может показаться весьма произвольным, ведь пьесы драматурга демонстрируют подчас крах жизни. С одной стороны, это так. С другой, для СШила важно, что не получая того, о чём мечтал, человек в борьбе за свою мечту становится собой, "непохожим" ("diffrent"):
"The individual life is made significant just by the struggle, and the acceptance and assertion of that individual, making him what he is, and not, [as] always in the past, making him something not himself .
Именно на этом пути персонаж о ниловской трагедии одерживает главную победу: он остаётся верен себе. "Долгое путешествие" за недостижимой мечтой формирует человеческую личность. Путь, пройденный героем, оказывается только "своим", но вот говорить о личном выборе пути, пожалуй, не приходится. О ниловский персонаж во многом — фаталист.
"A man wills his own defeat when he pursues the unattainable"5, — читаем мы у О Нила. Человек, стремящийся к недостижимому, словно превращает свою
жизнь в долгое жертвоприношение. Мечта о невозможном, в о ниловской интерпретации, оказывается жаждой поражения, своего рода влечением к смерти. Герой, отважившийся мечтать, является жертвой, неминуемо должен погибнуть. Каков смысл этого символического жертвоприношения? Человек, ставящий перед собой высокие цели, стремящийся вырваться за рамки того, что доступно обывателю, помогает, по мысли драматурга, обнаружить в жизни тот высокий смысл, который присутствует в ней подспудно.
"Не is an example of spiritual significance which life attains when it aims high enough, when the individual fights all the hostile forces within and without himself to achieve the future of nobler values".
В этом высказывании можно уловить отголоски своеобразного ницшеанства. Также следует обратить внимание на то, что борьба, которую ведёт персонаж О Нила, — это, прежде всего, не борьба с внешними силами, но борьба с самим собой, с собственной природой, навязчивыми воспоминаниями, иллюзиями. Конфликт коренится во внутреннем мире персонажа, пусть даже он явлен весьма театрально, с экспрессией, свойственной европейскому театру 1920-х годов ("Император Джонс", "Лазарь смеялся").
Темы жертвы и рока: "Император Джонс", "Крылья даны всем детям Божьим", "Луна для пасынков судьбы
В данной главе рассматривается вопрос о том, на каком материале и какими средствами художественного языка О Нил выстраивает современную трагедию.
Темы жертвы и жертвоприношения, роковой борьбы с судьбой, подспудно всегда присутствующие в о ниловских драмах, представлены с особенной выразительностью в пьесе "Император Джонс". Персонажи поздней драматургии чувствуют себя жертвами прошлого и судьбы, подчас друг друга. В "Императоре Джонсе" жертвоприношение театрализуется, выводится на авансцену как завораживающий ритуал, в который вовлекается главный герой. Шаман, джунгли, бог в образе крокодила — вполне оправданные атрибуты гротескного универсума, созданного СНилом в этой трагедии.
"Императора Джонса" отличает сюжетный динамизм и своего рода фантасмагоричность. Преувеличение, отсутствие меры и в преступлении и в искуплении — это содержательная доминанта. В репликах Джонса можно расслышать отголоски того, что традиционно ассоциируется с американской мечтой: "From stowaway to Emperor in two years!" (118)1. Но в о ниловской интерпретации клише о карьерном росте превращается в гротеск. Бежавший из
тюрьмы негр, переплывший океан на пароходе безбилетным пассажиром, — выходец из самых низов общества. Он находится даже не на низшей ступени социальной лестницы, а за её пределами, он — абсолютный аутсайдер. Объявляя себя императором, он не то что бы поднимается на высшую ступень, но вновь оказывается вне ролей, доступных человеку в современном мире. Покинув Америку ради джунглей предков, Джонс, "цивилизованный негр" и одновременно гагой цивилизации, становится императором "лесных негров" ("woods niggers"). Только таким образом он может воплотить свою мечту о величии. Превращение бывшего заключённого в императора доказывает, что Джонс не знает меры в своих претензиях.
В то же время он понимает, что его императорское правление — это "цирковое представление" ("de big circus show") для туземцев, которых он презрительно называет "bush niggers". Самого же Джонса интересует его личное обогащение: "Dey wants de big circus show for deir money. I gives it to em and I gits de money" (118). Императорский титул — выдумка, своего рода хитроумная проделка, удавшаяся из-за невежества туземцев. Джонс обворовал подданных, заставив их платить высокие налоги, и вместе с тем обворожил их, представ в образе сильного правителя, "бессмертного", который, по придуманной им же самим легенде, может погибнуть только от "серебряной пули" ("silver bullet").
Именно легенда о серебряной пуле обеспечила успех Джонса. Эта выдумка нашла отклик в мифологическом сознании негров. Джонс, циник и поэт, безошибочно угадал, каким образом можно и задеть струны души варваров, и вселить страх в подданных:
"And dere all dem fool, bush niggers was kneelin down and bumpin deir heads on de ground like I was a miracle out o de Bible. Oh Lawd, from dat time on I had dem all eatin out of my hand. I cracks de whip and dey jumps through" (119).
Слова Джонса позволяют предположить, что он видит себя даже не столько императором, сколько божком, идолом язычников. Коленопреклонённые туземцы падают ниц перед ним, как перед явившимся чудом. Причём в сознании Джонса языческие представления неотделимы от христианских. Хотя очевидно, что в христианстве наибольшей убедительностью для императора обладает "чудесное" ("a miracle out о de Bible"). Но эти чудеса имеют весьма опосредованное отношение к христианской святыне. Джонс лучше знаком с ярмарочными, балаганными "чудесами" и цирковыми трюками. Так, мотив циркового представления вновь оказывается значим. Туземцы для императора — своего рода дикие звери, а сам он — дрессировщик, который в одной руке держит лакомство, а в другой — хлыст ("I cracks de whip and dey jumps through").
Мотив цирка, балагана является в трагедии элементом "низкого жанра", который, тем не менее, усиливает общую трагическую тональность. Можно предположить, что О Нил следует в этом за немецкими экспрессионистами, у которых эстетика балагана нередко связывается не с развлекательностью, а с трагедией: пьеса Э. Толлера "Эуген Несчастный" (Hinkemann, 1922), фильм Р. Вине "Кабинет доктора Калигари" (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920), опера A. Берга "Лулу" (Lulu, 1937). Так и в "Императоре Джонсе" мотив цирка, словно призванный проиллюстрировать ловкость главного героя, оборачивается разоблачением, очуждением.
Представления Джонса о собственном цинизме и расчётливости опрокинуты: подданные покинули императора и готовят его убийство. Более того, план спасения, разработанный Джонсом, показывает, что его сознание во многом устроено так же, как сознание суеверных туземцев. Именно поэтому он велел отлить одну серебряную пулю, чтобы покончить с собой, если преследователи догонят его.
Безнадёжная надежда": "Разносчик льда грядёт"
Пьеса "Разносчик льда грядет", относящаяся к позднему периоду творчества О Нила, позволяет понять, что представляется драматургу квинтессенцией трагического.
Характерное для О Нила противопоставление иллюзии и действительности, сна и яви, получает новое измерение. Мечтатели и "реалисты" спорят в пьесе о правде и лжи, сострадании и жестокости, вине и её искуплении. Открываются новые грани о ниловской философии трагедии. С одной стороны, на первый план выходит этическая проблематика. С другой, — драматургом предлагается альтернатива трагическому мировосприятию. Но она лишь усугубляет общую тональность абсурдности и "безнадёжности надежды" (образ "a hopeless hope", см. Главу I).
В "Разносчике льда" четыре акта. Действие происходит летом 1912 года, продолжается полтора дня. В нью-йоркском салуне, чтобы отпраздновать день рождения его владельца, собираются городские "отверженные". Все они — мечтатели, не способные трезво оценить самих себя и окружающих. К ним присоединяется успешный коммивояжёр, проповедующий отказ от иллюзий как путь к спокойствию и счастью. Стремясь разоблачить своих друзей, он скрывает правду о совершённом им преступлении — убийстве жены.
Состав действующих лиц весьма показателен. Персонажи пьесы — обитатели городского дна. Они могли бы предстать перед зрителем в виде своеобразной шайки, сборища людей, объединённых мелкими преступлениями, вынужденных скрываться от стражей порядка. Но о ниловских персонажей связывает общность образа жизни, настроения, мировосприятия. Убийца, сутенёр, проститутки, содержатель салуна, разорившийся владелец игорного дома "неразлучны" из-за сходства их иллюзий и страхов. Все они цепляются за последнюю надежду, поддаются самообману и боятся смерти.
Постояльцы салуна Хэрри Хоупа — люди примерно одного возраста. Самым старшим — Лэрри и самому Хэрри — по шестьдесят лет. Молодое поколение представлено барменами и проститутками — им нет ещё тридцати. Самый молодой из всех — Дон Пэррит — восемнадцатилетний юноша, который в последним действии пьесы кончает с собой.
Они принадлежат самым разным национальностям. Это уже было свойственно ранним "морским" пьесам ОНила. Среди матросов британского грузового судна Тленкерн" ("Курс на Восток, в Кардифф и другие пьесы", Bound East for Cardiff and Other Plays, 1916) — ирландец, американец, англичанин, норвежец, русский. В нью-йоркском салуне присутствует та же смесь наций и рас, что в матросском кубрике. Американцев здесь не так уж много (Хэрри Хоуп, Хики, Уилли Оубэн), зато имеется множество эмигрантов, ощущающих свою чуждость окружению (в ремарке говорится о ирландской внешности Лэрри, шотландских чертах речи Джимми; оба бармена и "Жемчужинка" — итальянцы; фамилия Макллойна указывает на уэльских предков). Мулат Джо Мот — чужак среди белых постояльцев.
Обитатели салуна когда-то принадлежали к профессиональным "гильдиям", по-разному оставившим на них свой отпечаток. Из двух бывших анархистов один, Хьюго, похож на газетную карикатуру на анархиста, а второй, ирландец Лэрри, напоминает скорбного, усталого священника. Бывшие офицеры, бур Пит
Ветйовен и англичанин Сесил Льюис, десять лет назад принимавшие участие в Бурской войне, не перестали враждовать, хотя Ветйовен больше похож на мирного голландского фермера, чем на "генерала". Объединяет всех одно: кем-то они были в прошлом, а теперь перед зрителем - бывший капитан, бывший полицейский (Макллойн), бывший циркач (Мошер).
Различия в происхождении, воспитании, роде занятий персонажей превращают словесную ткань пьесы в своеобразный "плавильный котёл"10. Так. голоса, звучащие вполне самостоятельно из-за различий в интонационных акцентах и выговорах, становятся частью хора, поющего об одном и том же: о том, что могло бы быть и чего никогда не было.
Наиболее выразительно выделяются два голоса: анархиста Лэрри и коммивояжёра Хики. Их противостояние — сердцевина конфликта, проявляющегося на содержательном уровне.
Совершив преступление, Хики приходит в салун не для того, чтобы скрыться от полиции, но чтобы напоследок поделиться с несчастными, обманутыми жизнью собратьями внезапно открывшейся ему истиной. И ещё какой. Этот лысеющий человек наконец-то понял: ...пора перестать мечтать. Удивительно, с какой серьёзностью внимают ему пьяные циники, с какой страстью спорит с ним бывший анархист.