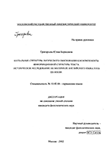Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Рождественский сверхтекст Чарльза Диккенса 29
1.1. Рождественский текст в современной историко-понятийной парадигме
1.2. Повести 40-х годов: рождественский карнавал
ГЛАВА 2. Структурная трансформация текста
2.1. Рождественские мотивы
2.2. Жанровые перспективы
Заключение
Библиография
- Рождественский текст в современной историко-понятийной парадигме
- Повести 40-х годов: рождественский карнавал
- Рождественские мотивы
- Жанровые перспективы
Введение к работе
Диссертация посвящена исследованию структуры рождественского текста Чарльза Диккенса (1812 – 1870), творчество которого, несомненно, стало частью мирового литературного процесса, а сам автор «превратился в национальный институт» и «творил всеобщее, которое мог создать только англичанин» (Г. Честертон, 1982). Его имя давно уже стоит рядом с именами Шекспира, Мильтона, Байрона, Теккерея, Бальзака, Флобера, Толстого, Достоевского и других классиков мировой литературы. Творчество писателя тщательно и всесторонне изучалось на страницах поистине необъятной диккенсианы, особенно в ХХ столетии, когда к исследованию его произведений подключаются учёные России, Китая, Японии, Индии, Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии. Характеристики современников и соотечественников писателя (Ф. Аллингем, Ф. Коллинз, В. Теккерей, Т. Карлейль, Г.Х. Андерсен, М. Слейтер, Д. Тиллотсон, Э. Уилсон, У. Экстон и другие), восприятие Диккенса в России (В.В. Ивашева, И.М. Катарский, Н.П. Михальская, Т.И. Сильман и другие) свидетельствуют об огромном интересе к его творчеству на родине и за рубежом. Успешно работали и переводчики произведений Диккенса на русский язык, чей труд был высоко оценён такими общепризнанными специалистами в области художественного перевода, как К. Чуковский, А. Кашкин, М. Лорие.
Русские критики Диккенса отмечали в первую очередь ценность христианского пафоса произведений писателя, которым владели идеи гуманизма и улучшения человеческой жизни – стремления, составляющие «жизнь и славу» (Н.Г. Чернышевский) того времени.
«Великий христианин» (Ф.М. Достоевский) Диккенс по праву считается основоположником рождественского жанра в европейской литературной традиции. Его рождественские повести и рассказы содействовали возрождению и расширению духовной атмосферы величайшего из христианских праздников, способствовавшего улучшению нравов. Сам писатель рассматривал эти произведения как социальную программу, как призыв, обращённый к богатым и бедным, зовущий их к братскому единению.
Актуальность диссертационной работы определяется прежде всего ее объектом и предметом: в русле современных историко-литературных, теоретических, культурологических исследований плодотворно изучается рождественский текст как своеобразный феномен творческого сознания/ мышления Ч.Диккенса и его структура. Такое направление в исследовании произведений классика английской литературы XIX века актуализирует внимание читателя не только в осмыслении жанровой политики автора рождественского текста, но и в представлении некоторой специфики исторической модели жанрового контекста (усвоение традиций, опыт современников писателя, предвосхищение рождественского конструкта).
Научная новизна работы заключается в том, что впервые в отечественном диккенсоведении исследуется как сам рождественский текст Чарльза Диккенса, так и структура его интертекстовых связей. Рождественский текст Диккенса рассматривается как целостное образование, занимающее важное место в наследии писателя.
Объектом исследования настоящей диссертационной работы являются рождественские тексты Ч. Диккенса 40-60-х гг.: Christmas Carol in Prose («Рождественская песнь в прозе», 1843); The Chimes («Колокола», 1844); Christmas Tree («Рождественская ёлка», 1851); The Child's Story («Рассказ мальчика», 1852) и др.
Предмет исследования – закономерности становления и развития рождественского текста Диккенса, эволюция его жанровой структуры.
Цель работы – исследование феномена рождественского текста Диккенса. Из этой цели вытекает совокупность взаимосвязанных задач:
- уточнить современный понятийный контекст (сверхтекст, гипертекст, метатекст и др.), выяснить значения и места понятия «рождественский текст» в этой историко-понятийной парадигме;
- представить культурные и литературные истоки рождественских текстов писателя;
- проанализировать рождественские повести и рассказы и определить жанровую структуру произведений, входящих в рождественский сверхтекст Диккенса;
- проследить структурную трансформацию текстов Диккенса от времени их формирования (40-е годы) до активного становления и развития (50-60-е годы).
Теоретико-методологической базой диссертации является историческая поэтика, начало которой положил академик А. Н. Веселовский, развили В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, В. Пропп и др.. Учитываются нами и теории М. Бахтина, Ю. Лотмана, В.Н. Топорова, которые помогают глубже понять структуру художественного текста, природу литературных жанров, их связь с культурой карнавала.
В работе были использованы методы целостного, сравнительно-исторического, биографического анализа.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что понятие «рождественский текст» Диккенса получило научное обоснование с современных позиций теории текстов, а также в том, что в ней существенно уточняются жанровые дефиниции текстов, входящих в рождественскую прозу, причём эти уточнения опираются не только на литературоведческие, но и на культурологические концепты.
Практическая значимость исследования определяется тем, что содержащиеся в ней данные могут быть использованы при разработке курсов английской литературы XIX века, спецкурсов по творчеству Диккенса, истории рождественских и святочных жанров в русской и английской литературе, при написании курсовых и дипломных работ студентов.
Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре зарубежной филологии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Основные положения диссертации изложены в докладах на региональной научно-практической конференции «Культура безопасности современной России: состояние и перспективы развития» (г. Балашов, БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2004 г.); научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов (г. Балашов, БИСГУ им. Н.Г.Чернышевского, 2004 г.); международной конференции «Литературный процесс в зеркале рубежного сознания: философский, лингвистический, эстетический, культурологический аспекты» (Магнитогорский госуниверситет, 2004 г.); международной конференции «XVII Пуришевские чтения: «Путешествовать - значит жить»» (Москва, МПГУ, 2005 г.) и в ряде публикаций.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
-
Рождественский текст как своеобразный сверхтекст Диккенса представляет собой совокупность всех рождественских произведений писателя, созданных им в 40-е – 60-е годы, магистральной темой которых является Рождество и рождественская философия, выраженная в одних произведениях эксплицитно, в других – косвенно.
-
Преобладающими формами 40-х годов становятся притча и бытовая сказка, поэтика которых отличается органическим соединением различных жанровых образований (готическая повесть, волшебная сказка с элементами научной фантастики). В произведениях этого периода отчетливо просматривается стремление писателя не только ярко показать события, но и дать им запоминающееся психологическое объяснение (например, «Сверчок за очагом», «Одержимый»).
-
В пятидесятые-шестидесятые годы Диккенс активно эксплуатирует творческие достижения 40-х годов и обретает новые для себя жанровые формы и структуры повествования (например, форма сказа, приключенческая новелла, психологический этюд («Гостиница Остролиста»), «цепочная» циклизация новелл, приём рассказа в рассказе), вводит в действие «железнодорожный» или морской, экзотический хронотоп. Несомненной новацией этого периода является сказовая манера повествования, когда в роли рассказчика выступает некий безымянный Путешественник, в образе которого угадывается сам автор.
-
Рождественский сверхтекст Диккенса этих лет (50-60-е) органично вписывается в общую повествовательную структуру произведений его современников, имеет параллели, связи и отрицания с подобными рождественскими текстами других авторов, несет на себе отпечаток сложных внутрилитературных отношений (У.Теккерей).
Рождественский текст в современной историко-понятийной парадигме
Специфика произведений святочной словесности заключается в переплетении культурных традиций — в таком контексте интересна работа «Традиции готической литературы в творчестве Чарльза Диккенса» [Черномазова 2010]. Как видно из названия, произведения английского писателя (в том числе и цикл «Рождественские рассказы» (1843-1848)), изучаются только в контексте готической традиции.
Т.Г. Боголепова обращает внимание на аксиологические проблемы рождественских рассказов писателя, созданных в последние годы его жизни. Она, как и многие другие, считает, что вся рождественская прозам Диккенса относится к одному жанру рождественского рассказа, но при этом отмечает эволюцию этого жанра от 40-х годов к 50-60-м.. Исследователь пишет, что в некоторых рождественских публикациях 60-х годов у писателя нет даже упоминания Рождества, забывая о том, что подобную «забывчивость» Диккенс проявил уже в повести-притче «Битва1 жизни». Т. Боголепова подчёркивает твёрдую веру художника в «вечные ценности», в идеалы «христианской любви, милосердия и внимания к ближним» [Боголепова 2007].
Теперь обратимся к тем оценкам творчества Диккенса, которые звучали в XX веке в англосаксонской культуре. Уже упоминавшаяся книга Честертона ещё не означала перелома в сторону более внимательного изучения писателя. Продолжали появляться и резко критические высказывания о нём, например, со стороны таких видных писателей первой половины столетия, как Вирджиния Вулф и Э.М. Форстер («Аспекты романа», 1927). Эти авторы продолжили традицию тех критиков, которые ещё при жизни писателя обвиняли его в «примитивизме», сентиментальности и иногда даже в «абсурдности» и «плоскостности» его образов.
В 1948 году к этим отрицательным суждениям о Диккенсе примкнул авторитетный английский филолог Фрэнк Ливис, который повторил уничижительную характеристику Диккенса как «развлекателя» (an entertainer) [Leavis 1983: 68] публики, известную ещё по высказываниям некоторых рецензентов-викторианцев. Однако через несколько лет учёный смягчился по отношению к великому писателю, о чём свидетельствует созданная им совместно с супругой монография «Диккенс-романист» [Leavis 1976]. Но и здесь учёные лишь вскользь касаются рождественской прозы писателя.
Определённым прорывом в её оценке можно считать работу известного американского филолога Эдмунда Уилсона «Диккенс: Два Скруджа» [Wilson 1941: 1-104], в которой учёный обрушился с резкой критикой на Вирджинию Вулф и её сторонников за нападки на писателя. О самом Скрудже критик говорит очень мало, но, на наш взгляд, он верно отмечает, что этот образ стал «частью рождественского фольклора» и что в этой фигуре «воплощён фундаментальный принцип динамики в мире Диккенса» (it represents a principle fundamental to the dynamics of Dickens s world) [Wilson 1941: 64].
Отвечая на работу своего однофамильца, англичанин Энгус Уилсон в работе «Мир Чарльза Диккенса» соглашается с автором «Двух Скруджей» в том, что в творчестве писателя огромную роль играл его детский опыт, который вёл к формированию в подсознании и сознании Диккенса своего рода комплекса неполноценности: писатель чувствовал, что у него нет полного социального обоснования на статус викторианского джентльмена. Энгус Уилсон определяет (первым в английском диккенсоведении) жанр «Рождественской песни» Диккенса как «сочетание сказки и социальной сатиры, интуитивного и рационально-дидактического ...смесь клоунады, артистизма и пропаганды» [Уилсон 1975: 28]. Об остальных рождественских текстах художника критик судит излишне резко, невольно совпадая в этом, пусть частично, с мнениями В.В. Ивашевой и Т.И. Сильман: «...связь Тоби Века с Колоколами крайне неубедительна», «пафос этой вещи («Сверчка» — О.Ч.) ни на что не направлен и только даром сотрясает воздух» (! - О.Ч.) [Уилсон 1975: 41], а «Битва жизни» и «Одержимый» - это просто затейливые истории. Что же касается рождественских сочинений 50-60-х годов, то эти произведения редко поднимаются над уровнем скучной журнальной прозы [Уилсон 1975: 188-190].
Отношение к рождественской части творческого наследия Диккенса v начинает меняться в лучшую сторону в англосаксонском диккенсоведении только с конца XX столетия. Усиливается, в частности, внимание исследователей к культуре Рождества, его языческим и христианским истокам, его истории на Британских островах [Roll 1995; Rowell 1993: 17-24]. О рождественских повестях Диккенса, об их роли в возрождении праздничных традиций в англосаксонской среде пишут такие исследователи, как Филип Аллингем [2008], Фред Гида [2000], Рут Глэнси [1980, 1985], Пол Дэвис [1990], Ричард Келли [2006], Филипп Коллинз [1971], Хиллис Миллер [1993], Дэвид Паркер [2000], Майкл Слейтер [1983, 2003], Гарри Стоун [1979], японец Тору Сасаки [1997] и многие другие. Они стремятся к соответствию их концепций современной эпохе, отсюда названия сборников «Современный Диккенс» [Contemporary Dickens 2009] и даже «Диккенс в киберпространстве» {Dickens in Cyberspace) [Clayton 2006]. Авторы этих сборников не без успеха стремятся показать, что Диккенс интуитивно предугадывал современные способы коммуникации -это облегчает перевод его текстов в различные виды видеоигр,
Повести 40-х годов: рождественский карнавал
Истоки проблематики рождественской прозы, очевидно, следует искать в древнейших временах. Так, в Британии это период римской оккупации (I-IV века н.э.), когда «британские» римляне справляли сатурналии, а бритты праздновали как Хэллоуин, так и зимний солнцеворот {winter solstice), который, по сообщению Бэды Достопочтенного, назывался Modranecht, то есть «ночь матерей». Подробное описание комплекса обрядов и языческих верований, связанных с этими праздниками, дано в классической четырёхтомной работе шотландки Флоренс МакНейл «Серебряная ветвь» [McNeil 1965: , 220], названной так в подражание фундаментальному труду её учителя Джеймса Фрэзера «Золотая ветвь». Отметим, что исследователь так влюблена в древнее язычество своей родины, что её работы повлияли в конце XX века на возрождение интереса к культу ведьм в Шотландии и Англии. Вероятно, Диккенс отнёсся бы к нынешнему неоязычеству сдержанно, но с интересом, ведь он увлекался «готическими» историями, волшебными сказками.
Основное содержание календарно-обрядовых празднеств годового цикла раскрыл М.М. Бахтин в своей книге о творчестве Рабле. Он характеризует их сущность как народную карнавальную культуру, в которой гротескно сочетаются комические и трагические мотивы, образы жизни и смерти, волшебно содействующие, согласно мифологическим воззрениям людей, преодолению всего дурного и утверждению должного (в принципе утопического) миропорядка [Бахтин 1965: 15].
Такие празднества были своего рода «мирными переворотами», которые не обходились без жертв, приносимых богам природы. В Шотландии, например, во время праздника Самхейн сжигалось чучело ведьмы, но ясно было, что в более древние времена приносился в жертву и человек, как это практиковалось у большинства древних народов мира. В Британии сжигание ведьм было официально запрещено только в начале XVIII века. Напоминанием о жертвах служило и рождественское полено (yule-log), которое сжигалось иногда в форме человека или бога Одина [McNeil 1965: 18]. Жертвы должны были магически содействовать росту и плодородию. Не случайно возникает подробно проанализированная Бахтиным карнавальная поэтика «рядов» рассекаемого и растущего тела [Бахтин 1975: 316-340].
Огромна была роль карнавального смеха, имевшего опять-таки магические функции возрождения и укрепления всего лучшего в жизни. .-; Такой смех носил универсальный характер — осмеянию подвергалось буквально всё, включая и носителей самого смеха. Не случайно в Англии возник специальный «День Всех Дураков» {All Fools Day), когда поощрялись шутки над любым человеком. Глупые в этот день и в любой другой период карнавала объявлялись временно «царями», правителями. На двенадцать рождественских дней (в Шотландии их называют Daft days, «бесшабашными деньками») обычно выбирался «Лорд беспорядка», Lord of Misrule, задачей которого было руководить весельем, устраивать маскарады.
Подвергалось перевороту и менялось всё - общественный порядок, обычаи, нравы, одежда, тендерные признаки людей. Рабы, нищие, убогие становились на короткое время («золотой век» Сатурна) господами, а хозяева играли роль слуг, мужчины переодевались женщинами и наоборот, либо люди надевали маски животных, мифических существ, вспоминая о своих животных первопредках. Коренным образом преображались и понятия о пространстве и времени. На период праздников нарушались границы между «загробным» и обычными мирами и на волю вырывались духи покойников, призраки, привидения, вообще нечистая сила, но, с другой стороны, активизировались и небесные силы. Обычное циклическое время круговой смены годовых циклов как бы расщеплялось, давая краткую возможность человеку попадать либо в прошлое, либо в будущее — что эффектно и изобразил Диккенс в «Рождественской песни».
Эту систему языческого годового цикла праздников постепенно приспособляло для своих целей христианство, будучи значительно более молодой, чем язычество, религией. Об этом процессе выразительно пишет Джеймс Фрэзер [1983: 336-340]. Первоначально у христиан не было праздника Рождества, он сложился только к началу IV века н. э., а в Англии укрепился ещё лет на двести позже. «Гибридный» характер праздника медленно складывался в нелёгкой борьбе языческих и христианских обрядов и представлений, причём эта борьба растянулась ещё на несколько столетий. Английские пуритане осуждали Рождество как «богомерзкий» «день Сатурна» [Wilson], его празднование было запрещено парламентом в 1644 году, в разгар Гражданской - войны, и -только в 1660-м король Карл II его восстановил, но вплоть до XIX столетия многие церковники неохотно его признавали. Между сторонниками и врагами Рождества разыгрывались не только словесные баталии. Так, по решению Звездной палаты пуританин Уильям Принн (1600-1669) был в 1634 году приговорён к позорному столбу, отрезанию ушей и клеймению лица за то, что проклял «рождественские безобразия, взятые из римских сатурналий и праздников Вакха» [цит. по: Dankenburg]. Таких фанатичных христиан как Принн в XVII веке было много. В настоящее время тоже встречаются отдельные фанатики - враги
Рождественские мотивы
В этой повести остаются сентиментально-юмористические и близкие к бытовой сказке мотивы - две параллельные домашние истории. Первая - о жизни семьи возчика Джона Пирибингла и его супруги по прозвищу Крошка, вторая - повесть игрушечного мастера Калеба Пламмера, его слепой дочери Берты и их жестокого хозяина Теклтона, который к концу повествования без всякой помощи духов внезапно преображается (мотив нравственного воскресения) в доброго человека. Эта история фактически выглядит как самопародия Диккенса на фантастический рассказ о духовном преображении Скруджа из «Рождественской песни». Так, представление о радостях домашнего очага, / его идиллии закрепляется в первом сне Джона Пирибингля, когда он видит множество образов своего семейного счастья {many forms of Ноте about him [Dickens 1994: 115]). Это представление своеобразно, это «размножившиеся» воплощения его любимой Крошки: Крошки-девочки, Крошки-новобрачные, Крошки-матери, дряхлые Крошки-бабушки. По сути дела, это живое воплощение трёх аспектов времени - прошлого, настоящего и будущего, той полноты Времени, какой достиг «прозревший» Скрудж из «Рождественской песни в прозе». Действительно, автор мог оправдываться тем, что обозначил жанр «Сверчка за очагом» как «сказку». Он мог бы добавить, что его повесть-сказка - это и новый, на этот раз домашний вариант рождественского песнопения {a carol), который в данном случае исполняется такими одушевлёнными существами, как кипящий чайник, сверчок и часы с движущимися фигурками, висящие на стене уютного жилья возчика Пирибингла.
Могучие духи рождественских времён, грозные призраки церковных часов здесь заменены на миниатюрный часовой механизм, который не указывает на мощный ход Времени, а олицетворяет скромный домашний хронотоп малого мирка двух семей. Не случайно повесть-сказка делится на три похожие на уютные песенки сверчка части, которые забавно обозначены как «Стрекотание первое», «Стрекотание Второе» и «Стрекотание Третье» (Chirp the First, Chirp the Second, Chirp the Third). Самое начало текста напоминает по ритму жанр стихотворения, даже целой поэмы в прозе. Рассказчик в духе лёгкой иронии и с упоением повествует о «музыкальном соревновании» между сверчком и чайником, закипающим на огне. В переводе М. Калягиной-Кондратьевой это юмористическое «стрекотание» заменено «песенкой», и это слово вполне г соответствует музыкальной составляющей поэтики рассказа, но лишает авторское наименование писателя юмористического оттенка.
Сведён к минимуму и мотив праздничной жертвы - он звучит лишь в эпизоде с «таинственным незнакомцем» (The Stranger, who had long white hair... [Dickens 2009: 108]), которого Джон Пирибингль собирается застрелить как своего соперника. Но этот «незнакомец», по законам театральной мелодрамы, оказывается сыном Калеба Пламмера и братом слепой Берты - ко всеобщей радости его родни и друзей. И девушке Мэй, которой предстояло принести себя в жертву, став женой злого Тэклтона, теперь не грозит беда, потому что юный Эдуард Пламмер, моряк, считавшийся погибшим, любит её и станет её мужем.
Персонажи «Сверчка за очагом» настолько преданы своим «домашним богам» [Диккенс 1959, т. 12: 224] (Household Gods [Dickens 2009: 115] - в оригинале они пишутся с заглавной буквы), что совершенно забывают об Иисусе Христе и о Рождестве, хотя писатель сохраняет в повести рождественскую атмосферу радости и взаимного благожелательства.
Следующие два рождественских текста Диккенса, по мнению В.В. Ивашевой, «не только лишены тех типических обобщений, которые мы находим в первых рождественских «сказках», но вообще отходят от проблем реальной действительности» [Ивашева 1954: 198-199]. Разница, на наш взгляд, между произведениями указана верно, но мы не совсем согласны с тем, что писатель вообще отошёл от проблем реальной жизни, причём особенно это касается повести «Одержимый». Исследователь исходила из марксистской установки на то, что Диккенсу как критическому реалисту следовало отразить в 40-е годы острые социальные проблемы - ухудшение положения рабочего класса, подъём чартистского _ движения. Эти проблемы автор знал и был ими озабочен, он рисует образы нищих и обездоленных в «Одержимом», но он видел свою задачу в другом . - в том, чтобы пробуждать в людях дух добра, милосердия и погашать чувства вражды, эгоизма, своекорыстия.
Именно этой «рождественской философией» пронизан следующий «рождественский» текст писателя, носящий парадоксальный заголовок The Battle of Life: A Love Story («Битва жизни. Повесть о любви», 1846). Сам Диккенс, который работал одновременно над романом «Домби и сын», пишет своему другу Джону Форстеру, что его новое рождественское произведение - это одновременно и любовная история в обычном смысле слова и рассказ о любви (both a love story in the common acceptation of the phrase and a story about love) [Dickens 1992, vol. 4: 416]. На наш взгляд, писатель мыслил жанр своего нового произведения как некую повесть-притчу о сущности любви, о любви в её высшем проявлении
Жанровые перспективы
Так, в «Колоколах» подхвачен мотив обратимости времени, возможности альтернативы для будущего и при этом звучит остро социальная тема - Время с большой буквы трактуется писателем как неодолимая сила, стихия, которая должна «смести» угнетателей народа. При этом Диккенс не имел в виду революцию, он надеялся как либерал на общий прогресс человечества, на радикальные реформы, которые бы очистили общество от всего, что мешает движению вперёд. Эта идейная направленность повести потребовала от художника введения элементов социальной сатиры, публицистического пафоса, осуждения «упразднителей» бедняков, мальтузианцев, утилитаристов-сторонников доктрины Бентама, а также апологетов «доброго старого времени» {Good old Times) [Dickens 1994: 103]. В «Колоколах»,-главным героем оказывается скромный и запуганный «маленький человек» Тоби Век, бедняк, который под влиянием своего пророческого сна, как и Скрудж, преображается. Только он становится не филантропом, а пророком, предрекающим грозные перемены в жизни общества. Тоби Век выражает в этот момент настроение чартистов.
Настроения низов в тот период английской истории по-своему выразил и Теккерей в своей шуточно-пародийной балладе «Три рождественских певца». Но в дальнейшем ни Диккенс, ни Теккерей не использовали рождественскую тематику для политических целей (кроме единственного случая, пародии на речь члена парламента в «Докторе Мериголде»).
«Сверчок за очагом» обозначил резкий поворот Диккенса в трактовке рождественской темы и смену жанра, хотя из «Рождественской песни» сюда перешёл лиризм, а частично и фантастика. В основном же жанр «Сверчка» это бытовая сказка, рисующая судьбы двух бедняцких семейств. Соединительным звеном между двумя историями служит приключенческая интрига с «таинственным незнакомцем» {The Stranger, who had long white hair... [Dickens 2009: 108]). Образ Тэклтона, фабриканта игрушек, который неожиданно и без всяких причин из «злодея» превращается в доброго человека, по существу становится карнавальной пародией на фигуру преобразившегося Скруджа. Писатель этот «трюк» с неожиданным превращением, очевидно, позаимствовал из поэтики рождественских пантомим, но там оно совершалось с помощью волшебницы феи, а здесь объясняется «доброй волей» Тэклтона. Как бы то ни было, но проникновенный лиризм повести-сказки, «стрекотание» сверчка-хранителя домашнего очага, мягкий юмор писателя, любующегося своими двумя семействами, - всё это определило необычайную популярность «Сверчка» в англосаксонских странах и за рубежом.
Следующая рождественская книга Диккенса ознаменовалась тем, что автор опять освоил новый для себя жанр. На этот раз у него. получилась, как он сам говорил, «повесть о любви», а если шире, то повесть-притча философского характера о смысле жизни, основанная на бинарной оппозиции «война - любовь», известной ещё со времён Овидия. При этом притча облечена в форму сентиментально-приключенческой любовной истории, включающей в себя дискуссию героев о сути концепта «жизнь - игра». Диккенс, сам любивший игровые ситуации в жизни, отвергает понимание реальности как игры бессмысленной, абсурдной и утверждает игру «высокую», связанную с типично английским представлением о «честной игре», о подвиге самопожертвования, о любви героической, которая превыше всех воинских подвигов и битв.
Последнее рождественское произведение Диккенса в 40-е годы называлось «Одержимый». По жанру эта повесть частично означала возвращение к фантастике «Рождественской песни», но с той разницей, что на этот раз речь шла о фантастическом психологическом эксперименте по возникновению у героя двойника, который удаляет из памяти «подопытного» все тяжёлые воспоминания и наделяет его волшебным свойством: все окружающие тоже забывают своё мрачное прошлое. А это частичное изъятие памяти ведёт, в свою очередь, к очерствению душ у людей. Тема двойника, впервые появившаяся ещё в древней мифологии, стала играть активную роль в творчестве романтиков и была охотно подхвачена Диккенсом, который никогда не избегал романтической поэтики (тяга писателя к таинственному, чудесному, сказочному). От повести «Одержимый» был уже прямой путь к «Странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда», созданной Стивенсоном.
Рождественские тексты объединяет единая «рождественская философия» - проповедь любви и милосердия, вера в то, что плохие люди могут исправиться (либо перед ними возникает угроза гибели). Это ведёт к счастливому финалу, но сам писатель понимал условность такой концовки, что и выражено в словах рассказчика, завершающих «Колокола». Почти непременным атрибутом рождественских повестей является мотив жертвы - реальной или условной. В «Рождественской песни» Скрудж видит себя мёртвым, но это лишь «альтернативная» кончина, как и смерть малыша Тима, только привидевшаяся Скруджу. Точно так же в «Колоколах» Тоби Век видит себя погибшим, но это лишь сон-указание на возможность мрачного исхода.
Такое «уравновешивающее» начало утрат и обретений для героев положительных, исправления некоторых дурных людей и наказания неисправимых злодеев входило у Диккенса в концепцию жизни как «честной игры», воплощавшуюся им в большинстве его произведений и особенно чётко прозвучавшую в его «Битве жизни».