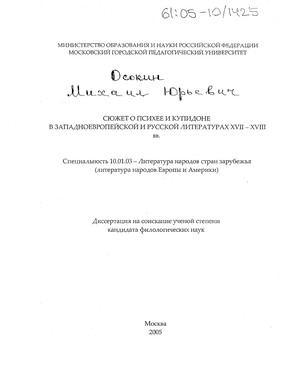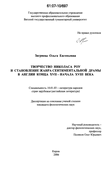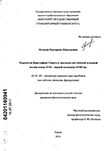Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. ТЕКСТЫ О ПСИХЕЕ XVII - XVIII ВВ. И ИХ САМООПИСАНИЕ
1.1 О дискурсе жанра Психеи Лафонтена: prefacer и читатель 22
1.2 Мейозис, принятый за дефиницию. 24
1.3 Друзья Лафонтена 26
1.4 Ренессансная пчела 27
1.5 Плюрализм образцов и эстетика удовольствия 29
1.6 Прозиметрическая модель Психеи Лафонтена: сюжет и дискурс 31
1.7 Психея и Купидон: аллегорические прецеденты 35
1.8 Католическая Психея: христианизация мифа в Испании XVII в. 36
1.9 Psychegraphia Кальдерона 37
1.10 Психея Исаака де Бенсерада: реальный комментарий 38
1.11 «Трагедия-балет» Мольера-Корнеля: реальный комментарий 40
1.12 От «трагедии-балета» к «лирической трагедии» 40
1.13 Обзор итальянской psychegraphia XVII в 41
1.14 Психея Томаса Шедуэлла 42
1.15 Psychegraphia XVIII века и борьба за влияние 43
1.16 Амур и Психея Марко Кольтеллини в России 45
1.17 О галлофобии Марко Кольтеллини 46
1.18 Самооговор как результат следования канону conte 48
1.19 Расправа над описаниями: конвенционализация формы 49
1.20 Душенька Богдановича: антиэпическая верификация 52
1.21 Колебания автора и поиск вариантов 53
1.22 Травестия как игра в убийство времени 54
1.23 Душенька Н. Осипова: приапическая версия истории Психеи 56
1.24 Катинька: бидермайеровская вариация Душеньки 57
1.25 К проблеме авторства Катиньки 59
Примечания 61
ГЛАВА II. ПРЕДЫСТОРИЯ ЛЮБВИ ПСИХЕИ И КУПИДОНА
2.1 El Mundo в диспозиции аутос сакраменталь 81
2.2 Отец Психеи и Минос-законодатель 82
2.3 Неудовлетворенный порок как наказание 84
2.4 Символика талиона 86
2.5 Храм Психеи 87
2.6 Memento Stesichorus: об издержках фигуративное 88
2.7 Несказанность красоты 89
2.8 Морской вояж Венеры и наглые Зефиры 90
2.9 «Красоты» как портретная деталь 92
2.10 Дезавуированный оракул: упражнение в скептицизме 93
2.11 Герменевтика оракула 94
2.12 Истина ущербного дискурса и герметическая тайна 94
2.13 Оракул Психеи и лингвистический герметизм янсенистов 95
2.14 Неоплатонический праксис Кольтеллини 96
2.15 Бредовый оракул: вольтерианская профанация культа 97
2.16 Остроумие Лафонтена: Психея и ее родители 99
2.17 Душенька: к проблеме рокайльного характера 99
2.18 Семейная добродетель 101
2.19 Уроки стоицизма 102
2.20 Прециозная подоплека завязки сюжета в Психее Мольера 103
2.21 Покаяние прециозницы 104
2.22 Смешные прециозницы как подтекст: попытка реконструкции 105
2.23 Уступчивые любовники и миф о близнецах 106
2.24 Классицистическая симметрия: структурный этюд 107
2.25 Завистливые сестры 108
2.26 «Рыкающи львы» 110
2.27 Трагический закат 111
Примечания 112
ГЛАВА III. ЧЕРТОГИ КУПИДОНА
3.1 О галантном картезианстве Сен-Фуа 124
3.2 Лафонтеновская ситуация в Оракуле Сен-Фуа 126
3.3 Идолы пещеры 127
3.4 Любовь в темноте 128
3.5 Пещера Богдановича 129
3.6 Вознесение и изгнание: статика и транслокальность 130
3.7 Архив Мира и средоточие рая 131
3.8 Явление в мир новых вещей 132
3.9 Герметический сон Психеи и эротический сон Душеньки 133
3.10 Стаффажные персонажи как риторический ресурс идиллии 134
3.11 Барочное преодоление хаоса в балете Бенсерада 137
3.12 Пантомимический балет Лепика Амур и Психея 138
3.13 Оравы Амуров 139
3.14 Эротическое кодирование и гривуазная герменевтика 140
3.15 Призывание Зефиров в вуайеристской перспективе 142
3.16 Об ироническом оккультизме Богдановича: Зефиры и Сильфы 144
3.17 Гностическая Венера 145
3.18 Соблазнение и изгнание Психеи 145
3.19 Душенька как мужеубийца: об аллюзиях на Екатерину II 146
3.20 Странствия и поиски Психеи: Гипноэротомахия Колонна 148
3.21 Душа в поисках истины 150
3.22 Странствия и поиски: Оберон Виланда 150
Примечания 152
ГЛАВА IV. ИСПЫТАНИЯ ПСИХЕИ
4.1 Объявление о розыске Психеи: др.-греч. источник Лафонтена 161
4.2 «Комический восход»: скарроновская реминисценция в Душеньке 163
4.3 Умеренный оптимизм Кальдерона и католическая догма 165
4.4 Самоубийства души в Психее Лафонтена 166
4.5 Пасторальный фактор 167
4.6 Умножение смертей 168
4.7 Бегущая Смерть 169
4.8 Неудачное повешение и посрамление за беззакония 169
4.9 Эпизод с отшельником: схема эволюции 171
4.10 Мстительность и великодушие Купидона 172
4.11 Попечение Купидона в контексте сюжета о небесном процессе 173
4.12 Скитания по храмам 174
4.13 Реставрация идиллии. Братание хищников с травоядными 174
4.14 Психея как жертва 175
4.15 «Бодрая добродетель»: из этики сентиментализма 176
4.16 Антисофийные инкарнации Психеи 177
4.17 Драконьи мотивы 178
4.18 О многословии и классицистической выучке Лафонтена 178
4.19 Мениппейный случай в лодке Харона 179
4.20 Масон в преисподней 180
4.21 Хтоническая старуха и ее изба 181
4.22 Рудименты «орфеевского» мифа: предварительные замечания 182
4.23 Еще раз о мотиве curiositas 184
4.24 Черная Психея: маринистское изобретение Лафонтена 185
4.25 Сифилис как подтекст Душеньки 186
4.26 Летучая зараза как метафора сифилиса 188
4.27 О свойствах адской сажи 189
4.28 Порнографический исихазм 190
4.29 Menage a trois 191
4.30 Глумление в масонстве 191
Примечания 193
Заключение 207
- О дискурсе жанра Психеи Лафонтена: prefacer и читатель
- El Mundo в диспозиции аутос сакраменталь
- О галантном картезианстве Сен-Фуа
Введение к работе
Следствием привычки американской и европейской критики XX столетия обсуждать методы в терминах кризиса, - «риторики кризиса», о которой в 1967 году со знанием дела писал американский де конструктивист Поль де Ман, - становится «умопомрачительно скорое» устаревание новейших концепций1. Эта «тональность кризиса» не в меньшей степени свойственна критическим обзорам традиционных методов вроде компаративистики, хотя здесь она встречает большее сопротивление, поскольку изживание любой интеллектуальной инерции или навыка требует усилий.
Даниэль Маделена обнаруживает у компаративистики «кризис идентичности» - нервозность, интровертность, возрастные комплексы, как у подростков по достижении пубертата2. К аналогии Маделена, представляющего компаративистику в образе капризничающего подростка, можно придираться3, но симптомы, кажется, констатированы верно. Другое дело, что интровертность и нервозность вызвана самими разговорами о кризисах метода и термина и скорой «смерти компаративистики», провозглашенной в бернхеймеровском докладе Американской ассоциации компаративистов. «Нервозность» компаративистики, которой объявили, что она «умирает», кажется, обоснована. Одной из причин, породивших такой вывод, явилась культурная ситуация миллениума (вернее, ее влияние на течение гуманитарной мысли). Помимо традиционных, «локальных» ожиданий апокалипсиса в евангелистских конгрегациях, эсхатологические настроения усилились повсюду: напряженное ожидание глобальной катастрофы, способной застопорить научно-техническое развитие или вовсе перечеркнуть его успехи (компьютерная «проблема 2000»), сопровождали разговоры о магии цифр, на предотвращение фантомных угроз выделялись вполне реальные деньги. В 1999 году вышел фильм Ричарда Пепина «2000: Момент Апокалипсиса», рассказывающий о том, как с наступлением 2000 года компьютер, управляющий хранилищем ядерных ракет США, запустил программу ответного ядерного удара. Сюжет повторяет замысел картины Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил, бомбу» (1963), но теперь опасность ядерной катастрофы увязывается уже не с психозом противостояния СССР - США, а с техническим сбоем, вызванным «круглой датой» миллениума.
В ситуации.миллениума неловко чувствовали себя и теоретики литературы. Конец тысячелетия, породивший ощущения приближающейся катастрофы, обязывал к подведению масштабного итога, а компаративистика оказалась неготовой итожить, однако постаралась срочно ликвидировать пробелы. Смена парадигмы, по словам Дэвида Бетеа, «на сей раз... апокалиптична именно отсутствием высокого драматизма и заготовленных фейерверков красноречия, апокалиптична своей вымученностью, запутанностью, обращенностью вовнутрь»4.
В компаративистике появилась эсхатологическая необходимость срочно найти конечную цель сравнительных занятий. Вдруг потребовалось не просто видеть работу в перспективе, но постоянно иметь в виду итоговую цель, к которой
каждое исследование должно приближать, а желание определенности побудило отказаться от терминов и понятий, восходящих к «Поэтике» Аристотеля, но за все время существования не получивших четких дефиниций5.
Традиционалистская компаративистика, наследующая принципам сравнительно-исторической школы, увлечена идеей написания «истории мировой литературы», или «всеобщей мировой литературы» (Гете). В 1832 г. Жан-Жак Ампер (1800 - 1864) осуждает шовинизм как несовместный с литературным космополитизмом6; уже в 1828 - 1840 гг. профессор Сорбонны Абель-Франсуа Вийемен употребляет термин «сравнительное литературоведение» и закладывает основы дисциплины; легитимизация термина связывается с деятельностью Сент-Бева в изданиях «Revue des deux mondes» и «Nouveaux lundis», подготовившей появление книги Мориса Каррьере «Das Wesen und die Formen der Poesie» - один из ранних опытов создания «verleichende Literaturgeschichte»7. Российские компаративисты пытаются реализовать мечту Веселовского о «поэтике будущего», построенной на «массовом сравнении фактов, взятых на всех путях и во всех сферах поэтического развития»8.
Беспокойство возникает, когда фиксации различий и сходств накапливаются, а исследование превращается в «коллекционирование дат» и теряется «контроль над познавательным процессом»: «Как прилежная тетушка наготавливает огромное количество еды, которого ей никогда не съесть, так и компаративист занят сочинением примечаний к книжкам, которые он никогда не попытается прочесть»9, - иронизирует по этому поводу финский литературовед Урпо Ковала. Сравнение характерное для Финляндии, где наложен запрет на перепроизводство продуктов, но традиция обсуждать фактографию как опасность возникла еще в 1950 - 1960-х гг. в полемике американца Р. Уэллека (одна из работ которого, кстати, называется «Кризис сравнительного литературоведения») с французской школой Поля Ван Тигема (Жан-Мари Карре, Ф. Бальдансперже и др.), ее делением литературы на «влияющую» и «воспринимающую», сведением предмета компаративистики к «фактическим отношениям» (rapports de fait) и пониманием анализа как выяснения «влияний», прежде всего иноземных10, потом в 1960-х - начале 1970-х в трудах Дюришина, Дизеринка и других компаративистов, заговоривших о «пресыщенности в разработке влияний» и «накоплении на будущее». Дизеринк, видевший выход в имагологии, изучении ментальных «моделей мышления», сформулировал проблему так, что получил упрек в «европоцентризме»11.
Для создания истории мировой литературы нужны интеграционные концепции12. Фактология и сверхтекстуализация пугает традиционалистов, в структуралистской и постструктуралистской компаративистике возводится в принцип. Цель, заставляющая с чувством правоты упорствовать в том, что «традиционалисты» полагают «недостатками», и настаивать на смерти концепций, - создание каталога параллельных мест к текстам или, по выражению Г.Косикова, «виртуальной библиотеки».
Обречь концепции на гибель - позитивистская мечта постструктуралиста. Концепции только замусоривают своды сопоставлений; большинство из них -
поролон, которым прокладываются наблюдения, порой с целью придать им убедительности. М.Л. Гаспаров предсказывает, что от интертекстуальных изысканий останутся только «перечни параллелей, как в изданиях античных классиков». Развитие компаративистики, по Гаспарову, - телеологическое, и оно имеет в виду итоговую гибель концепций: филология нужна, чтобы «охранять памятники», а не чей-то метод. Методов мне не жалко»13, сказал Гаспаров на круглом столе НЛО «Философия филологии» (1995), а на Тыняновских чтениях в Резекне в 2002 году, отвечая на вопрос, как писать историю литературы, уточнил: «а ее никак писать не надо, потому что сейчас мы ее хорошо не напишем: нет материала»14. Проблема может быть сформулирована как этическая - высказанная Михаилом Безродным идея, печатать списки найденных параллелей, опуская собственные рассуждения. Тезис «так честнее» не предполагает отказа от интерпретаций, но означает лишь повременить с ними в расчете на то, что «потом разберутся», в отличие от программной дискриминации концепций в статье академика В.Н. Топорова «Еще раз о связях Пушкина с французской литературой» (Russian Literature, 1988), которая заканчивается призывом регистрировать все параллели, поскольку в мироздании нет ничего случайного, и одновременно -призывом признавать факты без интерпретации. «Экзотерический... облик и авторитет филологии определялся именно концепциями, интерпретациями, или... неразрывностью подбора фактов и их интерпретации», теперь же филология потребовала «от своих адептов отречения от мысли»15, -констатировал Сергей Козлов. Как видно, вариантов концептуализации «фактологии» в качестве «достоинства» или «принципа» несколько, и она может выглядеть как реанимация позитивистского спора на тему нужен ли вообще анализ или достаточно набора фактов. Разумеется, этот вывод может возникнуть как универсальный результат рефлексии любого беспомощного или посредственного аналитика, но здесь я для наглядности ограничился мнением этоса российской филологической науки.
Призывы к фиксации фактов (сближений, совпадений) с релятивизацией интерпретаций идеологически наследуют проблеме критики источников. Попытки снять вопрос о единичности и множественности сближений начались едва ли не с момента изобретения терминов «подтекст» и «интертекст». Основоположником «подтекстуального анализа» считается югославский филолог Кирилл Тарановский (труды 1963 - 1976 гг.)16, понимавший подтекст как разновидность реминисценции из другого текста, которая становится смысловым источником мотива. Плюрализм интерпретаций К.Тарановским заранее отвергается; это гарантирует «научность» филологическому исследованию: подтекст, обладающий объяснительной способностью, принципиально единичен. Так однажды убедительно разобранный текст становился недоступным для изысков. Естественным логическим шагом последователей К.Тарановского стало избавление от представления о единичности подтекста. Положение исправлено теорией «смерти автора» Ролана Барта (1971), оправдавшей
существование филологов, которых К.Тарановский оставил, было, без материалов для исследований.
Теория интертекстуальности Юлии Кристевой (между 1964 - 1969 гг.),
созданная под влиянием бахтинских идей (диалогизм, переоформление
действительности и т.д.), стала санкцией на поиски множественных
подтекстов, переименованных в интертексты. Уже в 1974 году Юлия Кристева
отказалась от термина «интертекстуальность», усмотрев в нем возврат к «критике
источников»17. Вслед за теориями Кристевой («каждый текст строится как
мозаика цитат», «любой текст - это превращение другого»18) и Барта («каждый
текст - это интертекст», «новая ткань из прошлых цитат», в которой
обнаруживаются как тексты предыдущей культуры, так и современной
автору19) возникает теория «страха влияния» Харольда Блума (1975)20,
синтезировавшего формализм с фрейдистским эдиповым комплексом. Страх
давления авторитетов (классиков) рождает бунт, или «сознательный
ревизионизм» традиции и принимает форму искажения классики (misreading, ошибочного прочтения). Майкл Риффатер (1978) объявляет всякий новый текст результатом трансформации уже существовавших и освященных традицией, осуществляемой двумя способами - expansion (развертывание) и conversation (обращение). Игорь Смирнов понимает каждый новый текст как результат интертекстуального диалога минимум двух «пре-текстов», и т.д. Остается теоретически обойти сложность, связанную с потребностью в сепарации «неубедительных» подтекстов, и проблема сверхтекстуализации вовсе перестанет выглядеть как наказание тем, кто «не слушается» Тарановского.
Усилия структуралистской компаративистики прикладываются к изобретению способов снять вопрос о сознательности отсылок или элиминировать проблему критики источников в рамках историко-типологических сравнений. Александр Жолковский, профессор славистики и сравнительного литературоведения университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес), находит удобный способ избавиться от дискуссии о «сознательности отсылок» в замене термина «цитата» на термины «текстовый объект» и «структура», обозначающие не конкретные тексты, а «целые схемы мышления», «системы приемов» и «текстуальные навыки»21. Из последних структурно-компаративистских опытов, где фактически снята проблема критики источников, назову монографию профессора Мэдисонского университета (Висконтин, США) Юрия Щеглова «Антиох Кантемир и стихотворная сатира» (2004). Делая упор на процедуре «идентификации элементов произведения в пространстве литературных концептов», Ю.Щеглов сообщает, что ему, воспитанному на структурно-типологической лингвистике, обидно, когда об "описании" говорят уничижительно, поэтому для социальной легитимизации своего метода он вводит термин «нео-дискриптивный ПОДХОД»22.
Издержки «семантизации» литературных отношений замечаются не только «практиками» (хотя в первую очередь ими - ср. замечание Бьяджо д'Анджело, что интертекстуальность объединяет под одним названием явления,
известные раньше как реминисценция, использование источников и цитирование23). Антуан Компаньон в «Демоне теории» с пафосом ревизионистского здравомыслия критикуя Женетта, указывает осудительным тоном, что он подменяет «интертекстуальностыо» традиционные понятия «источника» и «влияния»24. Для Компаньона уход в сферу чистой семантики -достижение сомнительное, и претензия эта старая (ср., например, недовольство Бахтина «замыканием в текст»25). Структуралисты же представляют выведение этих понятий из практического оборота как сознательное преодоление традиции и похвальное свое достижение в области семантики: цитата рассматривается как семантическое явление («подтекст», «интертекстуальность»), а не «психологическое» («влияние», «воздействие», «подражание»)26.
В постструктуралистских культурных и интеркультурных исследованиях сверхтекстуализация осознается как дискредитирующая составляющая компаративистики. Недостатки усматриваются в методе или соответствующем термине, а не в тех, кто его выбирает и им пользуется. Так рождается мультикультуралистский заговор против компаративистики.
Радикальные альтернативы компаративистике, как правило, принадлежат к сфере «настоящей теории», которая принесла разрыв с историей литературы и литературной критикой, «о чем столь многие теперь сожалеют» (писано Полем де Маном еще в 1986 году27). Громоздкие опыты систематизации материала, начавшиеся с выделения наряду с «контактными» влияниями феномены типологического родства инонационального и национального - ср., например, массивные дихотомические классификации, которые с подачи словацкого компаративиста Диониза Дюришина (1929 - 1998), выстраивались в «контактологии»28, - сменились отслеживанием новаций в собственных абстрактных рефлексиях.
Иной подход, осуществляемый в рамках культурных исследований (Cultural Studies), связан с отказом от категории «литературности» и, соответственно, от сравнения литератур в пользу сравнения культурных феноменов29. О смерти литературной компаративистики было объявлено, например, в книге британской исследовательницы Сюзан Бэсснетт «Компаративистика: критическое введение» и в т.н. «бернхеймеровском докладе» Американской ассоциации сравнительного литературоведения (ACLA). В последнем, в частности, сказано, что раз литературные тексты ныне понимаются как одна из возможных дискурсивных практик, и «термин "литература" больше не способен адекватно описывать объект нашего исследования», то дисциплина более не должна фокусироваться только на литературных феноменах. Магистральным путем развития современной компаративистики становится социальная легитимизация «сравнительных культурных исследований», расширяющих количество объектов анализа, безотносительно к их качеству30.
Сам Чарльз Бернхеймер называл уход от исследования «литературности» и возникновение культурных исследований исторически обусловленной реакцией
на имманентный анализ, господство которого установилось в США после Второй Мировой войны. По его словам, переход к «внешним» (extrinsik) аспектам литературных отношений, осуществился в 1980 году, когда контекстуализация стала «лозунгом наиболее влиятельных подходов к литературе». Культурные исследования переводят дихотомию имманентного / интертекстуального анализа в термины «интеркультурный» и «интракультурный» аспект. Специфика интеркультурного аспекта по сравнению с компаративистским, как указывает Удо Шёнинг, заключается в акцентировке моментов взаимодействия (inter-nationales, inter-culturelles) и переноса (transfert). Интер культурные исследования учитывают как состояние «влияющей» (litterature de depart) и «рецепирующей» (litterature d'arrivee) литературы, так и все, что сопутствует контактам (условия и следствия, выбор, трансформация, формы, средства, способы передачи, персоналии и группы или социальные слои, которые участвуют в трансферте)31. Кажется, интер культурный подход de facto негативно переосмысливает метафору «пребывания на границах», выражающую статус компаративистики32: компаративист ставится в положение таможенника, который наблюдает за тем, что ввозится в страну и вывозится из нее, но не успевает толком выяснить, откуда что берется и куда что девается. Интеркультурные исследования предлагают, во-первых, наладить более жесткий контроль за "импортом" и "экспортом", помещая метод в зависимость от аксиологии «l'alterite» с ее тезисом «культура -это «другое», а не «эхо» другой культуры», а, во-вторых, извлекая урок из претензий Уэллека к Ван Тигему, изучать жизнь литературных феноменов в национальной культуре, избавившись от редукций и центризма (партикуляризма), усиленного влиянием глобалистекой концепции единой Европы.
Новации культурных исследований, впрочем, не сводятся к оппозиции
контекстуализации/деконтекстуализации33. Бернхеймеровский доклад,
поставивший вопрос о будущем литературной теории, вызвал полемику, которую Спивак в книге «Смерть дисциплины» (2003) назвала «бурей в стакане», современным спором о древних и новых. Маргинализация литературной теории вызвала больше всего возражений (в т.ч., со стороны таких ее корифеев, как Майкл Риффатер и Питер Брукс). Специалисты по проблемам методологии литературных школ, склонные примирительно решать эти проблемы, предостерегают против перспективы смещения традиционных центров в сторону культурных исследований, настаивая на неисчерпанности традиционного методологического репертуара (например, указывая на существование дефиниций литературности, учитывающих контекстуальность и идею взаимодействия читателя с текстом, на концепцию «интерлитературности» Диониса Дюришина, до сих пор удерживающуюся в научном обороте; наконец, на вполне себе "контекстуализованные" кросскультурные исследования американской школы компаративистики, ориентированные на поддержание диалога с другими дисциплинами и культурными дискурсами)34. При этом сопротивление культурных исследований текстоцентризму не приводит к
полному отказу от текстового анализа, поскольку основания культурных исследований «лежат в пересечении литературной и социологической теорий»35. Умеренные альтернативы решения проблемы следуют из убежденности, что никакие методологические ограничения на анализ текстов никем, кажется, не накладывались36, и - «...перед нами не кризис филологии, а кризис отдельных филологов»37 или «мы наблюдаем скорее не кризис компаративистики, а кризис компаративистов, точнее, их почти полное отсутствие»38. Эта мысль высказывается, как видно, не в специальных теоретических статьях, а на круглых столах или содержится в указаниях на экспериментальное преодоление «разрыва между синхронической и диахронической интерпретациями в кратких примечаниях к конкретным разборам39.
Понятно, что «написать историю» и «составить каталог» - две разные задачи; попытки их примирить, кажется, и порождают риторику кризиса компаративистики. Предпочтение каталога - истории может быть связано с опасением, что необходимые в последнем случае обобщения могут обернуться спрямлениями и аберрациями, а выводы, составленные из одних только гипостазированных понятий, оказаться набором банальностей или, в лучшем случае, - страдать информативной неполноценностью. Уместно напомнить о давнем споре Вальтера Беньямина с Конрадом Бурдахом по поводу конститутивных идей в предмете. К.Бурдах видел схоластику в приписывании реальной сущности конститутивным идеям («универсалиям», по его терминологии), которые понимаются как единая субстанция, тогда как на самом деле призваны быть лишь прикладной абстракцией, помогающей обозрению многообразия. Гипостазируемые же общие понятия мешают это многообразие обозревать. Беньямин возражал, что гипостазирование - необходимость, которой требует гуманитарный метаязык; его предназначение - «охранить языковую форму научного изложения от скепсиса, безграничного и затягивающего [...] в свою пучину любую индуктивную методику»40. Таким образом, вопрос можно сформулировать о степени абстрактности гипостазируемых понятий, хотя и он, разумеется, останется дискуссионным.
В мультикультуралистской парадигме, видимо, не может быть и речи об осторожности с обращением слов в видовые понятия: осознание невозможности дальше описывать литературу «терминами эпохи» и «антиэссенциализм», располагающий к введению новых терминологических систем, принимаемых за прямое основание понятия, как кажется, могли возникнуть из рефлексии над настойчиво акцентировавшейся структуралистами проблемой неадекватности метаязыка терминам эпохи и соответствующей им системы мышления. Кажется возможной такая терминологическая система, которая не требует непременно сихронизировать диахронию, усовершенствовать гипостазируемые понятия путем отказа от «эссенциалистских» или унификации и примирения между собой всех когда-либо существовавших дефиниций, а создает понятийную «среду», или «оболочку» (напрашивается аналогия с операционной системой), где современные рефлексии и интуиции будут инструментом подступа к дискурсу изучаемой эпохи. В частности, антиэссенциалистское суждение А. Фоулера о том, что
жанр - это «понятие с расплывчатыми гранями» (неопределенными очертаниями), представляется не только адекватным «современным взглядам, которые, начиная с 1970-х годов, изменили традиционное представление о генологических системах»41, но и в принципе верным, а отказ от терминов, о значении которых за сотни лет существования филологи не смогли договориться, - обоснованным. «Повесть», например, до сих пор описывается фигурами фикциям (чем она непохожа на роман или рассказ42). Б статье о новелле, написанной для «Международного словаря литературных терминов и понятий» двумя французскими специалистами - Жаном Сгаром из Университета Гренобля («Проблемы дефиниции») и Рене Годенном из Льежского университета, автором монографии «Французская новелла» (1973) и др. работ по истории новеллы («Исторический комментарий»), - выяснилось, что обобщить и упорядочить самые ходовые определения этого термина невозможно, а можно лишь очертить идеал новеллы, унаследованный от Боккаччо, Банделло, Сервантеса, Скаррона или Сореля (относительная краткость, психологическая достоверность, драматизм, отсутствие украглений). В итоге ученые сумели внятно описать только историю дефиниций, установить близость новеллы к другим жанрам (таким, как анекдот, забавная повесть (l'histoire rigolote), сказка (conte), басня, фаблио, ло и проч.), констатировать, что новелла -разновидность наррации, которая может реализоваться во множестве форм и предложить воздержаться от применения современного термина к старинным и оригинальным формам43. По этой причине в диссертации нигде не применяются традиционные генологические категории типа «повесть» или «роман», что не отменяет, однако, необходимости изучения «дискурсов жанра» (Ц.Тодоров) - оригинальных способов авторской идентификации текстов; под это отведена часть первой главы.
Цели и задачи исследования
С тех пор как Веселовский сделал «влияния» основоположной проблемой литературоведения и до настоящего времени задачи филологии понимаются как компаративистские по преимуществу, а под филологией подразумевается «подбор параллельных мест к тексту», «их поиск, нахождение и селекция по каким-либо критериям»44. Диониз Дюришин считал компаративный метод необходимой и естественной для любого историка литературы операцией; недавно эту мысль повторил американский филолог из Университета штата Джорджия Майкл Рубине: «...каждый литературовед непременно должен быть в некоторой степени еще и компаративистом, рассматривая анализируемый текст как палимпсест, потенциально содержащий отсылки ко всей мировой литературе»45. Одной из целей исследования было определить сходства и различия в интерпретациях сюжета о Психее и Купидоне, с учетом эпистемологических (герменевтических) потенций сравнительно-исторического метода, позволяющих обнаружить и прокомментировать то, что при имманентном анализе остается скрытым в подтексте или попросту незамеченным.
В XVII - XVIII вв. литературные вариации апулеевского сюжета, восходящего к фольклорным схемам 425 и 428 (по классификации Аарне-Томпсона46), - о жене, теряющей мужа в результате нарушения запрета и вновь обретающей его после ряда испытаний, - довольно многочисленны. Как показал шведский фольклорист и этнолог Ян-Ёйвинд Сван / Jan-Ojvind Swahn, сами схемы 425 и 428 поддаются более дробной типологизации47. Взяв за основу каталог Аарне-Томпсона, он построил исследование как его детализацию и корректировку, изучив географию распространения и варианты сюжета. При этом выяснилось, что практически всем компонентам апулеевской фабулы находятся параллели в фольклоре, причем основные варианты распространены далеко за пределами Средиземноморья и Скандинавии, в Европе, Азии, Африке и Индонезии. Разумеется, способы описания фольклорных сюжетов неприменимы к литературным, а, кроме того, как заметил немецкий фольклорист В. Штейниц, «каталог Аарне-Томсона пригоден для практической работы, как пригодны, например, словари, содержащие слова, перечисляемые по алфавиту. Однако это не значит, что алфавитный порядок есть теоретически обоснованная система систематизации лексики какого-либо языка»48. Главная парадигма, восходящая к апулеевскому образцу сюжета, существует в сложной структуре концептов (мотивов, образов, идеологем) и кодов, детерминирующих дискурс. Целью исследования было выделить такие мотивы и определить их с семантику в контексте связей с культурными кодами, причем идентификация элементов сюжета не всегда очевидна, а иногда даже осуществляется после интерпретации. Такой подход обосновал Ролан Барт, который писал, что «у текста нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один из них нельзя наверняка признать главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной дали»і9. Признав неразрешимость текста, Барт тут же дезавуировал претензии интерпретатора на полноту комплексного анализа: «Этим сугубо множественным текстом способны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не замкнут, ибо мера таких систем - бесконечность самого языка»50.
Символическая идея, лежащая в основе мифа об Амуре и Психее,
неизбежно выражается в позднейших интерпретациях, однако каждый автор
переписывает историю заново под влиянием не только апулеевского текста или
новых его обработок, но и литературной продукции, не обнаруживающей с
историей Психеи никакой сюжетной близости. Поэтому исследование не
может быть сведено к механической фиксации отсутствия / наличия мотива
или образа в разбираемых текстах, но нуждается в выходах к более широким
историко-культурным контекстам. Еще одна задача предлежащего
исследования - установить интертексты и возможные источники влияний и
описать конвергенции - процессы постепенного сближения
противопоставленных общностей, появления сходных черт, у далеких Б систематическом плане, но существующих в сходных культурных условиях текстов.
Характеристика литературы
Наиболее изученный аспект заявленной темы - генезис и символика апулеевской версии сюжета, связь его с фольклором. Серьезному изучению сюжета в сравнительно-историческом аспекте положила начало основательная монография Я.-Ё.Свана51. Проводились комплексные историографические исследования литературной psychegraphia, появлялись работы о влиянии апулеевского сюжета на литературу XVII - XVIII вв. (Т. Г. Браун, П. Аккардо, У. де Мариа, С. Кавиккьоли52), в т.ч. в связи с другими видами искусства53. Изучение испанской psychegraphia в работах А. де Датура, Т. А. О'Коннора, П. Аккардо, М. де Грасьи Сантос, Э. Рулла, и др. о трансформации мифа в текстах Вальдивиельсо и Кальдерона, воздействии на них древней и средневековой аллегорической традиции54 в отечественной испанистике практически не продолжено, во всяком случае, на русском языке известная мне литература об аутос Кальдерона сводится к общим работам В. Силюнаса и одной специальной статье академика Н.И.Балашова55.
Хотя французский писатель Жорж Бордонов в конце 60-х жаловался, что Психею Мольера-Корнеля «совершенно напрасно больше не читают и не советуют читать»56, к этому тексту хотя бы написаны историко-литературные комментарии. Сочинения же Бенсерада, Кольтеллини, Тома Корнеля -Фонтенеля, Томаса Шедуэлла или Вуазенона фигурируют лишь в работах по истории музыки, а филологи уделяют им минимальное внимание. Большинство исследований, посвященных произведениям Бенсерада, Мольера, Корнеля, Марко Кольтеллини, находящимся на границе музыки и литературы, выполнены в рамках музыковедческой методологии. При таком подходе практически не рассматривается сюжетная структура либретто и особенности семантики, однако некоторые из них оказались полезными как источник фактических сведений.
Профессору Бургундского университета в Дижоне Жану-Пьеру Коллине, под редакцией которого выходит последнее полное собрание сочинений Лафонтена в библиотеке Плеяды57, принадлежит монография «Литературный мир Лафонтена»58 — капитальное исследование теоретического дискурса, авторской рефлексии и литературного самосознания эпохи, высоко оцененное специалистами59.
Остается неизданной диссертация Джона /1. Логана «Психея: Критическое исследование» (1975)60; ряд исследований, специально посвященных Психее, я не смог использовать в работе над диссертацией61. Пробел несколько восполняет компилятивная монография профессора Французского Университета Иллинойса в Чикаго / French University of Illinoys Мари-Одиль Швицер «Лафонтен» (1987), где имеются краткие, но репрезентативные экскурсы в историю интерпретаций. В монографиях о Лафонтене под Психею обычно отводится специальная глава, которую составляет в основном пересказ сюжета и теоретических пассажей, иллюстрирующие изложение «эстетических
принципов» Лафонтена62. Похоже, основную трудность авторов монографических исследований составляет перевод эстетических манифестаций автора в собственную систему понятий, поэтому они то и дело пользуются характеристиками Лафонтена и его героев. Больше пользы, на мой взгляд, - в статьях, посвященных отдельным аспектам поэтики Психеи. Авторы обращаются к Психее как материалу, на котором удобно опробовать новейшие концепции, например, результатом оживившегося интереса к проблемам чтения стала работа Мишеля Венсана (Американский университет Парижа) «Голос и текст», рассматривающая Психею как «хрестоматию стилей и жанров 17 столетия от волшебной сказки до платонического диалога, включая дескриптивную и лирическую поэзию»63; исследование Натана Гросса «Функции обрамляющего нарратива» - о роли читателей-персонажей (internal readers) в Психее и результатах их прочтения; работа Жаклин ВанБелен «Психея: к эстетике свободы» о структуре текста Лафонтена, содержащая его анализ в отношении к классицистическим правилам64; статья Жана Баршилона, где Психея анализируется как сочинение, написанное по преимуществу в юмористическом роде; статья Маргарет МакГоун, обнаружившей не только следы сюжетного влияния на Психею Сна Полифила Ф. Колонны (тема поисков возлюбленного с аллегорическим подтекстом), но и конкретные сближения на уровне наррации и поэтической техники (поэтика уходов от описаний), и др. Примечательно, что произведение XVII века воспринимается как исключительно податливое для экспликации новейших концепций.
Образец последовательного фронтального анализа текстов Апулея и Лафонтена - работа Мо Андре «Сказка Психеи Апулея и Лафонтена», написанная в Католическом Университете Louvain-la-Neuve под руководством Поля-Огюстена Депро и опубликованная в 2002 году бельгийским электронным журналом Folia Electronica Classica65. Введение (неопубликованное) состоит из сравнения биографий, изложения содержания повести и доклада об истории этого сюжета в литературе до Лафонтена. Первая часть посвящена источникам и структуре текста; во второй апулеевская и лафонтеновская версии сравниваются по 5 параметрам - география и места действия, персонажи, чувства, испытания и, наконец, риторика; в третьей части история Лафонтена помещается в идеологический контекст XVII века. Аналогичной работы, где сравнивалась бы Психея Лафонтена с Душенькой Богдановича со времени статьи Карамзина О Богдановиче и его сочинениях (1804) так и не появилось, хотя отдельные наблюдения содержатся в статье Томашевского (где Душенька сопоставляется с лафонтеновским текстом в отношении к Руслану и Людмиле Пушкина), а также в комментариях И.З.Сермана и АЛ.Зорина. . В конечном счете, изучение этих текстов многим обязано моде на определенные темы. Душенька, специальная литература о которой долгое время исчерпывалось неопубликованной кандидатской диссертацией аспирантки Григория Буковского Софьи Гинзбург66 и единственным комментированным изданием Ильи Сермана67, стала изучаться в последнее время, когда в России актуализировался интерес к
проблемам нарратологии (Г.Н.Ермоленко, О.В.Лебедева), пасторали
(Т.В.Саськова, А.А.Скакун) и масонской литературы (В.И.Сахаров, Т.В.Саськова). В ряде западных исследованиях Душенька рассмотрена в связи с механизмами культурного экспорта (Р. Лахманн, И.Клейн), болгарский славист Ангелина Вачева использовала текст Богдановича в целях своей диссертации, постаравшись представить ее как «бурлескную поэму».
Примечательно, что Лафонтен непременно фигурирует в российских учебниках по литературе XVII века, в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся «Лафонтеновские чтения», но о его творчестве в России написаны всего три диссертации (две о баснях и одна - о contes68) и до сих пор нет ни одной - пусть даже переводной - научной монографии.
Предмет исследования
Предметом серии разборов, следующих в порядке общего развития сюжета, становятся следующие тексты: Любовь Психеи и Купидона Жана де Лафонтена69, Психея Мольера-Корнеля-Кино70, Даже любовь не избавляется от любви и Амур и Психея Педро Кальдерона71, Психея, или Могущество Любви Исаака де Бенсерада72, Амур и Психея Марко Кодьтеллини (последний текст стад фактом не только итальянской, но и российской литературы)73, а также русский перевод Психеи Лафонтена, выполненный Дмитриевым-Мамоновым, и Душенька Богдановича. В ряде случаев, не систематически к разбору привлекаются Метаморфозы Апулея и Адонис Д. Марино, но они присутствуют в разборах в той только степени, в какой необходимы для целей исследования. Показалось полезным также обращение к «комедии» Оракул де Сен-Фуа и анонимным текстам конца XVIII - начала XIX в. (барковианская «Душенька» и «Катинька») - маргинальным филиациям сюжета, позволяющим уточнить особенности его рецепции в России. Ограничиваясь разборами этих текстов, я руководствовался не столько соблюдением «разумных пределов», сколько объективным фактором -местом, где писалась диссертация, а точнее - отсутствием в московских библиотеках (РГБ, Библиотека иностранной литературы, ИНИОН) необходимых текстов и посвященных им исследований. В результате «итальянский след» прослеживается недостаточно, а отдельные тезисы требуют дополнительной аргументации.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ман Поль де. Критика и кризис [1967] // Поль де Ман. Слепота и прозрение. Статьи о
риторике современной критики. Перевод с английского Е.В.Малышкина. СПб., 2002. С. 12 -15.
2 Madelenat D. Comment ecrire l'histoire de la litterature comparee // Revue de litterature comparee,
3 (2000). P. 265.
3 «Возраст компаративистики уже достаточно почтенный, чтобы говорить о вхождении в пубертат» (Проблемы современного сравнительного литературоведения. Сборник статей. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 17), возражает Маделена научный сотрудник ИМЛИ Кирилл Чекалов.
4 Бетеа Дэвид. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта. Перевод с английского
М.С.Неклюдовой. М.: ОГИ, 2003. С. 24. Книга написана к 200-летиему юбилею Пушкина, но Бетеа,
перефразируя И.Сталина, отпраздновал юбилей не Пушкина, а пушкинистов: монография
посвящена в основном Фрейду, Блуму, Якобсону и Лотману.
5 См.: Juvan М. On Literariness: From Post-Structuralism to Systems Theory // Comparative Literature
and Comparative Cultural Studies. Ed. Steven Totosy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue UP, 2003. P.
76 - 98.
6 Это соображение муссируется в компаративистике до последнего времени: Удо Шёнинг пишет,
что феномен интеркультурности не терпит культурного равнодушия и релятивизма, а
подлинным интеркультурным исследования чужды националистическая и империалистическая
позиции. Фазисом преодоления «национальной позиции» здесь считается книга Сартра «Что
такое литература?», 1948 (см.: lido Scheming. Culture et interculturalite // Dictionnaire International
des Termes Litteraires. 24 juin 2003 <> или мой реферат этой работы:
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7,
Литературоведение: Реферативный журнал / РАН ИНИОН, № 4, 2004. С. 10). Я намеренно
оставляю в стороне сталинистские варианты решения заявленной проблемы, в частности,
считаю бесполезным для целей этого введения обсуждать вопрос о космополитизме и
теориях мирового значения национальной литературы.
7 См. об этом: Clements Robert }. Comparative Litarature as Academic Discipline: A Statement of
Principles, Praxis, Standarts. NY, 1978. P. 3 - 4.
8 Веселовский A. H. Историческая поэтика. Под редакцией В. М. Жирмунского, Л.: Художественная
литература, 1940. С. 246.
9 Kovala Urpo. Cultural Studies and Cultural Textual Analysis // CLCWeb: Comparative Literature
and Culture: A WWWeb Journal 4.4 (December 2002) <>
10 См. об этом, например, участливую статью одного из авторов проекта «Истории мировой
литературы»: Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история (О западноевропейских литературах XVI
- первой половины XIX века). М., 1990. С. 285 - 311.
11 См., в частности: Тиме Г.А. О некоторых тенденциях современной компаративистики
(Теоретические и практические аспекты) // Россия, Запад, Восток: встречные течения. К 100-летию
со дня рождения академика М.П.Алексеева. СПб., 1996. С. [387 - 395] 388 - 389; здесь на материале
немецкоязычной компаративистики показано, как возникает и усиливается "тональность кризиса".
12 Ср., например, мнение А.Д.Михайлова, который называет "надуманными" "попытки ограничить
предмет контактными связями или только общими закономерностями движения литературы, ибо
метод невозможен «вне и помимо фактов» (предмета исследования), а «факты не могут быть
осмыслены и изучены вне рабочих приемов» (Проблемы современного сравнительного
литературоведения..., с. 5).
13 См.: Философия филологии. Круглый стол [20 сентября 1995 г.]//НЛО, 17 (1996). С. 52, 83.
14 Гаспаров МЛ. Как писать историю литературы // НЛО, 59 (2003). Другие истории литературы.
Специальный выпуск. С. 142.
15 См.: Философия филологии..., с. 51 - 52.
16 Taranovsky Kirill. The Problem of Context and Subtext in the Poetry of Osip Mandel'stam // Slavic
Forum: Essays in Linguistics and Literature (1974). P. 149 -169.
17 Оставляю в стороне различия в трактовке интертекстуальности, не относящиеся к проблеме
«критики источников». Одну из последних компиляций сведений на этот счет см.: Шаадат Ш.
Новые публикации по интертекстуальности. Перевод с немецкого В. Плунгяна // НЛО, 12 (1995).
С. 337 - 344; Денисова Г.В. В мире интертекста. М., 2003. С. 30 и далее.
1S Kristeva Jn. Semeiotike. Recherchese pour une semanalyse. P., 1969. P. 146.
19 Одна из самых цитируемых дефиниций Барта - см., например: Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. С. 226; Семиотика. Антология. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 36 - 37, и проч.
20 Bloom H. The Anxiety of influence. NY, 1973; рус. перевод - Блум Хэролд. Страх влияния. Карта
перечитывания. Перевод, составление, примечания, послесловие С.А. Никитина. Екатеринбург:
Издательство Уральского университета, 1998. 352 с.
21 Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 30.
22 Щеглов Ю.К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира СПб.: Гиперион, 2004. С. 23.
23 Д'Анджело Б. Narratio et delectatio. Пародия в средневековой романской литературе (1250 -
1350). М.: ОГИ, 2003. С. 29 (написана на русском).
24 Компаньон Антуан. Демон теории. Литература и здравый смысл. Перевод с французского С.
Зенкина. М., 2001. С. 131.
25 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 372.
26 См., например: Ронен О. К.Ф.Тарановский и «раскрытие подтекста» в филологии //
Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. Левинтои Г.А., Тименчик Р.Д. Книга
К.Ф.Тараыовского о поэзии Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000.
27 Поль де Ман. Борьба с теорией. Перевод В.А.Плунгяна // НЛО, № 23 (1997). С. 11.
28 Диониз Дюришин поделил генетические контакты на внешние (обусловленные этническими,
географическими, языковыми и проч. факторами) и внутренние (перевод, влияние, заимствование,
вариация, цитация, пародия, подражание и т.д.); внутренние - на пассивные и активные, а также
случайные (эпизодические) и постоянные (длительные). Помимо этого различил контакты
синхронические и диахронические, в диахронических - парадигматические и синтагматические и
т.д. Детали этого опыта, кажется, обречены на заведомо "нетворческое" существование (см.,
например: Аминева В.Р. Типология контактов как способ систематизации межлитературного
процесса // Русская и сопоставительная филология: Системно-функциональный аспект. Казань,
2003. С. 204 - 208; ср. также ностальгическую статью эстонского компаративиста, содержание
которой сводится к мысли о неисчерпанности потенций теории Дюришина: Бассель Н. Проблемы
межлитературных отношений: вчера и сегодня // Вопросы литературы, 6 (2002). Д.Дюришин в то
же время признавал, что контактно-генетические и типологические общности взаимообусловлены
и "пересекаются" (Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979. С. 173),
предвосхитив проблему "критики источников", обновленную в структурализме.
29 fuvan М. On Literariness: From Post-Structuralism to Systems Theory // Comparative Literature and
Comparative Cultural Studies. Ed. Steven Totosy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue UP, 2003. P. 76 -
98.
30 Ср., хотя бы: Иванова Н. С. Культурные исследования // Западное литературоведение XX века.
Энциклопедия. М.: Intrada, 2004. С. 205 - 207.
31 См.: Udo Schoning. Culture et interculturalite..., Ibid.
32 Пахсаръян H.T. [Ответы на вопросы круглого стола] // Проблемы современного сравнительного
литературоведения..., с. 92.
33 Между тем, пока критики обсуждают легитимность усвоения компаративистике одной из
мультикультуралистских аксиом - «Идентичность литературы, ее отличие от нелитературных
феноменов, не может быть установлена в соответствии с абсолютными стандартами» (Ч.
Бернхеймер) - от внимания ускользает другая методологическая проблема. Культурные
исследования, как сказано, корректируют задачи исследования, понимая их как избавление от
редукций и центризма, но не содержат никакой оригинальной методики; метод сравнения-
сопоставления по-прежнему, как и за все время существования компаративистики, не
получает в них сколько-нибудь серьезного философского обоснования. У. Шёнинг, размышляя о
перспективах интеркультурности, признает необходимость использовать методы исследования,
опробованные, в частности, антропологией, сознавая, что свои собственные еще не выработаны
(Udo Schoning. Culture et interculturalite..., Ibid). Поэтому, несмотря на попытки отрефлексировать
«занятия наукой» в виде антитезы «центристской» компаративистики и «диалогичных»
интеркультурных исследований, кажется, нет оснований выделять интеркультурные, или
сравнительные культурные исследований в качестве самостоятельной дисциплины, разорвавшей
с компаративистикой, каковой пытаются представить свои занятия «интеркультурологи».
34 Резонанс, который вызвал бернхеймеровский доклад, подробно проанализировал словенский
компаративист Томо Вирк: Comparative Literature versus Comparative Cultural Studies. Translated
from the Slovenian by Kristof Jacek Kozak // CLCWeb Library of Research and Information ... CLCWeb
Contents 5.4 (December 2003) <>
35 Kovala Urpo. Cultural studies and Cultural Textual Analysis..., Ibid.
36 Иначе говоря, исследователь волен вводить в свой «компаративистский» текст сколь угодно
«некомпаративистские» наблюдения, сравнивать что угодно, на упреки в «центризме»
отвечать, что неполнота любого исследования - заведомый и объективный фактор; а на все
прочие упреки - что никто не обязан быть умным, достаточно лишь определять, что ему нужно
и нужно ли ему это. Последнюю мысль пытался внушить студентам У.Эко, когда советовал
выбирать методологию, реально соответствующую возможностям, имея в виду интеллектуальные
(Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Перевод с итальянского Е.
Костюкович. М., 2001. С. 17).
37 Козлов С. Л. [Ответы на вопросы круглого стола] Философия филологии // НЛО, 17 (1996). С.
54.
38 Пахсаръян Н. Т. [Ответы на вопросы круглого стола] // Проблемы современного сравнительного
литературоведения..., с. 93
39 Например, Р.Г. Лейбов в диссертации о Тютчеве предпочитает термин «контекстуальный
метод анализа», определяя его, во-первых, как дополнительный по отношению к имманентному
и, во-вторых, включающий в себя интертекстуальный, но предполагающий расширение круга
источников - соотнесение текста с «нехудожественными речевыми жанрами письменной и
устной речи» (Роман Лейбов. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. С. 59 -
60. Текст диссертации выложен также на сайте Тартуского университета <>).
40 Бенъямин В. Происхождение немецкой барочной драмы [1963]. Перевод с немецкого С.Ромашко.
М., 2002. С. 20 - 23.
41 Jiwan М. Generic Identity and Intertextuality / Translated from the Slovene by Andrej E. Scubic //
CLCWeb: Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal, 7.1 (March 2005). West Lafayette:
Purdue University Press <>
42 Как сказал современный критик, «отличать повесть от романа умел только профессор Поспелов
(да и тот менял не раз свои дефиниции), а спорить на эту тему любят студенты-филологи второго-
третьего курсов (к четвертому - проходит)» (Немзер А. Истории села Горюхина. Названы пять
«повестей года» // Время новостей, № 9, 21 января 2003 г.)
43 Sgard Jean. La nouvelle I. Problemes de definition. Godenne Rene. La nouvelle II. Commentaire
historique II Dictionnaire International des Termes Litteraires <>, 3 mars 2003.
44 См., в частности: Философия филологии..., с. 52.
45 Рубине М. [Ответ на вопрос круглого стола] // Проблемы современного сравнительного
литературоведения..., с. 15.
46 Ср.: «Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену: волшебные предметы или животные
помогают (в начале часто рассказывается о девушках-лебедях, голубках и т. п.); обычно в
соединении с другими типами [...]» (Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне.
Л., 1929. 400 А). «Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену (жена ищет мужа): при
вступлепии в брак муж (жена) обязуются не нарушать какого-либо запрета; нарушив запрет,
отправляется на поиски исчезнувшей жены (мужа) и благодаря чудесной помощи находит [...]»
(Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979. 4001=АА400А=К 400А, В,
С, D).
47 Swahn ]. О. The Tale of Cupid and Psyche, Lund, 1955.
48 VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Том VI. М.: Наука,
1969. С. 398.
49 Барт P. S/Z. М., 1989. С. 14.
50 Барт P. S/Z..., с. 14-15.
51 Андерсон В. Роман Апулея и народная сказка. Т. 1. Казань, 1914; Swahn J. О. The Tale of Cupid and
Psyche, Lund, 1955;
52 Большая часть их осталась мне недоступной, в частности: Ugo De Maria. La favola di Amore e
Psiche nella letteratura e nell'Arte italiana con appendice de code inedite. Bologna, 1899; Haight
E.H. Apuleius and his Influence. NY, 1963; Brown Thomas Harold. La Fontaine and Cupid and Psyche
tradition. [Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1968.] 105 p.
53 Изучение жизни сюжета в скульптуре и живописи составляет особый и необозримый
корпус исследовательской литературы. Vertota L. The Tale of Cupid and Psyche in Renaissance
Painting before Raphael // Journal of Warburg and Courtauld Institute, XLII (1979). P. 104 - 121;
Chaffee Adeliza Brainerd. Cupid and Psyche in sculpture and painting. New York, 1909. 70 p. В
предлежащем исследовании задача не ставилась.
54 Antoine de Latour. Psyche en Espagne. P., 1876; O'Connor Thomas Austin. «El 'optimismo' de Ni amor
se libra de amor» // Calderon: Actas del Congreso internacional sobre Calderon у el teatro espafiol del
Siglo de Oro. Ed. Garcia Lorenzo, Luciano. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1983.
P. 533 - 540; Gracia Santos M. de. Evolucion e interpretcion del mito clasico en la comedia Ni amor se libra
de amor у en el auto sacramental Psiquis у Cupido // Calderon de la Barca у su aportacion a los valores
de la cultura europea: 14 у 15 de noviembre de 2000. Jornadas Internacionales de Literatura Comparada.
Edition de Monserrat Iglesias Berzal у Maria de Gracia Santos Alcaide. [Madrid:] Universidad San Pablo-
CEU, Facultad de Humanidades у Ciencias de la Comunicacion, D. L. 2001; Rull Enrique. Psiquis у
Cupido: tradition у creation en Calderon // Там же. Мои рефераты двух последних работ
опубликованы в «Реферативном журнале»: Драматические сочинения Кальдерона о Психее и
Купидоне в компаративистских исследованиях (Сводный реферат) // Социальные и гуманитарные
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: Реферативный журнал
/ РАН ИНИОН. № 2, 2005.
55 Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства. Испанский театр маньеризма и барокко. СПб., 2000;
Балашов Н. И. Жанровая и идейная свобода аутос Кальдерона и просветительские тенденции в
Испании XVII в.//Iberica. Кальдерон и мировая культура. Л.: Наука, 1986.
56 Bordonove Georges. Moliere genial et familier. P.: R. Laffont, 1967; рус. перевод - Бордонов Жорж.
Мольер. Перевод с французского С.И.Великовского и Ю.А.Гинзбург. М.: Искусство, 1983. С. 289.
57 La Fontaine. CEuvres completes. Tome I: Fables, contes et nouvelles, edition etablie, presentee et annotee
par Jean-Pierre Collinet. P.: NRF Gallimard, 1991.1270 P. (Bibliotheque de La Pleiade).
58 Collinet Jean-Pierre. Le Monde litteraire de La Fontaine. P.: PUF, 1970.
59 Jiirgen Grimm [Rec.:] J.-P. Collinet. Le monde litteraire de La Fontaine // Kritikon Litterarum 2, 1973, S.
21 - 22. О том, что книга Коллине, выпущенная в 1970 г., не утратила научного значения,
свидетельствует ее переиздание в 1989 г.
60 Logan John L. La Fontaine's Psyche: A Critical Study. Ph. D. dissertation, Yale University, 1975.
61 В частности, мне остались недоступны работы, опубликованные в журналах PFSCL 4/5
(1976); 11 (1979); 12, № 22 (1985) - этого журнала нет в московских библиотеках; L'Esprit
createur (21, № 4, Winter 1981) - номер под ред. Давида Ли Рубина, специально посвященный
Лафонтену; в сборниках «Внутренняя связь: Труды по французской литературе XVII века»
(«La Coherence interieure. Etudes sur la litterature frangaise du XVII siecle», 1977) и «The
Equilibrium of Wit: Essays for Odette de Mourgues» (Lezington, 1982).
62 Ср., например, работы французского историка литературы Роже Дюшена, в течение 30 лет
преподававшего литературу XVII века в Университете Прованса (Duchene Roger. Jean de La
Fontaine. P., 1995 и материалы его сайта).
63 Vincent М. Voice and Text: Representations of Readings in La Fontaine's Psyche // The French
Review, (December 1983), Vol. LVII, № 2; с монографией этого автора, вышедшей позднее, мне
ознакомиться пока не удалось (Vincent М. Figures of the Text - Reading and Writing (in) La
Fontaine. Amsterdam; Philadelphia, 1992.154 p.)
64 Van Baelen Jacqueline. Psyche: vers une esthetique de la liberie // La Coherence interieure. Etudes
sur la litterature francaise du XVII siecle presentees en hommage a Judd D. Hubert. P., 1977. P. 177
- 86 (по пересказу M.O. Швицер).
65 FEC 4 (2002) Folia Electronica Classica, 4 (2002). Оригинал - на 134 страницах + 80 стр.
иллюстраций). Часть I. Содержание сказки Апулея и Лафонтеиа (стр. 15-17 и 27-31); П. Сравнение
версий. Персонажи (стр. 47 - 70); III. Сравнение версий. Вопрос о чувствах (стр. 70-83); IV.
Сравнение версий. Места действия (стр. 32 - 46).
66 Гинзбург С. С. Поэтическое творчество Богдановича. Кандидатская диссертация / Московский
Городской Педагогический Институт им. Потемкина. М., 1948. Микрофиша этой
диссертации хранится в отделе диссертаций РГБ (Химки); машииопись не выдается по
причине ветхости.
67 Богданович И.Ф. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья и комментарии И. 3. Сермана.
Л., Советский писатель, 1957 (Библиотека поэта).
68 Козлова Наталья Петровна. Творчество Лафонтена-баснописца. М., 1958. 401 с; Ермоленко
Галина Николаевна. «Сказка» Лафонтеиа. К проблеме жанра и метода. Диссертация... кандидата
филологических наук. /МГУ. М., 1982.
69 Психея всюду цитируется по этому изданию: La Fontaine. Les Amours de Psyche et de Cupidon //
Oeuvres Diverses. P.: Gallimard, 1948. P. 123 - 259, с указанием страницы в квадратных скобках.
Поскольку имеется русский перевод 1964 года, уместно сделать оговорку о принципах
цитирования. Перевод Психеи Лафонтеиа стал одним різ последних в филологическом
творчестве профессора Александра Александровича Смирнова (1883 -1962). А.А.Смирнов не
успел перевести стихотворные фрагменты романа - за него это сделала Н.Рыкова - и
подготовить текст к печати - за него это сделал его ученик Ю.Б.Корнеев (1921 - 1995), - так
что ответственность за результат во многом лежит на редакторах. В переводе 1964 года нередко
передается только общий смысл фрагментов, которые оказываются поэтологически
значимыми. Так, в переводе 1964 года фраза «une fable contee en prose» (басня, рассказанная
прозой), на основании которой принято решать вопрос о жанре «Психеи» (см. гл. 1),
передана как «сказка, написанная прозой». Вряд ли переводчик (или редактор), решившись
на лексическую замену, имел в виду неустойчивость терминов fable и conte в XVII веке; скорее,
он попытался скорректировать жанровую характеристику. В начале полифиловского
повествования возникает диссонанс между «текстом» и «голосом», позволяющий поставить
вопрос об отношении рукописи Полифила (образа текста) к его вербализации. Он выражен
вставкой «говорю я», которая опущена в переводе 1964 года (хотя первый переводчик эти
«речевые интерполяции» педантично воспроизвел). В переводе 1964 года стиль лафонтеновского
романа явно приглаживается. Например, в фрагменте - «Le vieillard savait trop bien vivre pour
contester de ceremonies avec l'epouse de Cupidon. S'etant done assis: «Madame, dit-il, ou votre mari,
vous a communique l'immortalite; et, cela etant, que vous servira de vouloir mourir?» - сокращена
«неудобочитаемая» передача прямой речи, а из речи старца зачем-то выброшено «галантное»
обращение к Психее «мадам». По этим и некоторым другим причинам в большинстве случаев
в диссертации я привожу текст Лафонтеиа в своем переводе. Подстрочник дается, когда текст
Лафонтена сравнивается с переводом Дмитриева-Мамонова, а также в случаях, когда цитируются
стихотворные фрагменты.
70 Цит. по изд.: Psiche, Tragedie-ballet. Par J.B.P. Moliere. A Paris: R. Ballard, M. DC. LXXI [1671].
Имеется русский перевод (Психея. Переводъ И. Гриневской // Полное собраніе сочиненій
Мольера (= Библіотека великихъ писателей подъ редакціей С.А. Венгерова). Мольеръ. Т. П.
Изданіе Брокгаузъ-Ефрона. С.-Петербургь, 1913), - удобный для ознакомления, но
неподходящий для целей исследования, поскольку он полностью выполнен в стихах.
71 Цит. по изд.: Psyquis у Cupido // Calderon. Obras completas. Autos sacramental. T. 3. Madrid,
1956. P. 339-386.
72 Цит по изд.: Les Oeuvres de monsieur De Benserade. Seconde partie. A Paris..., M. DC. XCVII.
73 См. об этом: II, Амур и Психея Марко Кольтеллини в России.
О дискурсе жанра Психеи Лафонтена: prefacer и читатель
В предисловии к Психее Лафонтена встречается формула «une Fable contee en Prose» (басня, рассказанная прозой). Комментаторы обычно воспринимают ее как авторскую дефиницию жанра, но есть два обстоятельства, которые им немного мешают: во-первых, до сих пор Лафонтен называл баснями короткие стихотворные аллегорические истории, которые к 1668 году составили уже шесть книг, а, во-вторых, проза в Психее чередовалась со стихами, а значит текст автоматически переставал быть «рассказанным в прозе».
Жан Пьер Коллине полагает, что эта формулировка свидетельствует о неразличении Лафонтеном терминов «fable» и «conte»: писатель считал эти жанры эквифункциональными («les deux genres echanger leurs roles»), сходными по цели (в том виде, в каком они поставлены в предисловиях к Fables и ко второму изданию Contes 1666 года - развлекать, доставлять удовольствие и т.п.), а слова, соответственно, взаимозаменяемыми. Коллине дает понять, что сам он различия осознает и на подобных заменах настаивать бы не стал. Кроме того, он добавляет, что хотя Психея - «одновременно и миф, и, особенно во второй части, волшебная сказка», слово «сказка» здесь обладает совсем другим содержанием, чем в лафонтеновских Contes1. Выходит, что даже со скидкой на спасительную двусмысленность, предусмотренную разнобоем в терминах, авторская характеристика жанра остается неудовлетворительной.
Несоответствие, вызванное одновременностью применения к Психее терминов «fable» и «conte», Роже Люшен преодолевает путем нехитрой логической операции. Сперва он признает за Fables «веселость» («gaiete»), свойственную Contes, после чего обнаруживает, что Лафонтен даже последователен в своих манифестациях: «Психея - это и сказка, предназначенная для тех, кто любит чудесное. Психея - это также басня, предназначенная для тех, кто любит выводить мораль из того, о чем рассказывается. Автор положил [в основу] своего рассказа тот же дух веселости, что и в Contes, хотя он об этом не упоминает, и возродил в нем один из самых древних мифов античности, содержащий, как и Fables, мораль»2. Вторую часть лафонтеновского определения Дюшен не комментирует.
Из рассуждений Мо Андре выходит, что назвав Психею в одном предложении басней, а в другом - сказкой, Лафонтен либо сам терялся в определениях, либо хотел ненавязчиво подчеркнуть синтетичность текста: «Лафонтен, упоминая свое творение в предисловии, говорит о нем то как о сказке (сказка, вероятно, допускает большую вариативность форм и содержит много чудесного; Лафонтен не преминул отослать к этому жанру, прославленному Перро), то как о басне (fable). Мы легко можем найти характеристики обоих этих жанров в рассказе, представляющем собой смесь стихов и прозы»3, пишет М. Андре.
Проигнорировав вторую трудность («рассказанная в прозе»), исследователь добавляет, что Психея, как и Басни, включает в себя «практически все жанры: эпопея, философская поэма, лирическая поэма, идиллия, пастораль, новелла», и противоречие превращается едва ли не в подсказку Лафонтена будущим комментаторам.
Кристина Руссо, пытаясь показать, что жанр conte «неустойчив по своей природе», приводит примеры совершенной нестрогости авторов XVII столетия в различении сказки и новеллы (la nouvelle), сказки и басни (1а fable). В частности, сборник Перро Истории, или Сказки былых времен с поучениями (Histoires ои contes du temps passe avec des Moralites), где все тексты имеют подзаголовок «conte» (за вычетом Синей Бороды, не имеющей субтитула), представлен как «сказки, доставляющие удовольствие» («contes faits a plaisir») и как собрание «fables»; у большинства сказок Мари Катрин Д Онуа нет подзаголовка, устанавливающего генологическую принадлежность, но никто не сомневается, что это волшебные сказки; произведения графини де Мюра, м-ль Леритье-де-Виллодон, г-жи д Оней, м-ль Шарлотты Комон де Ла Форс сопровождаются подзаголовками «сказка» или «сказка феи», за исключением Ловкой принцессы (L adroite princesse) м-ль Леритье, обозначенной как «nouvelle»; тексты, составившие фенелоновский сборник Басни и сказки, сложенные для воспитания герцога Бургундского (Fables et contes, composes pour Veducation de fen Monseigneur le Due de Bonrgogne), впоследствии будут названы баснями, и т.д. Число случаев, которые должны иллюстрировать терминологическую неопределенность, пополняет Психея: «Psyche не имеет подзаголовка, между тем, в предисловии о ней говорится, что это «басня, рассказанная прозой» [«Fable contee en Prose»], а затем, что это «сказка (...), полная чудесного» [«conte (...) plein de merveilleux»]. Он (Лафонтен. - М.О.) именует свои басни то «басня» [«fable»], то «притча» [«apologue»], то «рассказ» [«recit»], то «история» [«histoire»] или же «сказка» [«conte»] и даже «сказка давнего времени» [«conte du bon temps»] [...] Таким образом, можем отметить, что сами авторы называют эти тексты на разный манер»4. Говоря о Психее, К.Руссо пренебрегает определением «fable» (которое, по идее, должно было казаться ей приоритетным, поскольку оно находится в начале, то есть в структурно сильной позиции) и по умолчанию признает более адекватным второе («conte»), хотя сама же приводит наблюдение Аурелии Гайяр о семантической способности слова «fable» указывать на вымысел (fiction) как общую функцию для мифа, басни, сказки или новеллы:
«В 1660 он [термин «басня». - М.О.] обозначал вымышленный рассказ вообще, рассказ, имеющий отношение к древности, особенно языческой, и даже совокупность этих рассказов (греко-латинская мифология), притчу и, наконец, нечто ошибочное, лживое утверждение»5.
Мари Одиль Швицер старательно примиряет неточные номинации с реальными особенностями текста:
«Слово «fable» не имеет отношения к той же литературной субстанции, что и Fables 1668 года. Оно означает фантастическую историю, волшебную сказку, прозаический роман как с мифологическими, так и современными персонажами. Вторая часть дефиниции «contee en prose» (рассказанная в прозаической форме) указывает на нарративный жанр с общим замыслом, но это не мешает автору включать стихотворные фрагменты»6.
Комментатор видит, что определение к тексту не подходит, но придает этим терминам окказиональное значение, нигде больше им не свойственное, пытаясь себя убедить, что Лафонтен имел в виду не то, что сказал.
Расхождения замечены, однако вопросы - почему главный баснописец Европы называет «fable» историю, нисколько на «fable» не походящую? и почему прозиметрическое сочинение сочтено прозаическим? - замяты. Между тем, на них вполне может ответить контекст Предисловия.
На трудности, возникшие при работе над этим сочинением, Лафонтен принимается жаловаться читающему и, по необходимости, вступает с ним в условный диалог:
«J ay trouve de plus grandes difficultez dans cet Ouvrage qu en aucun autre qui soit sorti de ma plume. Cela surprendra sans doute ceux qui le liront. On ne s imaginera jamais qu une Fable contee en Prose m ait tant emporte de loisir»
Я встретился в этом произведении с большими затруднениями, чем в каких-либо других, вышедших из-под моего пера. Это, без сомнения, удивит тех, кто его прочтет. Трудно себе представить, что басня, рассказанная в прозе, могла отобрать у меня столько времени.
Условное собеседование с читателем в предисловии в известной мере пародирует жанр возражений на критику : даже если текст представляется публике впервые, автор предвосхищает и обезвреживает попреки, заранее на них отвечая. Полукомическая традиция таких предисловий - создать образ критика, искажающего замысел; читатель в представлении их авторов туповат, сварлив, почти всегда примитивен и эстетически невосприимчив ко всему новому - настолько, что если не подготовить его к чтению текста, он его обязательно не поймет или поймет превратно. Поэтому читателю приписывается - «Некоторые возмутятся, увидев, что...», «читатель, наверняка, скажет...», «найдется немало людей, уверяющих...» или прямо «вы мне скажете, что...»-какое-нибудь не слишком проницательное, прямолинейное и грубое суждение, после чего писатель терпеливо объясняет, почему читатель не прав7.
Лафонтен, дав нарочито неточное определение жанру, говорил не от своего лица, а приводил мнение читателя со смутными представлениями о литературном труде и с потребительским отношением к его результатам8, т. е. писал это, не соглашаясь на самом деле ни с одним словом. «Басней, рассказанной в прозе» называет Психею не автор, а тот, кому трудно вообразить, как такое сочинение могло потребовать усилий. Точка зрения автора и читателя в какой-то момент совпадают грамматически, но идеологически не отождествляются, а в дальнейшем вовсе разводятся.
El Mundo в диспозиции аутос сакраменталь
Мир (Mundo) фигурирует как отец Психеи в толедской и мадридской версии ауто Кальдерона. В толедском ауто представлены свадьбы сестер Психеи -Язычества с Идолопоклонничеством и Синагоги с Иудаизмом. Психея, именуемая здесь Верой, остается незамужней, хотя на нее претендует таинственный супруг. Это возбуждает всеобщую ненависть, и Мир, отец Психеи, отсылает ее на пустынный остров вместе со Своеволием (Albedrio). Ненависть к Вере и ее изгнание представляет собой прозрачную аллегорию сумасшествия Мира.
В мадридском ауто представлена теологическая история Мира и трех его дочерей Эпох (Edades) - история человечества, по Кальдёрону. Первая Эпоха (старшая сестра), вступая в брак с Язычеством, получает в наследство Римскую Империю; вторая Эпоха, вступая в брак с Иудаизмом, получает царство Сиона; Третья Эпоха остается холостой, в ожидании «неведомого принца» («prfncipe ignorado»), «неизвестного бога» («dios ignoto»). Тогда Мир отправляет ее в путешествие, чтобы она возвела на острове алтарь в честь этого бога.
Песнь Адониса Марино, отведенная под историю Психеи, снабжалась аллегорическим истолкованием - сказка о Психее представляет состояние человека. Город, где рождена Психея представляет Мир, а Король и Королева, которые там правят, обозначаются как Идея и Материя, - которое соответствует Мифологии Фульгенция, где Город представлялся Миром, Король - Богом, а Королева - Материей (I, Психея и Купидон: аллегорические прецеденты). Однако в случае Кальдерона нельзя обойтись установлением локального источника аллегории. Мир у него - это один из самых частотных аллегорических персонажей аутос, превосходящий Soberia, Placer или Culpa.
Вероятную причину настойчивости, с которой Кальдерон выводит Мир на сцену, называет канадский испанист, профессор Университета Калгари, напоминая об идеологической перспективе - спорах о картине мира, после того как Коперник и Кеплер пошатнули представление о Земле как центре вселенной. При этом европейские поэты XVII века продолжали держаться старой птоломеевской системы вселенной, поощряемой католической церковью: «Кальдерон в католической Испании и Мильтон в протестантской
Англии были последними из самых влиятельных поэтов, которые, сочетали аристотелианско-птоломеевскую вселенную с христианскими догмой и верой...»2 Для Кальдерона - автора аутос, призванных утверждать христианские догмы, -верность аристотелианско-птоломеевскои системе вселенной, оказывалась не только поэтически привлекательной, но и идеологически удобной.
Космологические представления Марино сложнее аллегорических интерпретаций, предпосланных тексту. В девятой песни Адонис встречает Меркурия во дворце Купидона, пьет из фонтана Аполлона, посещает пять садов наслаждений (аллегорически обозначающих пять чувств), а в 10-11 песнях вместе с Меркурием отправляется на Небеса. Маршрут их вояжа -Луна, Меркурий и Венера - описан как продвижение через птолемеевы сферы. Правда, как показано в работах Мориса Славински и Эдама Робертса, это не просто парафраз докоперникианских фантазий Данте и Ариосто, потому что de facto солнечная система Марино является коперникианской3. Оба исследователя приводят в пример Галилея (одного из персонажей поэмы), чей недавно изобретенный телескоп здесь хвалят за «раскрытие правды небес»: «[te] Galileo ... potrai senza che vel nulla ne chiuda, / Novello Endimion, mirarla ignuda» (X, 43) - «В [твоей] Галилее. власти беспрепятственно минуя покровы Любоваться наготой Юной Эндимионы [Луны]». По объяснению М. Славински, Марино представляет Галилея как героя дела мира. Э.Робертс, показывая, как Марино пытается сделать предметом поэзии современную науку, отмечает, что атрибуты птоломеевых сфер, окаймляющих Землю, не описываются, зато в других частях поэмы попадаются метафорические намеки на коперникианский гелиоцентризм:
Человек, говорит поэт, подобен вселенной: его голова помещена на место Бога; его живот и органы пониже подобны земле, но его сердце [...] помещено в центре всего, подобносолнцу ("stassi a guisa di sol nel mezzo il core" VI, 13 [...]). Как и его герой Галилей, Марино, очевидно, был увлечен коперникианской моделью4.
Во французских версиях сюжета образы отца Психеи избавлены от аллегорического наполнения и вообще до эпизода расставания лишены особой сюжетной значимости (II, Остроумие Лафонтена: Психея и ее родители). У Кольтеллини отец Психеи наделен, скорее, сентименталистскйм статусом (II, Семейная добродетель). Символическая традиция, правда, иного свойства, прослеживается в Душеньке, где отец Психеи является вариантом утопического Dei judicium , генетически родственного в поэтике Богдановича псалмодическому Богу .
Длинное описание «либерального» законодательства, введенного Царем, отцом Психеи - оригинальное прибавление Богдановича к лафонтеновскому тексту. Предположим, что этот фрагмент связан с мифом о Миносе как царе-законодателе и справедливом судье, т.е. с поздне-древнегреческим вариантом этого мифа, воспринятом Фенелоном. «Образ прав» отца Психеи, предусматривающих наказания за изъяны нравственности (зависть, скупость, заносчивость, ханжество и т.д.), отсылает к рассказу фенелонова Ментора в пятой книге Телемака о законах критского царя Миноса: «Три зла ЗДЕСЬ наказуются, которыя въ прочихъ народахъ безъ наказанїя оставляются, то есть неблагодарствїе, лукавство и сребролюбїе. Роскоши и сластолюбїе безъ наказанїя оставлены, ибо того въ КритВ не знали»5. Законы Миноса предполагают земное наказание за грехи (а сам он «ради сего правосуддя поставлень вышнимъ судїею всВмъ мертвымъ»6); так же у Богдановича в Душеньке земной суд фактически наделяется функциями Страшного суда7. Французский экономист Фредерик Бастиа, критикуя в памфлете Закон (1850) социализм, писал, что социалисты презирают человечество и одновременно, рассматривая людей как материал для социальных комбинаций, хотят играть роль Бога, а в законах фенелоновского Миноса распознавал реализацию социалистической идем «послушного человечества» - утопии, в которой все решает правитель, а личность помещается в абсолютную зависимость от законодателя. Поборник социализма Ментор, который видит благо в подчинении «беспорядочных масс», по мысли Ф. Бастиа, готовит ученика «манипулировать» населением Итаки8.
Утопический перфекционизм Телемака оказался созвучен масонским соображениям о способах насаждения блага (не случайно сочинение Фенелона входило в непременный круг чтения масонов). В частности, Сен-Мартен в трактате О заблуждениях и истине (1775) оправдывает инвеституру догматом порочного большинства, нуждающегося в подчинении людям с мистической харизмой, избегнувшим духовного падения. Русскими масонами мартинистская концепция воспринималась на фоне традиции сакрализации царской власти, генетически связанной с византийской литературой9, и адекватной ей топики10. Идея ввести наказание за нравственное несовершенство в юрисдикцию государства, отождествив грех с преступлением (спиритуалистическое с юридическим) была лишь одним из ее применений. Сама интенция насильно насаждать благо, лишая возможности грешить, следует из убеждения, что преступность, происходящая из несовершенства человека, должна подавляться государством. Этим тезисом немецкий криминалист Ансельм Фейербах потом обоснует теорию психического принуждения (1775 - 1833): все правонарушения коренятся в ожидании удовольствия от некоего факта; это ожидание подавляется «угрозой закона» - осознанием того, что с ним связано страдание, превышающее неудовольствие, возникающее от неудовлетворенного желания.
О галантном картезианстве Сен-Фуа
Жермен-Франсуа Пуллен де Сен-Фуа (Saint-Foix, Germain Francois Poullain de, 1698 [Ренн] - 1776 [Париж]), - адъютант маршала Брогли, отличившийся в сражении Гасталла (1734), - «бретонский дворянин («Gentilhomme Breton»1), который по жизни только и знал, что ссориться и драться на дуэлях, в литературных сочинениях умел добиваться рокайльной утонченности (Грации, 1744; Сильф, 1743) и обнаруживал склонность к метафизике. «Этот военный начался писать для театра в 1721 году» («Се Militaire a commence f travailler pour le Theatre en 1721»),-рекомендует Сен-Фуа театральный словарь 1763 года2.
Метафизичность Оракула - «L Oracle, comedie en un acte et en prose, par Monsieur de Saint-Foy» (1740) - оценили современники3. Вольтер в 1762 году писал о четырехтомнике Сен-Фуа: «De tous les fatras de petites comedies que vous trouverez dans les quatre volumes de M. de Saint-Foix, il n y a que Г Oracle et les Graces dont il soit reste trace sur le theatre»4 - «Из всей груды хлама мелких комедий, которые вы обнаружите в четырех томах г. де Сен-Фуа, он мог бы оставить след на театре только благодаря Оракулу и Грациям». Отзыв этот только с натяжкой можно счесть за похвалу, но Оракул хотя бы был выделен из кучи хлама.
Мадам де Граффиньи (1695 - 1758) в переписке с Дево сравнивала Оракула Сен-Фуа с его же комедией Сильф, давшей, между прочим, идею для «нравоучительной сказки» Мармонтеля Муж-сильф (Le mari Sylphe, 17655): «Sans doute que Le Silphe est bien au-dessous de L Oracle. La premiere est naive, celle-ci est metaphisique: quelle difference!»6 («Без сомнения, Сильф действительно ниже Оракула. Первый примитивен, этот метафизичен: какое различие!»), - писала де Граффиньи в ответ на письмо Дево, который утверждал, что Сильф хуже, чем Оракул: «Le charme de la fiction luy manque, et rien n est plus ingenieux que cette partie dans L Oracle. D ailleurs, cette intrigue est mot pour mot dans une des Cent Nouvelle de Mde de Gomes»7 - «Очарованием вымысла он уступает, и нет ничего более изобретательного, чем этот замысел в Оракуле. Кроме того, такая интрига один в один имеется в Ста Новеллах м-м де Гомес».
Содержание Оракула составляет фантастическая тема страшного пророчества и попыток его предотвратить, но вымысел Сен-Фуа более чем традиционную комедийную фабулу напоминает Панегирик Христу отца церкви Арнобия или опыт о статуе из Трактата об ощущениях Кондильяка. Сыну Феи Альсиндору предречены «великия напасти», которых, однако, можно избежать, «ежели [он] любим будет от некоей молодой княжны, которая почтет его глухим, немым и нечувствительным» [4]. Для исполнения этого условия и обезвреживания пророчества, Фея избирает девушку Луцинду, «дочь соседственнаго короля», родившуюся в один час с Альсиндором, похищает ее и воспитывает в изоляции от людей, среди механизмов: «[...] статуи ей служили вместо людей; никово она ие видела кроме вещей нечувствительных, которым я силою волшебства своего подавала разныя движения: часто при ней самой притворялась я будто отломлю кусок мрамора обделаю ево в образ какова-нибудь животнова, и прикосновением моево волшебнаго прутика оживотворю ево [...] Наконец, я старалась ее уверить, что из всех существ, только она и я, которыя могут говорить, думать, себя познавать и рассуждать; и что все прочил сотворены нам для служения и забавы, что они без чувствия, без понятия, и не удобны иметь ни любви, ни ненависти, ни печали, ни веселья» [5 - 6].
Фея Сен-Фуа распространяет на мужчин слегка модифицированный картезианский тезис о механистичности животных: все животные, кроме человека, - искусно построенные машины, не имеющие сознания, не чувствующие боли и удовольствия. Барочное картезианство подчиняется галантной интенции, порождая своего рода феминистское картезианство -«метафизичность», которая так понравилась м-м де Граффиньи.
Проблематика Оракула действительно укоренена в метафизике XVII столетия с ее проповедью гипотетизма (Бойль, Гассенди, Декарт, Локк, Ньютон и т.д.), вероятностной концепцией научного знания, навязчивыми размышлениями о возможности достоверного познания природы, муссированием вопроса о происхождении представлений, противопоставлением рационализма и сенсуализма и «методологическими» предписаниями типа ...мы должны остерегаться, чтобы название «принципы» нас не вводило в заблуждение и не заставляло принимать за бесспорную истину то, что на деле является в лучшем случае очень сомнительным предположением, как большинство гипотез (я чуть было не сказал: все гипотезы) в натурфилософии8.
В комедии высвечивается этот набор идей, варьирующихся разными философскими системами эпохи: Фея навязывает Люцинде ложные представления о мире, подтвердить которые должен фантомный мирок движущихся статуй; чувственно-интуитивный опыт восприятия естественной действительности противодействует данным чувственного же опыта, подкрепленного механицизмом: [Фея:] «птички твои такия же машины [как клавесин или бас], только с тою разностью, что натура, которая их произвела, [...] сама их сотворила и сама устроила побуждении приводящия их в движения» [10]. [Люцинда:] «Чувство сердечное, которым я при виде оных птичек заразилось, опровергает то, что ты мне рассказываешь» [12].
Ньютонианское естествознание, принимавшее возможность описать объект в терминах механики за доказательство механистичности этого объекта, соотнесено с idola specus (в бэконианском смысле), - знанием, которое заслуживает быть опровергнутым. Модель мира, созданная из двух «реальностей» (ощущаемой и навязанной), исправно поставляющих противоречивые образы, которые не складываются в непротиворечивую метафизическую картину универсума, порождает разлад в сознании и постоянную гносеологическую неуверенность.
Люцинда, доверяясь интуиции, намеревается «переломать в куски все филозифическия инструменты [...]» (Н. Т. Пахсарьян указала мне на барочность этого жеста), но колеблется и в итоге не берет на себя ответственность за создание собственной онтологии, основанной на опыте. Ей мешает не глупость или неспособность к созидательному мышлению, а, напротив, преуспеяние в науках и укорененность в измышленных тезисах /южной теории, эмпирически удостоверяемых волшебством. Люцинда живет в мире неверно решенных вопросов, где истина существует скрыто, но обязательно обнаружится в свое время. Попытки героини самочинно ее открыть сводятся на нет, потому что сюжет комедии подчинен схеме, на которой основывается Психея Лафонтена. Мифологический подтекст ситуации проясняет реплика Альсиндора. Полагаясь на успех затеи, он вспоминает прецедент из мифологии:
«Выдумка очень хороша и может быть удачна; Психа не видала Купидона и почитала ево уродом, однако любила ево: так и Луцинда, имея воображение почтет меня таким, как требует оракул, то есть что я рот и глаза только для одной приятности имею; однако совсем тем она меня полюбит. Можно обмануть разум, а чувства никогда; сердце ея природою провождаемо почувствует склонность не понимая оной, подобно как пчела собирает мед с цветов. Сие согласие, сия цепь, сия симпатическая сердец сила действовать будет конечно матушка, конечно она меня полюбит» [7].