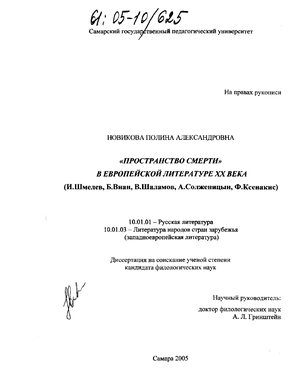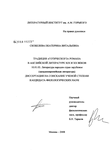Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Пространственность» смерти в литературе XX века 19
1 «Пространственная форма» в литературе XX века 19
2 Концепт смерти в гуманитарной мысли XX века 28
Глава II. Пространство смерти как ключевой уровень пространственной организации романов Б.Виана 62
1 «Пространство смерти» в структуре романов 62
2 Смерть в пространстве смерти 101
3 Карнавализованность пространства смерти 113
4 Свойства времени в пространстве смерти 125
Глава III. Пространство смерти в русской литературе XX века 143
1 Локализованное жизни в пространстве смерти (повесть И.Шмелева «Солнце мертвых») 144
2 Пространство смерти в «царстве несвободы» («Колымские рассказы» В.Шаламова, «Один день Ивана Денисовича» А-Солженицына, «Она сказала бы ему на острове» Ф.Ксенакис) 157
Заключение 190
Список использованной литературы 204
- «Пространственная форма» в литературе XX века
- «Пространство смерти» в структуре романов
- Локализованное жизни в пространстве смерти (повесть И.Шмелева «Солнце мертвых»)
Введение к работе
В XX веке тема смерти стала одной из ведущих в литературе. Во многом это объясняется самим сознанием XX века, которое приняло явные апокалиптические черты, вследствие чего эсхатологическое сознание столетия чрезвычайно обострилось.
На протяжении всего прошлого столетия «трагическое жизнечувствие сгущается, донельзя уплотняется, безбрежно разрастается - переходит в пантрагическое умонастроение»1. Однако уже на рубеже ХІХ-ХХ веков в сознании царит декадентское мироощущение, предчувствие рубежности, переживание неизбежности чего-то нового, ожидаемого со страхом. В конце XIX в. произошли необратимые изменения, касающиеся нового понимания человека, его отношения к миру, нового языка искусства- Противоречия, накопившиеся внутри общества, не могли решаться ходом естественных исторических изменений. Общество оказалось неспособным рационально объяснить происходившие перемены в политике и экономике, новые социальные отношения, новую картину мира.
При этом «кризис духа» оставался идеей, в действительности же это было время технических достижений, экспериментальных наук, время утопий.
Сложилось противоречивое сознание, затронувшее важнейший элемент мировоззрения, - вопрос о закономерностях в природной и социальной действительности, «Вера в жизнь.., (я имею в виду жизнь реальную) способна дойти до того, что в конце концов мы эту веру утрачиваем»2, - заявляет А.Бретон в «Манифесте сюрреализма», определив одной фразой суть конфликта с веком XIX.
Диалектика, «внутренняя дискуссия» «эпохи Заката» объясняется тем, что «исходный пункт всех модернистских построений - Абсурд, убеждение в
Великовскик С. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. - М.-СП6-, 1999. С. 26. Бретон А. Манифест сюрреализма //Называть вещи своими именами.-М., 1986. С. 40.
4 том, что Бог покинул грешную землю, а с ним ушла и объективная истина, целесообразность и разумность человеческой истории»3.
В XX веке «смерть Бога» стала предметом рефлексии и саморефлексии. Именно с нее начинается «построение» своего рода «Некрополя скончавшихся идолов» (Д. А. Пашкин), Так, вслед за «смертью Бога», определившей философию Ф.Ницше, последовала цепочка «смертей»: «смерть Культуры» (СХШпенглер), «смерть Автора» (Р.Барт) «смерть Человека» (М.Фуко). В итоге вся гуманитарная мысль XX века стала формироваться и определяться «в веселом утверждении смерти» (Ж.Батай). «Идолы цивилизации» не просто исчезают или уходят, но именно «умирают», при этом маркируется их окончательная, тотальная «смерть».
Идея «смерти Бога» составила исходную посылку философии
экзистенциализма, в которой смерть предстает как самоочевидная абсолютная
граница любых человеческих начинаний. Человек не должен убегать от
сознания своей смертности, а потому необходимо высоко ценить все то, что
напоминает ему о суетности его практических начинаний: «смерть для
экзистенциальной философии должна была, согласно внутренней необходимости, занять в понимании человека центральное место в качестве того исключительного обстоятельства, которое обуславливает напряженность личного бытия в ее окончательной невыносимости» ,
Концепт смерти занимает в философии экзистенциализма центральное место в качестве того исключительного обстоятельства, которое «обусловливает напряженность личного бытия в ее окончательной невыносимости»5. Экзистенциалисты исходили из того, что близость, угроза смерти чаще всего заставляет людей задуматься о смысле и содержании своей жизни, «повернуться» от быта, от повседневности к самому бытию, к собственной экзистенции, которая неотделима от существования, ЛШестов
3 Андреев Л, Т. От «Заката Европы» к «Концу жлїфин»//Ша граніпіах». Зарубежная литература от
Средневековья до современности. - М, 2000. С. 243.
4 Больное Отго Ф. Философия экзистенциализма. - СПб.» 1999. С, 101.
5 Больнов Огто Ф. Указ. соч. С. 101.
5 указывал на то, что мысль о смерти меняет восприятие жизни человеком, переворачивает ценности: «Оттого люди так мало считаются со смертью -точно ее совсем бы и не было. Когда человек думает о смертном часе - как меняются его масштабы и оценки!»6.
Смерть рассматривается как опыт, заключенный в самой сущности человека, то есть это опыт не случайный, не внеположный. Человек переживает опыт конечности - крайне болезненный опыт, - поскольку он устанавливает границы человеческим возможностям и желаниям. Смерть выступает как нечто угрожающее и ужасное, нечто, абсолютно иное, некая граница, переход которой означает вступление в абсолют, «по ту сторону времени»: «... она (смерть) предстает как нечто абсолютно иное, как граница, втискивающая жизнь в ее конечность и лишь подобным образом вызывающая предельную остроту существования»7.
Принципиально значимым в жизни человека» необходимым условием его самореализации, с точки зрения экзистенциалистов, является принятие своей конечности, то есть смерти. Человек не должен убегать от сознания своей смертности, а потому необходимо высоко ценить все то, что напоминает ему о суетности его практических начинаний. Н.Аббаньяно считал, что «принимая смерть, признавая ее как собственную судьбу, человек реализует свою свободу»8, а «верность» своей конечности, смерти оказывается способом понять не только самого себя, но и другого: «Но мы понимаем других и даем другим способ понять нас лишь в той мере, в какой мы понимаем самих себя; а чтобы понять самих себя, мы должны реализовать себя в структуре посредством верности нам самим, нашей конечности, смерти»9.
Смерть не только определяет жизнь человека^ его существование, но и придает смысл жизни. Так, согласно Н,Бердяеву, «только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл только
* Шестов Л. На весах Иова // Шестов Л. Соч, в 2т. Т\2. - М., 1993, С, 156,
7 Больное Огто Ф. Указ. соч. С. 125.
8 АббаньаноН. Введение в экзистенциализм. -СПб.» 1998. С. 188.
*ТамжеяС. 114.
потому, что есть смерть, и если бы в нашем мире не было смерти, то жизнь лишена была бы смысла»10.
Философия экзистенциализма ставит в центр «бытие человека», но не человека вообще, а единичного человека, его конкретное существование. В связи с этим говоря о смерти, философы-экзистенциалисты ведут речь, как правило, о смерти в Первом лице, как соотносимой с моей жизнью, моим существованием» Ж,-П. Сартр считает, что человек сам является творцом своей смерти, я сам (мое для-себя) делает мою смерть: «смерть становится моей смертью только если я уже помещаю себя в перспективу субъективности»11.
М.Хайдеггер также понимает смерть как экзистенциальный феномен только «по отношеншо ко мне»: «Смерть, насколько она «есть», по существу всегда моя. А именно, она означает своеобразную бытийную возможность, в
1 "У
которой дело идет напрямую о бытии всегда своего присутствия» . Смерть, таким образом, должна быть экзистенциально осмыслена, то есть понята как особый способ бытия. Чтобы охватить «целостность Dasein», МХайдеггер воздвигает своеобразную «онто-фсноменологию» смерти. Через обращение к смерти предполагается осмыслить da, т. е. «здесь»* «вот», бытийную сторону Dasein, которое кончается со смертью каждого человека. «Падающим бегствам от смерти повседневность присутствия свидетельствует однако, что сами люди тоже всегда уже определены как бытие к смерти, даже когда не движутся отчетливо в мыслях о смерти».13
Категория смерти стала объектом исследования культурологов, литературоведов. Одной из репрезентативных работ, описывающей восприятие смерти «сквозь призму меняющегося личностного самосознания»14, представляется книга Ф.Арьеса «Человек перед лицом смерти». С точки зрения
10 Бердяев К О назначении человека. -М., 1993. С. 216.
11 Там же, С. 540.
12 Хайдеггер М. Бытие и Время. - Харьков, 2003. С. 274.
иХайдеггер М. Указ. соч. С. 289,370. Напомним, что «заботой» М Хайдеггер называет «отношение, в котором дш человека все сводится к его собственному бытию» (Больнов Огто Ф. Указ. соч. С. 49). 14 1\ревич Я. Филипп Арьес: смерть как проблема исторической антропологии // Арьсс Ф. Человек перед лицом смерти. -М., 1992. С. 28.
7 Ф,Арьеса, смерть является одним из коренных «параметров» коллективного сознания, которое не остается неизменным в ходе истории, изменения эти не могут не выразиться в сдвигах в отношении человека к смерти. Ф.Арьес пишет о существовании связи между установками в отношении к смерти, доминирующими в данном обществе на определенном этапе истории, и самосознанием личности, типичной для этого общества. Так, Ф.Арьес выделяет пять этапов в изменении установок по отношению к смерти.
Первый этап - «прирученная смерть» (la mort apprivoisee) означает включенность человека Раннего Средневековья в природу. Второй этап -«смерть своя» (la mort de soi) относится к периоду между XI и XIII столетиями, когда в своей смерти человек открывает собственную индивидуальность. Третий этап эволюции восприятия смерти, по Ф. Арьесу, - «смерть далекая и близкая» (la mort longue etproche\ основная черта которой, - крах механизмов защиты от природы, возвращение смерти ее дикой, неукрощенной сущности. Четвертый этап - «смерть твоя» (la mort de toi) связан с актуализацией комплекса трагических эмоций, вызываемых смертью любимого человека, родственников.
Наконец, в XX веке развивается страх перед смертью ;и самим ее упоминанием. Наступает пятая стадия восприятия смерти - «смерть перевернутая» (la mort inversee). Череда ужасных войн в XX веке, чувство «потерянности», вненаходимости лишили человека ориентации в жизни и изменили его отношение к смерти. Тенденция к вытеснению смерти из коллективного сознания достигает апогея в наше время. В XX веке смерть одного человека перестает быть трагедией: «общество изгоняет смерть, если только речь не идет о выдающихся деятелях искусства. Ничто не оповещает в городе прохожих о том, что что-то произошло. ... Смерть больше не вносит в ритм жизни общества паузу. Человек исчезает мгновенно. В городах все отныне происходит так, словно никто больше не умирает»15.
15 Арьес Ф. Человек перед лицом сперта. - М, 1992. С. 455.
О подобном восприятии человеком смерти в прошлом веке писал и З.Фрейд: «Каково ныне наше отношение к смерти? По-моему, оно достойно удивления. В целом мы ведем себя так, как если бы захотели элиминировать смерть из жизни; мы, так сказать, пытаемся хранить на ее счет гробовое молчание; мы думаем о ней - как о смерти!»16. З.Фрейд утверждает, что каждый человек в глубине души не верит в собственную смерть, наше бессознательное «ведет себя так, будто мы бессмертны»17.
При этом, несмотря на желание «забыть» о смерти, вычеркнуть ее из жизни, в том же XX веке начинает развиваться танатология - наука, изучающая смерть, ее причины, процесс и проявления, В.Штекель вводит термин «Танатос» (1910), в основе которого лежит «признание наличия и последовательного усиления генетически заданных деструктивных (саморазрушительных) тенденций во всех проявлениях индивидуальной и общественной жизни...»18.
Функции события смерти в художественном произведении изучались такими авторами, как М.Бахтин, Ю.Лотман, М.Бланшо, Ж.Батай и др. Так, М.Бахтин полагал» что смерть - это «форма эстетического завершения личности»19: в герое не должно быть для нас смысловой тайны, он должен бьпъ формально завершенным, мы должны переживать его всего, как целое, и в смысле он должен быть формально мертв для нас. По мнению Ю.Лотмана, смерть и относится к «неоценочной сфере», и является одним из «условий понимания жизни героя»20. С точки зрения М.Бланшо, «внутритворческое движение писателя» образует подступ к смерти, само творчество писателя «есть опыт смерти»21.
16 Фрейд 3, Мы и смерть. -СПб., 1994. С. 13.
17 Там же, С. 21.
11 Решетников М Влечение к смерти // Фрейд 3, Мы и смерть. - СПб., 1994. С. 8.
19 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М„ 1970. С. 115,
20 Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартусско-московская
семиотическая школа. - М., 1994.С.41S.
21 Бланшо М. Пространство литературы. - М., 2002. С. 90,
В художественной литературе XX века «все крутится вокруг опыта небытия, или, скорее, вокруг самого момента небытия, «небытие и бытие», «реальная жизнь и смерть», вводят новое cogito: «Я мыслю, следовательно я не существую» ... Все очарованы смертью, даже персонажи оказываются живыми мертвецами»22.
Литературное произведение строится вокруг смерти как события и его концептуального осознания, при этом само это событие неизменно становится ключевым художественным фактом действия. Смерть становится ключом к пониманию и осмыслению настоящего и будущего («Чевенгур» А.Платонова, «Солнце мертвых» И.Шмелева, «Древний путь» АЛолстого, «Аграфена» Б.Зайцева, «Красный смех» ^Андреева, «Windows on the world» Ф.Бегбедера). Зачастую само слово «смерть» выносится прямо в заглавие произведения: «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича» ЛЛолстого, «Смерть в кредит» Ф.-Л. Селина» «Смерть после полудня» Э.Хемингуэя, «Смерть в Венеции» Т.Манна, «Смерть героя» Р.Олдингтона, «Очень легкая смерть» С де Бовуар.
Смерть как событие становится объектом изучения во многих философских, литературоведческих работах: ЛЛЪлстой «О смерти. Мысли разных писателей», С.Андреевский «Книга о смерти», Л.Шестов «Откровения смерти», Г.Зиммель «К вопросу о метафизике смерти», МБланшо «Литература и право на смерть», В-Янкелевич «Смерть», МЯмпольскнй «Смерть в кино», МШенкао «Смерть как социокультурный феномен» и многие другие.
При этом в гуманитарной мысли XX века смерть выступает преимущественно как темпоральная категория. В работах философов-экзистенциалистов и постэкзистенциалистов концепт смерти рассматривается в непосредственной связи с временными категориями мгновения и вечности, при этом их «спациализация» не влечет за собой «опространствливания» смерти, она остается темпоральной категорией. Литература конституирует свой мир,
Tadte J-Y Le roman au XX si&le. - P., 2002. P. 64,
10 свое пространство (МБланшо, МБахтин), в котором смерть имеет свое темпоризованное место, оставаясь длительностью, временным понятием.
Наряду с пристальным вниманием к концепту смерти, XX век характеризуется и тенденцией к «опространствливанию»: пространство определяет все уровни композиции текста, появляются понятия «пространственной формы» (Д,Фрэнк), «языка пространства» (Ж.Женетт), «пространства текста» (В.Нёт). Пространство становится ведущей категорией, определяющей и жизнь человека» и время, В гуманитарной мысли XX века появляется выражение «пространство смерти» (в работах К.Исупова, М.Бланшо, Р .Барта, ЛШестова, АДемичева, Л.Колесниковой и др.)* однако смерть и в этом случае выступает как темпоральная категория.
В XX веке меняется характер соотношения пространства и времени: именно пространство определяет время, пространственность произведения превращается в тему и сюжет. Изменение пространственно-временных отношений имело следствием изменение содержания концепта смерти и возникновении особого типа пространства - «пространства смерти». Смерть выступает как пространственная категория, она предельно локализована; смерть не воплощает временную границу жизни, но явлена как действительная наличность, то, что есть «здесь».
Основой описания художественного мира произведения мы предлагаем именно художественное пространство, поскольку оно вбирает в себя и характеристику человека в его вещном окружении, в специфике отношении с предметами и людьми, и характеристику времени (само время обнаруживает себя через пространство), способно воплощать социальные и нравственно-этические категории, участвовать в развитии сюжета, композиции, выражать авторскую точку зрения и т.п., позволяя тем самым подходить к описанию художественного мира с разных сторон.
В основе художественного пространства и времени находится так называемое субъективное пространство-время: пространство и время, которые
рождаются в воображении, сознании художника- Определенная пространственно-временная картина мира складывается в человеческом сознании в определенных пространственно-временных параметрах в зависимости от социальных, исторических, культурных и других обстоятельств. Систему пространственно-временных представлений вырабатывает каждое индивидуальное сознание, и в каждом субъективном пространстве-времени присутствует пространственно-временная концепция культуры, эпохи. В этом смысле система пространственно-временных представлений характеризует человека как феномен определенной культуры» определенной исторической эпохи. Но субъективное пространство-время, отражающее реальное пространство-время, имеет собственную структуру и является относительно самостоятельным феноменом23.
Понятие субъективного пространства-времени является вариантом понятия о концептуальном и перцептуальном пространстве и времени, которое «представляет собой некоторую абстрактную хроногеомеїрнческую модель, служащую для упорядочения идеализированных событий- Это фактически отражение реального пространства и времени на уровне понятий (концептов), имеющих одинаковый смысл для всех людей. <.. Перцетуальное пространство и время есть условие сосуществования и смены человеческих ощущений и других психических актов субъекта»24.
Таким образом, концепция пространства-времени, сформировавшаяся в сознании художника, его субъективное, перцептуальное пространство-время, объективируется в пространственно-временной структуре художественного мира. Подобное явление Д.Лихачев назвал «косвенным и прямым отражением действительности: «Мир художественного произведения отражает действительность одновременно косвенно и прямо: косвенно - через видение художника, через его художественные представления, и прямо непосредственно
23 См. Федоров Ф. П. Романтический художественный мир, пространство и время. - Рига, 1973. С. 19.
24 Зобов Р. А,, Мостепатанко А. О типологии пространственно-временных отношений в сфере
искусства // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.-Л., 1974. С. 11,
12 в тех случаях, когда художник бессознательно, не придавая этому художественного значения, переносит в создаваемый им мир явления действительности или представления и понятия своей эпохи»25- Состояние кризисности мира, неопределенности, неустойчивости бытия нашли выражение в своеобразном художественном языке - языке пространства смерти26.
Итак, в XX веке представление о пространственно-временных координатах существенно меняется, интерес смещается в сторону пространства. В литературе XX века пространство становится способом изображения, а пространственность - осознанным конструктивным принципом. «Пространственными» становятся все категории, в том числе и такая важная для сознания и для литературы XX века категория, как смерть: тенденция к «опространствливанию» имела следствием явление «спациализации» смерти. В художественном тексте возникает новый тип пространства, в котором смерть становится пространственной и одновременно определяет сам характер пространства.
Необходимостью изучения этого типа пространства в литературе XX века и обусловлена актуальвость данной работы.
Предметом исследования явились произведении европейской литературы XX века, в которых смерть выступает как пространственная доминанта-Объектом исследования стала смерть как основа пространственной организации художественных произведений европейской литературы XX века.
Цель диссертации заключалась в изучении особого типа пространства в русской и западноевропейской литературе XX века, основой которого является смерть как пространственная доминанта. Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:
проанализировать работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам пространства и смерти в литературе XX века;
25 Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы -1968 - №8. С.
26 О языке художественного пространства см. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин,
Лермонтов, Гоголь-М.? 1988.
изучить пространственную организацию романов БЛЗиана «Пена дней», «Осень в Пекине», «Красная трава», «Сердцедер»;
определить параметры модели «пространства смерти» как особого типа пространства, в котором смерть становится пространственной и одновременно определяет сам характер пространства;
на основе построенной модели исследовать пространственную организацию повести И.Шмелева «Солнце мертвых»;
на основе модели «пространства смерти» проанализировать пространственную организацию произведений «лагерной прозы» («Колымские рассказы» В.Шаламова и повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»);
сопоставить изображение лагеря в русской «лагерной прозе» и в рассказе Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове»;
рассмотреть возможности использования модели «пространства смерти» для анализа пространственной организации русских и западноевропейских произведений XX века.
Новый тип пространства - пространство смерти - изучается на материале прозаических художественных произведений XX века, относящихся к 1920-ым - 1970-ым годам. При этом за рамки исследования были вынесены произведения, непосредственно связанные с изображением войны, в силу специфичности роли смерти в них.
Материалом исследования послужили повесть И.Шмелева «Солнце мертвых» (1923), романы Б,Виана «Пена дней» («L'Ecume des jours», 1947) , «Осень в Пекине» («L'Automne a Pekin», 1947), «Красная трава» («L'Herbe rouge», 1950) и «Сердцедер» («L'Arrache-coeur», 1953), повесть А,Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (опубл. в 1962), «Колымские рассказы» В-Шаламова (опубл. в 1977), рассказ Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове» («ЕПе lui dirait dans Pile», 1970)-
На материале романного творчества БЛЗиана, которое находится на стыке экзистенциализма и постмодернизма и связано с поэтологнческими поисками всей западноевропейской культуры середины прошлого столетия, была разработана модель пространства смерти, которая применялась для анализа пространственной организации произведений русских писателей.
Произведения И-Шмелева, В.Шаламова, А.Солженицына представляют собой яркую и репрезентативную страницу истории русской литературы двадцатого столетия. В этих произведениях отчетливо проявляются черты «пространства смерти». Обращение к рассказу современной французской писательницы Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове», в котором действие происходит в лагере, позволило сопоставить изображение лагеря в русской и французской литературе XX века.
«Пространство смерти» проявляется в литературных произведениях, отличных от произведений «лагерной прозы», поскольку этот новый тип пространства не связан непосредственно с феноменом лагеря (в русской литературе закрытая «лагерная» тюрьма была описана еще задолго до А.Солженицына и В.Шаламова, например, в «Записках из Мертвого дома>г Ф Достоевского), ни с темой войны (произведения писателей послевоенного периода - Б.Виана, У Холдинга, СБеккета - на уровне темы не связаны ни с войной, ни с лагерем).
Методологической и теоретической основой исследования стали
сравнительно-типологический, гипотетико-индуктивный методы; системный,
историко-культурный, структурно-семиологнческий подходы к
литературоведческому анализу. В работе использовались исследования отечественных и зарубежных исследователей, связанные с проблемой пространственной формы в литературе XX века (М.Бахтинэ Вяч.Иванов, Ю.Лотман, ВТопоров, Б.Успенский, ^Флоренский, ДФрэнк). Кроме того, при разработке частных вопросов использовались труды Д.Лихачева, МБланшо, Ж.Женеттаэ АДемичева, АГринштеЙна, Н.Рымаря.
15 Научная новизна работы определяется тем, что в диссертации смерть исследуется как основа пространственной организации литературного произведения XX века; предложен термин «пространство смерти», который используется для анализа пространственной организации произведений европейской литературы; впервые дан целостный анализ пространственной организации романов Б.Виана; смерть рассматривается как основа пространственной организации повести И^Шмелева «Солнце мертвых»; проведено сопоставление изображения лагеря в русской «лагерной прозе» и в рассказе французской писательницы Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове».
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что построена модель пространства смерти, которую можно применить для изучения пространственной организации литературных произведений XX века. Применение модели пространства смерти для описания художественного мира литературного произведения позволяет выявить общие черты русской и западноевропейской литературы XX века и дает возможность сопоставить произведения авторов, принадлежащих различным культурам.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования полученных результатов в лекционных курсах по истории русской и зарубежной литературы XX века, при подготовке спецкурсов.
Структура работы определяется поставленной целью и задачами.
Во введении обосновываются выбор темы диссертации, актуальность и научная новизна исследования, определяются его объект, предмет, цель и задачи, теоретическая и практическая значимость работы.
В первой главе исследуются проблема «пространственной формы» в литературе XX века и содержание концепта смерти в гуманитарной мысли XX века.
Во второй главе исследуется пространственная организация романов Б.Виана «Пена дней», «Осень в Пекине», «Красная трава» и «Сердцедер», определяются параметры модели «пространства смерти».
В третьей главе построенная модель «пространства смерти» используется для описания художественного мира повести ИШмелева; изображение лагеря в русской литературе сопоставляется с изображением лагеря в рассказе французской писательницы Ф.Ксенакис.
В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются выводы, полученные в ходе работы. Для того, чтобы наметить перспективы дальнейшего исследования «пространства смерти», в заключении показана возможность применения модели пространства смерти не только к другим литературным произведениям, но и к другим видам искусства. В конце работы приводится библиографический список из 255 единиц на русском, английском и французском языках.
Положения, выносимые на защиту:
" В европейской литературе XX столетия проявляется тенденция к «опространствливанию», предполагающая изменение характера соотношения времени и пространства, а также «спациализацию» всех категорий, в том числе и такой важной для сознания и для литературы XX века категории, как смерть. В художественном тексте возникает новый тип пространства, в котором смерть становится пространственной и одновременно определяет сам характер пространства,
В романах БВиана существует несколько форм времени: перцептуальное время в пространствах групп, время в пространстве смерти, зависимое от его изменений, и замкнутое время произведения. Каждая выделенная
17 «форма времени» развивается в своем темпе, но не существует изолированно от других форм времени: все они взаимосвязаны и определяются в итоге изменениями, происходящими в пространстве смерти. При этом смерть в романах выступает не как временная, но как пространственная категория, она предстает как не-присутствие в пространстве, как исчезновение из пространства; маркером смерти героя является разрушение связанного с ним локуса.
Романы БЗиана имеют многоуровневую структуру. Ключевым уровнем пространственной организации романов Б.Виана является «пространство смерти», организованное вокруг «центра» - героя-носителя смерти. В романах Б.Виана можно выделить пространства групп, которые состоят из трех, четырех или больше героев. В пространстве группы один герой может заменять другого, поскольку тернарные и четырехсторонние отношения, выстраиваемые между героями, строятся по принципу «переменная и пара» или же «пара-пара». Общий принцип, по которому герои объединяются в пространство группы, - совпадение их желаний и стремлений, составляющих «прозрачное пространство» группы,
В литературе XX века возникает особый тип художественного пространства - «пространство смерти». «Пространство смерти» характеризуется замкнутостью, активностью (оно заставляет героя действовать), карнавализованностью, оно организует восприятие смерти в художественном мире и подчиняет себе художественное время. Пространство смерти дискретно: в нем проходит разделение между Светлой и Темной зонами. Обе зоны составляют часть пространства смерти, однако каждая их них имеет собственные правила и законы, которым подчиняются герои.
В повести ЛШмелева «Солнце мертвых» в пространстве локализована не только смерть, но и жизнь героев; свойством пространства смерти повести становится мортализация жизни в художественном пространстве.
13 Интенсификация пространства смерти в повести происходит по горизонтальной линии смерти, все вертикальные линии (линии жизни) разрушаются. Художественное пространство и «Колымских рассказов» В.Шаламова, и повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» обладает общими чертами: оно состоит из нескольких уровней, при этом основой ключевого уровня («пространства смерти») выступает смерть. Изображение лагеря в рассказе французской писательницы Ф.Ксенакис «Она сказала бы ему на острове» схоже с изображением лагеря в произведениях русской «лагерной прозы»: территория лагеря предстает как «пространство смерти»-
«Пространственная форма» в литературе XX века
Искусство XX века «пространственно» в том смысле, что в нем большая важность и ценность именно придается пространству. В XX веке представление о пространственно-временных координатах существенно меняется, интерес смещается в сторону пространства. В европейской литературе XX столетия проявляется тенденция к «опространствливанию»: в работах Ж.Женетта, М.Бланшо, В.Нёта, Ж.Деррида, Д-Фрэнка и других исследователей разрабатываются концепции «пространственности» и «пространственной формы» в литературе XX века,
Ж.Женетт говорит об особом типе пространства, современном пространстве - «пространстве-укрытии» («головоломной топологии»}, созданном человеком и являющимся, по сути, «искривленным пространством, четвертым измерением». Возникновение такого пространства Ж.Женетт связывает с тем, что «современный человек ощущает свою временную длительность как «тревогу», свой внутренний мир как навязчивую заботу или тошноту; отданный во власть «абсурда» и терзаний, он успокаивается, проецируя свою мысль на вещи, конструируя планы и фигуры, черпая таким образом хоть немного устойчивости и стабильности из пространства геометрического» .
Такое приоритетное отношение человека к пространству, возможность найти в нем «успокоение» приводит к тому, что «дискредитация пространства, так ярко выраженная в бергсоновской философии, сегодня уступила место противоположной оценке, когда так или иначе утверждается, что человек «предпочитает» пространство времени» .
Ж.Женетт приходит к выводу о существовании «языка пространства», своеобразного дискурса, языковую форму которого составляет пространство: «Сегодня литература - вообще мысль - выражает себя исключительно в терминах дистанции, горизонта, универсума, пейзажа, места, ландшафта, дорог и жилища; все это наивные, но характерные фигуры, фигуры par exellence, где язык становится пространством, для того, чтобы пространство в нем, став языком, говорило и писало о себе».
Литература обретает свое собственное пространство, само слово становится «пространственным». Так, например, показательно заглавие одного из центральных трудов М.Бланшо - «Пространство литературы». Литература, по словам МБланшо, обладает своим собственным пространством, она «преодолевает время и место настоящего и обустраивается на периферии мира», конституируя свой собственный мир, свое пространство.
Немецкий исследователь В.Нёт выделяет «пространство текста», мотивируя это тем, что текст и его структуры характеризуются преимущественно при помощи пространственных концептов: текст содержит места или пункты, которые в рамках изложения могут располагаться выше, ниже, в центре или находиться впереди либо позади31. Концептуализацию текста как пространства ЖДеррида связывает с метафорическим использованием пространственных характеристик письма для описания устной речи (ЖДеррида определяет письмо как «опространствление устной речи»).
«Пространство смерти» в структуре романов
Романное творчество Б. Виана представляет собой яркую и весьма репрезентативную страницу истории французской литературы двадцатого столетия. Относящееся к середине XX века, оно фактически находится на стыке экзистенциализма и постэкзистенциализма, а потому может быть рассмотрено как средоточие поэтологических поисков, которые вела западноевропейская культура в середине прошлого столетия.
Исследованию пространственной организации романов Б. Виана посвящены работы как русских, так и французских исследователей151.
По мнению П. Биргандера, четыре «основных» романа Б.Виана («Пена дней», «Осень в Пекине», «Сердцедер» и «Красная трава») подчиняются горизонтальной пространственной организации: «Все романы Виана подчиняются строго ограниченному горизонтальному пространству: мы не знаем ничего о том, что находится за пределами Квадрата («Красная трава»), пустыни Экзопотамия («Осень в Пекине») или деревни («Сердцедер»). Вместе с Коленом и Хлоей мы чувствуем угрозу, исходящую от края дороги, по которой они ехали в свадебное путешествие»152. Такая «ограниченность» горизонта, тем не менее, не отменяет наличия вертикального пространства романов, которое, согласно П. Биргандеру, состоит из двух слоев («couches»), примерно одинаковых по значимости: поверхность («la surface») и подземный мир (1е monde souterrain»). Путешествие Вольфа («Красная трава») наверх П. Биргандер рассматривает как пребывание героя вне-времени («un horsemps») и вне-пространства («un hors-espace»). Таким образом, в своем исследовании П.
Биргандер ограничивается рассмотрением вертикального и горизонтального аспектов пространственной организации романов Б. Виана.
Французский исследователь творчества Б.Виана Ж.Пестюро соотносит пространственную организацию романа «Красная трава» с фольклорным и мифопоэтическим делением пространства. Ж.Песпоро считает, что пространство романа разделено на три уровня: подземный мир, наземный мир (территория Квадрата и город) и высший, небесный уровень, куда Вольф поднимается на своей машине 53: «Художественное пространство разделено на три классических уровня. Подземное пространство - это пространство «пещер», связанное с забвением; поскольку машина разрушает все, проход через пещеры оказывается для Вольфа и Лазурита побегом от онтологической тревоги ... Наземная поверхность - это пространство Квадрата, геометрическое пространство, покрытое «красной травой» ... это закрытое пространство открывается внешнему миру, благодаря нескольким «походам» в город к гадалке или в квартал удовольствий ... Высший уровень, куда поднимается клетка, преодолевающая время, «другой мир», - это своего рода небесный эфир, в котором находятся, как во вневременном музее, фрагменты прошлого Вольфа и слушатели-аналитики» Более продуктивно, на наш взгляд, исследовать пространственную организацию романов Б.Виана с точки зрения многоуровневой структуры.
Пространственная организация романов обладает многоуровневой структурой: художественное пространство включает в себя несколько уровней, неразрывно связанных между собой. Эти пространственные уровни не существуют отдельно друг от друга: один уровень включает в себя другой, внутри этого второго есть третий и т. д., то есть они оказываются включенными один в другой по принципу «матрешки»155. При этом если первый уровень отделен от второго явно, то в дальнейшем «слоистость» художественного пространства остается скрытой, неявной, (граница между последующими уровнями «прозрачна», преодолима, ее возможно разрушить).
Так, самый большой уровень - первый - мы обозначим термином «большой» мир. Этот уровень включает в себя все остальные уровни. Он представляет собой не только изображенное пространство, но и пространство неописанное, лишь упоминаемое, это пространство, существующее объективно.
В романах Б.Виана «большой» мир представлен как абсурдный, в этом мире царит смех, В романе «Пена дней» «большой» мир включает не только мир, в котором живут Колен, Хлоя и их друзья, но и мир, с которым они частично соприкоснулись во время свадебного путешествия. Это мир, включающий и жизнь рабочих, живущих за красной чертой, и место, куда Хлоя поехала на лечение.
В романе «Осень в Пекине» этот «большой» мир состоит не только из пустыни, но и из мира, откуда приехали все герои в пустыню, и где проходят заседания.
В романе «Красная трава» герои не ограничиваются жизнью в Квадрате, они «выходят» в город, в котором можно найти гадалку по запахам, мюряковя подвалы с жестокими играми; это и мир, в который уходят из Квадрата Лиль и Фолавриль после смерти Лазурита и Вольфа. В «большой» мир мы включаем и «путешествие» Вольфа наверх в своей машине.
Локализованное жизни в пространстве смерти (повесть И.Шмелева «Солнце мертвых»)
«Этот кошмарный, окутанный в поэтический блеск документ эпохи» (Т.Манн); «самая страшная книга ао всей мировой литературе (А.Амфитеатров»; «самая страшная книга в русской литературе: тут целый погибающий мир вобран, и вместе со страданием животных, птиц» (А.Солженицын)351 - такие отзывы современников и писателей последующего поколения получила повесть И, Шмелева «Солнце мертвых» (1923).
Повесть представляет собой дневник повествователя, в который день за днем заносятся будничные эпизоды первой зимы после победы большевиков, принесшей массовые казни и голод, «Солнце мертвых» написано ИШмелевым на автобиографическом материале: осенью 1918 он уехал в Алушту, где у него было небольшое имение, там же И-Шмелев пережил все ужасы Гражданской войны, закончившейся для него арестом и расстрелом единственного сына, белого офицера, ставшего жертвой бессудных расправ над побежденными после падения правительства Врангеля,
В эмиграции И.Шмелев написал свою книгу, представляющую собой короткие литературные ноктюрны, рассказы о том, как гибнет все живое -люди, звери, души, сердца, и глядящее на все это солнце становится «солнцем мертвых». Самое страшное в «Солнце мертвых» то, что это было: был страшный голод, был Крым, были расстрелы» был террор. Смерть всего живого - вот центральное событие повести, « О чем книга И. С. Шмелева?
О смерти русского человека и русской земли.
О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба,
О смерти русского солнца,
О смерти всей вселенной» - когда умерла Россия - о мертвом солнце мертвых»
Художественное пространство повести отчетливо разделено на два мира: «большой» мир - пространство неописанное, лишь упоминаемое и изображенное пространство городка.
Условно можно выделить еще один уровень пространственной организации повести: мир, в котором нет советской власти - «заграница»- Он составляет часть «большого» мира в том случае, когда он противопоставлен изображенному пространству смерти и рассматривается как часть жизни, оставшейся в прошлом, или принадлежащей другому миру, отличному от мира городка. В этом случае он воспринимается героями как нечто призрачное, нереальное, как и непосредственно сам «большой» мир.
В случае противопоставления мира, в котором царит советская власть и заграничного мира, он будет составлять отдельный уровень. В этом случае невидимая граница отделяет все уровни: не только просіранство смерти будет закрыто, оторвано от «большого» мира, принципиально замкнуто, но и «большой» мир, в котором царит советская власть, будет отграничен от всего остального мира («заграницы»). Подобная отграниченность достаточно условна и проявляется в намеренном, искусственном противопоставлении двух миров:
Новый начальник, рыжебородый рассыльный, рычит из за решетки: - Че..,го-о?.. Никакой заграницы нету! Одни контриционеры... мало вам пи-сано? Будя, побаловали.,- (С.132)353
Граница отделяющая пространство смерти от «большого» мира, достаточно условна: нет четко «проведенной» линии, отделяющей два мира, герои фактически сами не в состоянии преодолеть границу» поскольку у них не только нет на это ни сил, ни возможности, но само ее преодоление связано со смертельной опасностью.
С одной стороны своеобразной границей городка оказывается кладбище - «мир Мертвых». Являясь средоточением смертей, кладбище как бы акцентирует пределы пространства смерти. С другой стороны пространство смерти отграничено водой - морем, и в этом случае граница оказывается принципиально непреодолимой. Вода, окружающая пространство смерти -мертвая вода, вода, несущая смерть, она усиливает активность пространства смерти.