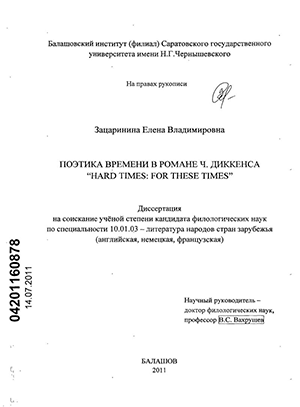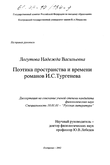Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Роман Ч.Диккенса «Hard Times: for These Times» в истории английской литературы 12
1.1. Рецепция романа в российском и британском литературоведении 12
1.2. Историко-литературный контекст романа «Hard Times: for These Times» 28
1.3. Место романа «Hard Times: for These Times» в творчестве Ч. Диккенса 50
Глава 2. Образ времени в романе Ч.Диккенса «Hard Times: for These Times» 59
2.1. Поэтика названия романа. Профанное и сакральное время в романе 59
2.2. Образ Коктауна: механическое время в романе 79
Глава 3. Время как средство характеристики персонажа 101
3.1. Система образов романа 101
3.2. Отношение ко времени как средство характеристики персонажа 125
3.3. Перемещение в пространстве как способ характеристики персонажа 148
Заключение 162
Библиографический список 170
- Историко-литературный контекст романа «Hard Times: for These Times»
- Место романа «Hard Times: for These Times» в творчестве Ч. Диккенса
- Поэтика названия романа. Профанное и сакральное время в романе
- Отношение ко времени как средство характеристики персонажа
Введение к работе
Творчество Чарльза Диккенса (Charles Dickens, 1812–1870) давно стало классикой не только английской, но и мировой литературы. Тиражи его книг достигли миллионов экземпляров, его произведени часто экранизируются, становятся основой мюзиклов, комиксов, исполняются по радио, его романы, повести и рассказы переведены на десятки языков народов мира, общепризнанны талантливость, оригинальность его писательской манеры.
При этом роман «Hard Times: For These Times» привлекает внимание при разговоре о Диккенсе значительно реже, чем такие его произведения, как, например, «Дэвид Копперфилд», «Повесть о двух городах», «Записки Пиквикского клуба», «Тайна Эдвина Друда», «Домби и сын».
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения романа Ч.Дикенса “Hard Times: For These Times” с точки зрения времени как художественной доминанты, определяющей соотношение тематики романа и художественных поисков писателя.
Объектом исследования является поэтика романа Ч.Диккенса “Hard Times: For These Times”.
Предметом исследования выступает время как художественная доминанта романа.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней роман Ч.Диккенса “Hard Times: For These Times” рассматривается не только на уровне тематики и проблематики, но в первую очередь с точки зрения изучения поэтики романа, а именно исследования времени как центральной категории, определяющей взаимодействие двух планов романа и являющейся одновременно и важнейшей темой романа, и основным изобразительным средством.
Цель работы – изучение поэтики времени как важнейшей темы и основного изобразительного средства романа.
Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда задач:
-
Выявить литературный контекст романа, то есть: а) определить его место в творчестве Ч.Диккенса; б) сопоставить его с другими произведениями английской литературы XIX века, посвящёнными рабочему классу викторианской Англии;
-
Исследовать соотношение двух пластов романа, связанных с библейскими мотивами и библейской образностью, с одной стороны, и с сатирическим изображением современности – с другой;
-
Изучить способы создания «механического» времени как средства сатирического изображения современной действительности;
-
Рассмотреть функции времени как средства характеристики персонажа (способности персонажа изменяться во времени) и способа создания системы образов;
-
Исследовать соотношение времени и пространства в романе, рассмотреть перемещение в пространстве как важное средство создания образа персонажа.
Теоретической основой работы послужили труды по поэтике и теории литературы М.М. Бахтина, С.Н. Бройтмана, В.С.Вахрушева, М.М. Гиршмана, Ю.М. Лотмана, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, В.Е. Хализева, которые внесли большой вклад в разработку проблем анализа литературного произведения и эстетической специфики литературного текста, а также концепции Н.Л. Лейдермана и положения школы Б.О. Кормана и его последователей.
Методологической основой работы послужили следующие методы: метод целостного анализа, компаративный, биографический, структурный. Особое значение для работы имела концепция хронотопа М.М.Бахтина, позволившая выявить механизмы взаимодействия времени и пространства как основной принцип создания художественного целого.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что время исследовано как художественная доминанта романа Ч.Диккенса, определяющая систему образов персонажей (распределение персонажей на подвижные и неподвижные) и служащая основным средством выражения авторского замысла (критика современной действительности за счет противопоставления механического (профанного) и сакрального времени).
Практическая значимость работы состоит в том, что её материалы могут быть использованы при разработке спецкурса по истории английского романа XIX века, а также при проведении практических занятий по английской литературе, при написании студенческих курсовых и научных работ.
Апробация работы. Основные положения исследования изложены в докладах на межрегиональной научно-практической конференции «Текст. Дискурс. Жанр» (Балашов, БФ СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 2007 г), на XIV Державинских чтениях (Тамбов, ТГУ им. Державина, 2009 г), на III межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии» (Рубцовск, РИ АлтГУ, 2009 г); на ежегодных научно-практических конференциях в БИ СГУ им. Н.Г.Чернышевского в период с 2007 по 2011 гг.
Положения, выносимые на защиту:
-
Роман “Hard Times: For These Times” органически вписывается в наследие писателя как составная часть художественного целого, как продолжение тех мотивов, тем, образов, идей, которые всегда увлекали писателя. С другой стороны, роман заметно выделяется из общего потока его произведений и даже из романов 50-х годов, отмеченных повышенным вниманием автора к политике.
-
Как показывает «двойное» название романа, в “Hard Times: For These Times” сочетаются два пласта, связанные с библейскими мотивами и библейской образностью, с одной стороны, и с сатирическим изображением современности – с другой.
-
Средством сатирического изображения современной действительности в романе становится «механическое» время, создаваемое за счет активного использования соответствующих маркеров. Механическому времени соответствует и механистическое пространство.
-
Отношение персонажа ко времени служит основой для создания системы образов романа. Способность персонажа изменяться во времени и перемещение в пространстве становятся в романе Ч.Диккенса важным средством создания образа и характеристики персонажа.
Структура исследования определяется его целью и поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Общий объем исследования – 195 страниц. Библиографический список включает 248 источников, 159 из них на английском языке.
Историко-литературный контекст романа «Hard Times: for These Times»
В одном из писем, относящихся к времени сразу после выхода романа, Диккенс сообщал корреспонденту: «Моя сатира направлена против тех, которые видят лишь цифры, общие положения и ничего другого. Она направлена против носителей самого страшного и самого ошибочного порока нашего времени – тех людей, которые сделают больше, чтобы повредить распространению полезных истин политической экономии, чем я мог бы сделать за всю мою жизнь, если бы попытался заняться этим делом».1 В этом высказывании примечательна очевидная связь между романом Диккенса и теми социальными проблемами, которые разрабатывала не только художественная проза, но в первую очередь публицистика эпохи. Об этом обстоятельно пишет Стивен Уолл в своём большом предисловии к очередному переизданию романа.2 Он сообщает, что текст романа, публикуемый первоначально в еженедельном журнале «Домашнее чтение» рядом со статьями самого Диккенса и других авторов на злободневные темы по экономике и политике, приобретал в таком контексте публицистическое звучание и становился благодаря этому «в некотором роде индустриальным романом». Так, например, фигура чартиста Слэкбриджа в романе невольно могла сопоставляться читателями журнала со статьей Диккенса «О забастовке» (1854), в которой автор рассказывал о забастовке рабочих в городе Престоне и где в неприязненном тоне рисовался местный лидер чартистов Мортимер Гримшоу, послуживший, как уже отмечено в первой главе, прототипом чартиста Хиггинса в романе Э. Гаскелл «Север и Юг».
Более интересный случай был связан с седьмым номером журнала «Домашнее чтение» за 13 мая 1854 года, где печатались одновременно 13 и 14 главы первой книги романа и статья журналиста Генри Морли «Привязанные к фабрике» (Ground to the Mill). Журналист рассказывал о нескольких несчастных случаях на производстве, на ткацких фабриках Манчестера, когда из-за плохой охраны труда калечились работницы около станков. А Стивен Блекпул в 13-й главе романа рассказывал об аналогичном случае, произошедшем с одной знакомой ему девушкой, причём герой осуждает заводское начальство, которое старается всю вину за происшедшее свалить на работницу, на её невнимательность.
Диккенс давал к этому рассказу специальную сноску со ссылкой на указанную статью Морли. Это вообще был единственный случай в творческой практике писателя. Диккенс почувствовал это, и, когда роман стал выходить в книжном формате, автор изъял из него и этот рассказ героя, и ссылку на статью. Но налёт публицистичности в поэтике романа остался – он ощущается в интонационном строе отдельных пассажей романа, в авторском пафосе, с которым писатель клеймит хозяев за то невыносимое положение, в котором находятся их подчинённые.
Необходимо, помимо публицистики, отметить и те произведения английской литературы XIX века, в которых затрагивалась рабочая тема и которые в этом плане предшествовали произведению Ч. Диккенса. Хотя мы должны учитывать то, что писатель в своём романе касается и многих других социальных проблем. Во-первых, следует остановиться на литературе чартистов, о которой обычно забывают сказать при анализе «Тяжёлых времён». Правда, мы не знаем, знакомился ли с ней писатель, но несомненна известная общность мотивов между ней и творчеством писателя. Так, явно перекликаются между собой жалобы бедняков в чартистской лирике и речи Стивена Блекпула из романа Диккенса. Есть определённое сходство и в изображении нищеты, страданий пролетарских низов в романах Эрнеста Джонса, Томаса Уиллера, Томаса Фроста, с одной стороны, и в соответствующих главах из «Тяжёлых времён». Иногда поэты-чартисты выступали против утилитаристов, буржуазных политиков, чем занимается и Диккенс в своём романе. Таково, например, опубликованное без подписи в газете «Английская республика» в 1851 году стихотворение «Свободная торговля» (Free Trade). Автор гневно осуждает политику свободного предпринимательства и одного из его пропагандистов Ричарда Кобдена, манчестерского капиталиста, который в известной мере послужил прототипом диккенсовского Гредграйнда.
Что же касается чартистской прозы, то она в основном была публицистической и создавалась в жанрах эссе, передовых статей, листовок на злободневные темы. Была у чартистов и своя литературная критика – отзывы о поэтах-романтиках Шелли и Байроне, о Роберте Бернсе и Мильтоне, а Эрнест Джонс даже напечатал статью о русской литературе, в которой начинает её отсчёт с Ломоносова, отзывается с похвалой о Державине, Карамзине, Жуковском, Крылове, Грибоедове и Гоголе. Но пальму первенства, конечно, отдаёт великому Пушкину, с творчеством которого был знаком по немногим слабым тогдашним переводам его на английский язык. Есть у Джонса также статьи по польской и немецкой литературе.
Место романа «Hard Times: for These Times» в творчестве Ч. Диккенса
Когда мы говорим о наследии писателя, то нельзя забывать о проблеме его целостности, о необходимости восприятия его как великого художественного единства. Об этом замечательно высказался другой английский писатель, великий фантаст и страстный поклонник Ч. Диккенса Герберт Уэллс (1866–1946). В своей большой статье «Современный роман» (The Contemporary Novel, 1911)1 автор пишет об этом жанре как о воплощении «всех наших социальных, политических, моральных проблем» и, в частности, об умении Диккенса в любом из своих персонажей типизировать важнейшие тенденции времени. И далее продолжает: «Признаюсь, все романы Диккенса, хотя они длинны, для меня они слишком коротки (I find all the novels of Dickens, long as they are, too short for me). Я жалею, что они не перетекают один в другой».2 Уэллс представляет себе, как диккенсовские персонажи легко переходят из одного его романа в другой. По существу речь идёт о художественной целостности всех произведений великого мастера, которые действительно соеденены как целым рядом взаимосвязанных тем (например, темы детства, школы и школьного образования, воспитания личности жизненными обстоятельствами, поиска героем места в жизни, контрастов между бедностью и богатством), так и стилем, языковыми особенностями текстов, сходством жанровой и образной систем его произведений. Это единство наблюдается и в постоянном обращении писателя на всем протяжении его творческого пути к таким способам изображения, как сатира, юмор, доходящий до гротеска во всём многообразии его оттенков, а также мелодраматизм и романтический пафос при общей реалистической направленности повествования.
Единство прослеживается и в постоянных лейтмотивах, преходящих у Диккенса из романа в роман – например мотив трудного детства, иногда сопровождаемого смертью мальчика или девочки (Смайк из «Николаса Никльби», Поль из «Домби и сына», Нелли из «Лавки древностей»), но чаще ведущего к счастливому исходу (Оливер Твист, маленький Дэви в «Дэвиде Копперфилде»). Это и лейтмотивы бунта против несправедливости (избиение Николасом Никльби жестокого учителя, участие Барнаби Раджа в восстании, жестокость революционеров в «Повести о двух городах», забастовка рабочих в «Тяжёлых временах»). При этом чаще всего лейтмотивы переплетаются, пересекаются друг с другом в пределах одного произведения и целыми «комплексами» переходят из романа в роман, варьируясь и трансформируясь в различных сочетаниях. Таков, например, мотив вражды во внутрисемейных или родственных отношениях. В первых романах писателя он трактуется в романтическом ключе – обычно «демонический» дядя враждебен к племяннику, даже хочет погубить его (в «Оливере Твисте»). Затем мотив преображается – скажем, Домби-отец отчуждён от своей дочери Флоренс из-за деловых соображений. Дальнейшее развитие мотива – буржуа и член парламента Грэдграйнд в «Тяжёлых временах» по-своему любит свою дочь Луизу и желает ей добра, но, отчуждаясь от «доброй» половины своей души, понуждает её к браку с нелюбимым человеком из соображений «статистики», то есть выгоды.
Так что в наборе мотивов, да и в образной системе, в стиле «Hard Times: for These Times» ничуть не выпадают из общего потока диккенсовских романов, хотя и имеют свою специфику, отмеченную выше. В процессе исследования мы посмотрим, как отдельные мотивы или комплексы их прослеживаются от ранних романов Диккенса вплоть до «Тяжёлых времён». Что касается рабочей и «индустриальной» тематики, то в творчестве писателя в 30-40-е годы, да и в самом начале 50-х она занимает лишь периферийное место, но достаточно отчётливо выражена. Так, в «Лавке древностей» (The Old Curiosity Shop, 1842) она возникает как один из проходных эпизодов в странствиях девочки Нелл и её деда, причём судьбы этих неприкаянных и влачащихся в нищете персонажей вполне «гармонируют» с полуголодным существованием пролетариев. Мрачные сцены индустриального пейзажа найдут своё отражение на соответствующих страницах «Времён». Но важнее другое – фигура безымянного рабочего (сталевара?), который, сам, будучи бедняком, приютил и обогрел нищих путников. Он изображён как человек одинокий, держащийся в стороне от товарищей по работе, потому что это романтик в душе, очарованный стихией огня. Этот эпизодический образ трансформировался во «Временах» в фигуру Стивена Блекпула, тоже особенную личность, не находящую понимания у рабочего коллектива, хотя и по-своему выражающую настроения последнего. Намечена в «Лавке древностей» и тема движения чартистов. В 45-й главе романа мы слышим «яростные крики и угрозы, когда доведённые до отчаяния люди, вооружившись дубинами и горящими головнями…шли на месть и разрушение, неся гибель прежде всего самим себе». Эту тему «саморазрушительного» слепого бунта толпы Диккенс особенно ярко воплотил в своём первом историческом романе «Барнеби Радж» (1842), изображавшем антикатолическое восстание бедняков Лондона в 1780 году, а позднее в «Повести о двух городах» (1859) о Великой Французской революции.
Далее «промышленный» пейзаж мы встречаем в «Домби и сыне», где даётся панорама «развороченного» Лондона, охваченного строительной лихорадкой. Сюда же надо подключить эпизод гибели управляющего Каркера под колёсами паровоза, ведь это была, видимо, первая не только в английской, но и в мировой литературе сцена смерти человека от такого «чудовища», каким представлялся локомотив многим викторианцам. Фабричная техника в «Тяжёлых временах» тоже предстанет страшной силой, обезличивающей человека, превращающей работника в «руки» (hands), в живой придаток к машине, которая иногда приносит увечье или смерть человеку. Не случайно Стивен Блекпул находит свою гибель, упав в заброшенную шахту, которая тоже становится символом бездушной, чуждой человеку силы.
Поэтика названия романа. Профанное и сакральное время в романе
Обычно исследователи ограничиваются тем, что цитируют фразу о севе и жатве, которая сама по себе представляет народную мудрость, и этим ограничиваются. Между тем следует учесть содержание послания в целом. Оно пронизано страстной верой апостола в «благовествование» (евангелие) от Иисуса Христа и представляет собой патетическое обращение Павла к «несмысленным Галатам», которые не хотят ещё покоряться истине вероучения «люби ближнего как самого себя». Диккенс с такой же страстью обращается к своим читателям, внушая им нравственные уроки. Павел осуждает мирской закон, который возвращает отступников к «немощным и бедным вещественным началам» (гл. 4, стих 9) и предлагает галатам «сеять» добро. И Диккенс по примеру Павла осуждает утилитаризм (или по нашему «вещизм») и проповедует духовные ценности. Ибо «сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление; а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную» (гл. 6, стих 8). «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (гл. 6, стих 10). Общий смысл послания понятен, причём мы выделим ещё момент времени – «доколе есть время». Диккенс тоже не считает своё «тяжёлое» время совсем плохим, оно ещё даёт возможность грешникам исправиться. Что, кстати, частично и происходит в романе с Гредграйндом, его женой и их дочерью Луизой, а Блекпул и его Рейчел вообще безгрешны. Более того, в послании упомянут такой момент: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» в мир, чтобы наставить людей (гл. 4, стих 4). О такой «полноте», то есть высшей точке времени на земле, в романе речи нет, но чувствуется, что писатель думал о ней как о чём-то идеальном и для его героев запредельном.
Во всём послании апостола Павла никаких притч нет, но в нём есть притчевая экспрессивность и проникновенность интонаций, которая одушевляет и страницы романа Диккенса. Но можно предположить, что писатель, кроме послания к Галатам, имел в виду целых три притчи Иисуса Христа, рассказанные и истолкованные им в главе 13 Евангелия от Матфея. Первая притча – о сеятеле, зерна которого упали то на дороге, то на каменистой почве, то в терние, то на добрую землю. Значение её Спаситель толкует как «слово о Царствии», не доходящее до неразумных и западающее в душу человека разумеющего. Вторая притча есть вариант первой – «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем» (Матф., гл. 13, стих 24), но «враг» (дьявол) подмешал к пшенице плевелы, которые Бог советует жнецам собрать в отдельные связки и сжечь. И тут же следует притча третья: «Царство Небесное подобно зерну горчичному», посеянному человеком и вырастающему в целое дерево (мотив произрастания малого доброго дела в большое). Интересно, что притче о пшенице и плевелах Христос даёт многозначное толкование – она означает: 1) «Поле есть мир; доброе семя это – сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого» (Матф., 13, 38); 2) «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле»; 3) «Царство» подобно купцу, ищущему хороших жемчужин»; 4) оно подобно «неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода» (там же, стих 47). В романе Диккенса «плевелами» является пресловутая «теория фактов», насаждаемая в школе Гредграйнда и поддерживаемая капиталистом Баундерби, и её тоже можно истолковывать многозначно, о чём будет сказано далее. Притча о пшенице и плевелах повторяется с небольшими вариациями у двух других евангелистов – Марк, гл. 4, стих 3–8; Лука, гл. 8, стих 5–8. Похожа на неё и притча о жнущем, который «собирает плод в жизнь вечную» (Иоанн, гл. 4, стих 35–38). Всё это убеждает нас в том, что Диккенс выбрал основой для своего романа очень популярную евангельскую притчу, смысл которой был хорошо знаком его читателям.
Отметим один важный момент сходства в поэтике евангельских притч с художественной структурой книги Диккенса. Притчи Иисуса изложены очень кратко, и материал в них располагается симметрично, по принципу либо параллельности, либо контраста. Так, первая притча в Евангелии от Матфея умещается всего в шесть стихов (ритмических фраз), причём стихи 4, 5, 6, 7 параллельны, в них сообщается о гибели зёрен, упавших на плохую почву, а последний 8-й стих по контрасту сообщает о зерне, упавшем на добрую почву и принёсшем урожай в многократном размере. Эту притчевую поэтику берёт на вооружение и Диккенс, разумеется, преобразуя её в соответствии со структурой романа.
Действие книги подчинено принципу композиционной троичности – в первой книге Гредграйнд в прямом смысле «насаждает» в души учеников свои утилитарные идеи, ими давно пропитано сознание фабриканта Баундерби, они довлеют как злой дух над сознанием жителей города Кокстауна (Coketown, что буквально означает «Углеград»). Таков «сев», таковы «сеятели». Но есть и противостоящие им силы – это, с одной стороны, Блекпул и Рейчел, над которыми, правда, витает общая атмосфера зла. С другой стороны, это конный цирк мистера Слири, несущий с собой бодрящую атмосферу юмора и как бы «засылающий» в школу Гредграйнда девочку Сесси (Цецилию) Джуп, призванную хотя бы частично разрушить злые чары, довлеющие над школой утилитаризма.
В книге второй «Жатва» начинается метафорический «сбор плодов»: дети Гредграйнда, воспитанные по его системе, вырастают озлобленными на жизнь и несчастными – Томас играет на скачках, залезает в долги и ворует из банка Баундерби деньги. Его сестра Луиза страдает в браке с нелюбимым мужем (тем же Баундерби) и чуть было не поддается на ухаживания светского циника Хартхауса, хотя и находит в себе силы устоять и убежать от ненавистного ей супруга. Третья книга романа, называющаяся «Сбор в житницы», – это история прозрения Гредграйнда, на которого обрушились семейные беды – смерть жены, страдания дочери Луизы, позор сына Томаса, который пытался оклеветать Блекпула в воровстве и избежал тюрьмы только с помощью циркачей мистера Слири. Это и гибель Блекпула, упавшего на дно заброшенной шахты («индустриальное» предприятие губит рабочего человека). Это и незавидный финал Баундерби. Судьба вершится, причём в большинстве случаев её творцами оказываются сами люди, их заблуждения.
Отношение ко времени как средство характеристики персонажа
Слэкбридж напоминает О Коннора в малом масштабе своим пристрастием к риторически закруглённым фразам, в которых звучат вроде бы правильные мысли о необходимости единства в борьбе против угнетателей. Вот образец его речи: «О, друзья мои, угнетённые рабочие Кокстауна! О, друзья мои и соотечественники, рабы железного и беспощадного деспотизма! О, друзья… Настал час, когда мы должны слиться в единую сплочённую силу, дабы стереть в порошок наших притеснителей», которые «грабят наши семьи, попирают богом созданные великие права человечества и извечные священные привилегии братства людей!» (Oh, my friends, the downrodden operatives of Coketown!...the slaves of an iron-handed and grinding despotism!...I tell you that the hour is come, when we must rally round one another as One united power…). Это традиционный набор общих мест из искусства политической риторики – троекратные повторения «задушевных» обращений («о, друзья мои»), призывов и обличений, облечённых в высокопарные периоды.
Но если мечта Стивена о единстве людей во Христе звучит, хотя и утопично, зато искренне, то слова Слэкбриджа о «единой сплочённой Силе» отдают политической демагогией. Хотя сам Диккенс чувствует, что сама по себе идея единства верна. Это понимают и слушающие агитатора рабочие, которые приветствуют оратора криками одобрения. И писатель добавляет: «Каждый понимал, что положение его, по той или иной причине, хуже, чем оно могло бы быть; каждый считал своим долгом примкнуть к остальным, чтобы добиться лучшей доли». И далее: «Каждый был преисполнен веры, истинной или ложной (к несчастью, на сей раз ложной), – веры глубокой, искренней, чистосердечной…эти люди в самом заблуждении своём обнаруживали высокие нравственные качества» (in his belief, right or wrong, (unhappily wrong then) the whole of that crowd were gravely, deeply, faithfully in earnest). Здесь голос автора, авторская оценка ситуации серьёзны как никогда. Писатель целиком на стороне страдающего народа, и в этом смысле он на стороне чартиста Слэкбриджа, но в то же время он считает, что путь борьбы, который выбирает масса, неверен. Отсюда и «морока» в мыслях Блекпула и самого автора, отсюда и спор героя с чартистом, когда Стивен правильно «снижает» пафос речей Слэкбриджа замечанием: «Этому делегату положено говорить…такое у него ремесло. Ему за это деньги платят» ( Tis this Delegate s trade for t speak… an he s paid for t). Зато Слэкбридж сразу нашёлся, чем ответить, назвав Стивена «Иудой» – ведь Блекпул не включился в ряды забастовщиков. Да, Стивен понимает, что товарищи назовут его предателем их общего дела, но он остаётся твёрд в своём убеждении, что превыше этого профсоюзного единства грядущее единение людей во Христе.
Что же касается Слэкбриджа, о котором Стивен столь презрительно отозвался в своей речи перед Баундерби, то этот чартист бесследно исчезает из романа и в последних пяти главах даже не упоминается. Не знаем мы и о результатах организованной им забастовки. Значительна роль Сесси (Цецилии) Джуп, которая имеет функцию благотворного посредничества между хозяевами и их подчинёнными. Подобно Стивену, она несёт с собой дух милосердия и добра, недаром она помогает Гредграйнду, его жене и Луизе справляться с тяжёлыми ситуациями, не случайно дружит с Рейчел. Редкое для англичан имя автор, очевидно, дал ей в честь святой Цецилии, которая сумела обратить в христианскую веру своего мужа-язычника и претерпела вместе с ним мучительную казнь. Писатель, наоборот, предсказывает своей героине счастливый брак и чаще называет её ласково-уменьшительным именем «Сесси».
Наконец остаются «вольные художники» из цирка Слири, находящиеся на периферии повествования, но играющие важную роль в образной системе романа. К цирку, театру и народному балагану, как мы знаем, Диккенс питал большую симпатию всегда. И теперь автор не жалеет доброго юмора (хотя его не видят некоторые критики) для обрисовки любимых персонажей. Все работники цирка показаны чудаками, слегка странными и влюблёнными в своё дело. Жестокое Время не перемалывает их на своих бездушных станках, хотя на цирковой арене случаются свои драмы. Самая традиционная из них – это стареющий и страдающий клоун Джуп, герой, о котором мы слышим лишь со слов его дочери и его коллег. Мы узнаём, что он «оживлял представление шутками и остротами в шекспировском стиле» и выступал вместе с собакой по кличке «Весельчак» (хороший перевод английского словечка Merrylegs, что значит буквально «весёлые лапы»). Джуп под старость теряет гибкость суставов и, чувствуя свою ненужность в труппе, уходит вместе с собакой. То, что он бросил при этом свою любимую дочь, вызывает у читателей недоумение. Авторское объяснение поступка отца неубедительно: якобы он хочет, чтобы Сесси получила образование в «образцовой» школе Гредграйнда. Но ведь она могла получить его и живя с отцом. Во всяком случае, получается, что девушка из цирковой семьи как бы «заброшена» в лагерь «врагов», в семью утилитариста-пропагандиста теории факта, чтобы «изнутри» нанести удар по этим ненавистным автору взглядам. Может быть, таков был замысел писателя? Нам представляется, что это приемлемое объяснение неправдоподобной ситуации.