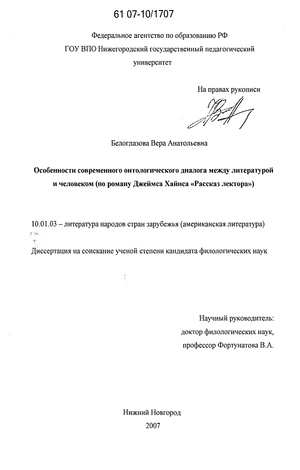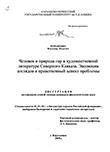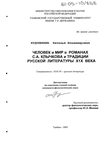Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Онтологический диалог как форма отношений между литературой и человеком 21
1.1. Эволюция представлений об отношениях между литературой и человеком 21
1.2. Основные этапы становления и развития онтологического диалога между литературой и человеком 37
1.3. «Филологический» роман как форма осмысления литературной реальности 59
Глава вторая. Современные онтологические вопросы и их отражение в романе «Рассказ лектора» 70
2.1. Власть литературы как онтологическая проблема современного человека 71
2.2. Тело как категория актуального мира 81
Глава третья. Жанровые традиции в «Рассказе лектора» 109
3.1. «Рассказ лектора» как «филологический» роман 109
3.2. Традиции жанра воспитательного романа в «Рассказе лектора» 120
3.3. Готические тенденции в творчестве Дж. Хайнса 139
Глава четвертая. Классика как культурно-художественный императив в романе «Рассказ лектора» 155
4.1. Шекспировские образы и их функции в романе 155
4.2. Интерпретация идей Аристотеля в границах постструктурализма 181
Заключение 189
Библиография 195
- Эволюция представлений об отношениях между литературой и человеком
- Власть литературы как онтологическая проблема современного человека
- «Рассказ лектора» как «филологический» роман
Введение к работе
В настоящее время человек обладает богатейшим литературным наследием, накопление которого происходило на протяжении многих столетий. Произведения античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, XX в. - весь этот объемный пласт литературы оказывается сегодня в распоряжении читателя.
Литературные вкусы людей создают, на первый взгляд, невероятную «пестроту» читательской аудитории: любитель классики свысока оценивает массовую литературу, а человек, получающий удовольствие от детективов в мягкой обложке, не понимает «заумных» произведений модернизма.
Как следствие, современных читателей можно разделить на довольно значительное количество групп, положив в основу такого деления литературные предпочтения людей с точки зрения эпохи, жанра, художественного направления и так далее. Однако их можно разделить и по другому принципу, выбрав в качестве критерия цель их чтения, и тогда групп получится только две: читатели, ориентированные на событийную сторону произведения, и читатели, ориентированные на художественный пласт. Очевидно, что человек, с одинаковым удовольствием читающий классику и любовные романы, ищет для себя в литературе сюжетные перипетии. Если же читатель ориентирован на художественное, то он будет выбирать книги, в которых его привлечет стиль, форма, - и это может быть как античная трагедия, так и роман А. Роб-Грийе. Отказ от того или иного произведения будет происходить в первом случае по принципу «интересно - неинтересно», во втором - «нравится - не нравится».
Такое различие при подходе к произведению является следствием процессов, происходящих в самой литературе.
Искусство возникает в результате потребности человека в эстетическом осмыслении окружающего мира, и оно всегда мыслилось как особая реальность, способная оказывать воздействие на объективную действительность. Изначально искусство призвано было выполнять магические функции и помогать людям жить в мире, полном опасностей; все изображенное воспринималось как реально существующее, слово наделялось сакральным смыслом.
По мере обретения человеком новых знаний о действительности и самом себе искусство «лишается» своих магических свойств, однако продолжает осознаваться как реальность, существующая «автономно» от человека, в том числе и от художника, - такое отношение к искусству отражается, например, в древнегреческом мифе о Пигмалионе.
Известно много высказываний знаменитых художников, на основании которых можно сделать вывод о том, что произведение способно к материализации заложенных в нем идей, а персонажи нередко «выходят» из-под воли творца и «живут» собственной жизнью. Например, Л.Н. Толстой во время работы над романом «Анна Каренина» пишет Н.Н. Страхову: «Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо...»1. Так же «самостоятельно» выходит замуж пушкинская Татьяна («Евгений Онегин» А.С. Пушкина). По свидетельству Дж. Вазари, к такому эффекту, свидетельствующему о правдоподобии образа, стремился знаменитый скульптор Донателло, который обращался к своей статуе Аввакума как к живому существу с требованием «заговорить»2.
Отражательная способность искусства обладает, таким образом, созидательным началом, и мы можем говорить в буквальном, а не метафорическом смысле о реальностях, созданных Леонардо да Винчи, А.С. Пушкиным, И.В. Гете, И.С. Бахом и другими великими творцами.
Например, мир, сотворенный У. Шекспиром, характеризуется, в первую очередь, мощными и многогранными характерами, движущей силой которых являются Страсти с заглавной буквы: «Они герои не в том смысле, в каком теперь пользуются этим словом для обозначения центральных персонажей произведения, а герои в самом подлинном смысле. Их отличает удивительная мощь. Их ум, страсть, энергия поистине титаничны» .
Такая реальность начинает обладать собственным бытием, влиять на произведения искусства, вызывать у человека стремление к ее осмыслению. Она предстает настолько «ощутимой», что может быть воссоздана другим автором и быть узнанной читателем.
Художественная реальность способна помочь человеку ориентироваться в объективном, окружающем его мире, ответить на вопросы реципиента о смысле бытия, истине, вечных ценностях - и именно в этом мы привыкли видеть воспитательный потенциал искусства. Особенно важной представляется в развитии личности роль литературы, поскольку «инструмент» последней -слово, участвующее в процессах мышления. Герои произведений «узнаются» нами в действительности, формируют наши представления о добре и зле, предлагают решения тех или иных жизненно важных проблем. Человек вступает в вопросно-ответный диалог с литературой, который является гносеологическим по своей сути, потому что с его помощью происходит познание читателем мира и своего места в нем.
На гносисе базируется литература, созданная во временном промежутке «античность - последняя треть XIX в.», которую мы традиционно называем «классической». Обладая высочайшей эстетической ценностью, она одновременно направлена на решение этических вопросов: в произведении герой и описываемые события рассматриваются с точки зрения их соответствия или несоответствия высшим и вечным законам. Словесное искусство оказывается посредником между человеком и ноуменальной реальностью, трансцендентным, абсолютом.
Классическая литература, история которой измеряется столетиями, не могла не оказать влияния на человека - она сформировала своего читателя, ждущего от нее назидания, совета, указания, а также своего автора, апеллирующего к ноуменальной сфере бытия. Писатель при этом ставился в «положение пророка», у которого читатель спрашивал «какие-то экзистенциальные вещи, например, есть ли Бог»1.
Однако такие диалогические отношения не являются статичными: они модифицируются в процессе изменения как самой литературы, так и человека. В результате с последней трети XIX в. происходит раскол между участниками литературного процесса: читатель нередко перестает понимать, о чем говорит ему автор: «публика ... сбита с толку и не знает уже, как быть дальше...»2. Возникает некая новая литература, которая устанавливает иную форму отношений с человеком, и если читателю не удается изменить перспективу своего зрения, то диалог не может состояться.
Причиной преобразования традиционного гносеологического диалога становится, во-первых, изменение отношения человека к самому себе и его взглядов на собственную сущность. Так или иначе, но до последней трети XIX в. в границы осмысления литературы и философии попадала, в целом, духовная сторона жизни людей. Тело, пол, раса, социальный статус, власть, страх как неотъемлемые стороны бытия рассматривались в их отношении к человеку, должному соответствовать своему высшему назначению - будь то вечная жизнь или построение идеального, гармоничного общества. В прошлом столетии эти аспекты человеческой природы стали восприниматься как бытийные категории, что нашло отражение в художественных произведениях и оказалось непонятным читателю, ориентированному на классическую литературу.
Во-вторых, возникает литературам реальность. Мир, создаваемый классиком, буквально ощутим, его можно охарактеризовать в категориях объективной действительности, каким бы фантастическим он ни был, потому что художник отражает реальность, конкретную ситуацию. Что касается литературной реальности, то она представляет собой интеллектуальное построение, ее появление становится возможным только тогда, когда человек переходит на новый, «третичный» уровень осмысления и познает созданное им культурное, в том числе и литературное, наследие. Бытие человека оказывается пропущенным сквозь призму литературы.
В результате возникает новая форма отношений между человеком и словесным искусством - онтологический диалог, предметом которого становятся бытийные вопросы современности, обретшие актуальность в результате изменения мировосприятия человека в XX в., в их литературном преломлении. Гносис уступает место онтосу, сущему, «безразличному» к таким понятиям, как «истинность», «ценность», «достоверность», а представляющему собой бытие как оно есть, во всей полноте его проявлений. Литературная реальность также является аспектом человеческого бытия, она становится новым видом действительности, поэтому осмысление ее законов и особенностей оказывается центральной темой словесного искусства.
Онтологический диалог не касается ноуменальной реальности, он происходит в плоскости, которую можно обозначить как «здесь и сейчас». При таком подходе литература лишается своей воспитательной направленности, поскольку учить можно только при четком осознании идеала, абсолюта, к которому нужно стремиться, несмотря на его принципиальную недостижимость.
Следует отметить, что далеко не вся литература XX в. вступает с человеком в онтологический диалог. Например, произведения соцреализма базируются на мимесисе и гносисе, то есть продолжают традиционный путь словесного искусства. Как ни парадоксально, но в этом же направлении движется и массовая литература, ориентированная на событийное.
Онтологический диалог существенно влияет на всех участников литературного процесса: автора, читателя, отраженную реальность, произведение; он рождает особую поэтику. Важным результатом новых отношений между словесным искусством и человеком становится возникновение жанра «филологического» романа, в котором с помощью литературы онтологизируются проблемы актуальной современности.
В романе современного американского писателя Джеймса Хайнса «Рассказ лектора» («The Lecturer s Tale», 2001) онтологический диалог как форма отношений между литературой и человеком представлен в полной мере, что обуславливает обращение к этому произведению как предмету исследования. Писатель поднимает в романе вопросы бытия человека рубежа XX - XXI вв., и центральное место в «Рассказе лектора» занимает литература, обретшая в прошлом столетии статус онтологической проблемы.
Джеймс Хайнс родился в 1955 г. в США. Благодаря многоаспектное™ своей личности и разнообразию занятий он приобрел опыт преподавания, рецензирования, всегда находился в «эпицентре» культурных событий, что нашло отражение в его книгах.
Первые попытки написания художественных произведений Дж. Хайнс начал делать еще в 17 - 18-летнем возрасте, когда он присылал свои произведения в издание «The New YorkeD). Однако сразу «стать Джоном Апдайком» не получилось: все присланное Дж. Хайнсом высылалось ему обратно. В 22 - 23 года будущий писатель решил возобновить свои литературные опыты и начал сочинять «полуавтобиографический» роман о молодом человеке из провинции, о его взрослении, творческом и сексуальном пробуждении - иными словами, как скажет позднее сам Дж. Хайнс, роман, который сочиняет каждый молодой писатель. Критично оценив собственные усилия, затраченные на произведение в течение пяти лет («It was a really long, painstakingly detailed, and ultimately incredibly boring novel...»1), американский художник впоследствии иронично отразит этот период своей литературной биографии в «Рассказе лектора» (такой же юношеский роман будет сочинять главный герой Нельсон Гумбольдт).
В 28 лет, пережив любовное разочарование, Дж. Хайнс решает отправиться в Великобританию, где становится свидетелем социальных потрясений, происходящих в Северной Ирландии: «...I was 28 and young and stupid and thought that I wouldn t get hurt, Г decided to go to Northern Ireland and see what was going on». Пробыв в Ирландии около двух недель, Дж. Хайнс возвращается на родину с намерением написать в течение года коммерческий роман, чтобы получить деньги и вернуться к своему первому произведению о взрослеющем провинциале. Однако «The Wild Colonial Boy» получился гораздо серьезнее, чем изначально задумывался автором. Главным героем романа становится молодой американец по имени Брайан Донован (Brian Donovan), который оказывается вовлеченным в события, происходящие в 80-е гг. в Великобритании. Его участие заканчивается трагически - герой становится причастным к взрыву бомбы в переполненном Британском музее. Именно эта книга, вышедшая в свет в 1990 г., приносит Дж. Хайнсу известность и внимание литературных журналов. Однако к политике писатель больше не обращается: «...once I finished the book, I lost all interest in the politics» .
Следующий этап в творчестве художника характеризуется вниманием к академической среде. Эта сфера была знакома ему не понаслышке: отец Дж. Хайнса, Глендон Хайнс, был преподавателем колледжа (сразу отметим, что той же профессией писатель наделяет отца своего героя Гумбольдта). Кроме того, сам Дж. Хайнс преподает так называемое писательское мастерство (creative writing) в разных вузах Штатов (University of Michigan, Miami University, University of Texas, Austin) и получает от этой деятельности искреннее удовольствие1. Именно поэтому в произведениях Дж. Хайнса нет героев, занимающихся данной работой. Он пишет только о профессорах и с большим сочувствием относится к героям-писателям, сатирически изображенным в других «университетских» романах, например, в «Голубом ангеле» Ф. Проуз. По словам Дж. Хайнса, у него весьма сложные отношения с академической средой - отношения «любви-ненависти» («love-hate relationship» ), вызванные неприятием тех отрицательных моментов, которые он видит в университете.
Первой книгой писателя о проблемах современного университета становится сборник новелл «Издай и умри» («Publish and Perish: Three Tales of Tenure and Horror»), вышедший в свет в 1997 г. Сборник также привлекает внимание критики, рецензии на него появляются в таких изданиях, как «New York Times Book Review», «Publishers Weekly», «Washington Post», «Kirkus Reviews». Особенность книги Дж. Хайнса - синтез «университетской» прозы и «ужасов» (horror). В 2006 г. сборник «Издай и умри» был переведен на русский язык С. Минкиным. Более подробно на этом произведении мы остановимся в основной части диссертационного исследования, но сразу отметим, что автор «Издай и умри» ведет с читателем традиционный гносеологический диалог. В новеллах четко расставлены этические акценты, герои, ведущие «неправильный» образ жизни, довольно сурово наказаны - безумием, разрушением карьеры или смертью.
Практически сразу же после издания сборника Дж. Хайнс начинает писать роман «Kings of Infinite Space», но работа над этой книгой на некоторое время была прервана, потому что у писателя возник замысел следующего романа - «Рассказ лектора» («The Lecturer s Tale»), который будет издан в 2001 г. и принесет писателю успех не только в США, но и в России (недаром сначала в нашей стране переводится именно «Рассказ лектора» и только спустя три года - «Издай и умри»). Роман вызвал положительные отклики в критике, однако некоторые рецензенты отметили «безжизненность» характеров произведения3.
Эта особенность не представляется нам «недоработкой» писателя, она обусловлена установкой Затора щ ОНТРДЩ-ичщсий диалог с читателем,. произнес і 1 ощущение, что только что произнесенные слова являются цитатой из какого-то 7г \Ы гш- і J направленность словесного искусства XX столетия. Американский писатель рассматривает действительность, пропущенную сквозь призму устоявшихся смыслов, то есть «искаженную» человеческим интеллектом, в том числе и литературой. В результате в «Рассказе лектора» происходит наложение онтологических плоскостей словесного искусства и человека. Все бытийные вопросы даются в романе в литературном преломлении, о чем мы подробно будем говорить в основной части диссертации.
В «Рассказе лектора» нашли отражение и развитие темы, идеи и образы, разработанные писателем в новеллистическом сборнике «Издай и умри». На страницы романа переносится интеллектуально-напряженная атмосфера Мидвеста, преподаватели которого сосредоточены на проблемах тендера, расы, на противостоянии традиционной и постмодернистской культуры. Мортон Вейссман, герой «Рассказа лектора», категоричностью суждений, беспринципностью, научной и моральной нечистоплотностью очень похож на Виктора Карсвелла, профессора из новеллы «Расклад рун», только окончательно лишившегося какой бы то ни было силы. Постмодернист Грегори Эйк, заживо замурованный во время обряда в новелле «Девяносто девять», «воскресает» и процветает в «Рассказе лектора» в образе Антони Акулло, напротив, обретшего силу и вес в академических кругах. Интересное развитие получает образ Виты Деонне, эпизодического персонажа новеллы «Расклад рун». В романе Вита становится героем первого плана, ее образ обретает необыкновенную сложность и глубину: из заикающейся, робеющей, несимпатичной девушки, зацикленной на проблемах пола, она превращается в «Рассказе лектора» в «истерийное» тело1 - характерную патологическую фигуру эпохи постмодернизма.
Последний роман писателя, изданный за рубежом, но пока не переведенный у нас, - «Kings of Infinite Space» (2004), действие которого происходит в государственном учреждении. Герой произведения, Пол, «приходит» в роман из новеллы «Царица Джунглей» (сборник «Издай и умри»). Дж. Хайнс объясняет это тем, что ему нужен был персонаж, впервые оказавшийся погруженным в жизнь офиса, пришедший в нее из академической среды: «I needed a character who was a fish out of water, a guy who d been in academia. I didn t want to make it myself. And it just occurred to me: «Wait a minute, I got somebody. I got a washed-up academic I can use. I got Paul. His career s over»1. Покинутого женой Пола, вынужденного работать в офисе, преследуют неизвестные люди, убитая им в «Царице Джунглей» кошка Шарлотта, он не понимает причин весьма странных происшествий в учреждении, в котором люди боятся оставаться после наступления темноты.
На возникновение замысла произведения повлияла непродолжительная работа Дж. Хайнса в одном из американских офисов, и заведение с «душной» атмосферой под воздействием творческого воображения художника преобразуется в мир, полный бессмыслицы и абсурда.
В данный момент Дж. Хайнс работает над созданием нового произведения, о котором он пока говорит лишь то, что роман не будет «университетским», хотя описываемые события происходят в кампусе: «The main character is a staff worker at a university, but he s not an academic himself. But it s not about academia. That s all I can say about it. I m really superstitious about that stuff»2.
Дж. Хайнс известен в США не только как писатель, но и как литературный и телевизионный критик. Он работал в изданиях «The Michigan Voice», «Mother Jones», «In These Times», «Boston Review». Начинал Дж. Хайнс как ТВ-критик, причем писал в свое время и о сериале «Hill Street Blues», и о клипе Мадонны «Material Girl».
Среди литературных имен, к которым он обращался, можно назвать П. Баркер, Р. Томсона, Дж. Кроули, Ф. Рота, Дж.М. Кутзее. Внимание Дж. Хайнса привлекают художники, умеющие «играть стилем», обладающие высоким уровнем литературной эрудиции. Его интерес вызывает использование писателем гротеска, элементов готического романа, сюрреалистическое мировосприятие художника. Все это, по мнению Дж. Хайнса, делает чтение захватывающе-веселым, «забавным» («fun»)1. Выделяемые им особенности используются американским писателем в его собственных произведениях.
Степень научной разработанности проблемы
Проблема отношений между литературой и человеком волновала еще Аристотеля. На основании высказанных им в трактате «Поэтика» идей рождается мысль о подражательной природе искусства и его воспитательной направленности.
В процессе развития литературы в ней возникают новые тенденции, влияющие на форму ее отношений с человеком, что не остается незамеченным исследователями словесного искусства, многие из которых сами были художниками. О сущности литературы, о не сводимости ее целей к подражанию много говорили романтики - Г. Гейне, СТ. Кольридж, А.В. Шлегель. Эстетическое удовольствие, вызываемое произведением искусства, стало объектом пристального наблюдения писателя Г. Флобера, в процессе своего творчества оттачивавшего технику повествования, доводившего литературное сочинение до совершенства.
Особую актуальность тема отношений между словесным искусством и человеком обрела в последней трети XIX - XX столетиях, когда стало очевидно, что многие читатели перестали понимать, о чем говорит литература, которая обрела особую «активность» в процессе самопознания и рефлексии над внутренними процессами. Литературоведы, лингвисты, семиотики, философы, обратившиеся к анализу этой особенности, стали находить ее проявления и в литературе более ранних периодов. Так появился целый ряд исследований, представленных именами русских формалистов (В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, P.O. Якобсон), X. Ортеги-и-Гассета, Р. Барта, М. Фуко, Л. Хатчин, П. Во, М.Н. Эпштейна, Д.В. Затонского, В.И. Новикова и других. Эти ученые анализировали то или иное явление литературы с точки зрения ее саморефлективных свойств: метапрозу, форму романов Г. Флобера, элитарную замкнутость на себе произведений модернизма, литературную игру постмодернизма, жанровые особенности «филологического» романа.
Одновременно в XX столетии возникает новый взгляд на человека, который нашел отражение в работах таких философов, как Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, Ж.-Л. Нанси, В. А. По дорога.
Изучением бытийной проблематики в художественных произведениях занимаются М.Б. Ямпольский, М.Н. Эпштейн, Л. Юргенсон, В.Н. Курицын, исследования которых проводятся «на стыке» литературоведения, философии, культурологии.
Что касается творчества Дж. Хайнса, то в настоящий момент оно не изучено ни в отечественном, ни в зарубежном литературоведении. Его произведениям посвящены только немногочисленные рецензии, касающиеся исключительно их содержания. Биографические сведения о писателе можно почерпнуть из весьма ограниченного числа авторских интервью.
В настоящий момент на русский язык переведены только две из четырех книг американского писателя; литературно-критические статьи Дж. Хайнса широкому кругу отечественных читателей не знакомы.
Творчество Дж. Хайнса не включено в университетскую программу по изучению истории зарубежной литературы.
Предмет исследования - роман современного американского писателя Джеймса Хайнса «Рассказ лектора» («The Lecturer s Tale», 2001).
Объект исследования - литературные приемы, способы повествования, жанры, образы, проблемы, способствующие возникновению онтологического диалога как формы отношений между словесным искусством и человеком.
Цель диссертационного исследования: рассмотреть особенности онтологического диалога между литературой и человеком, проанализировать его влияние на поэтику и проблематику современного художественного произведения - романа Дж. Хайнса «Рассказ лектора».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
выявить внутри- и внелитературные причины возникновения онтологического диалога, проанализировать их художественную интерпретацию в произведениях XX - XXI вв.;
определить, как эволюционируют взгляды исследователей на проблему отношений между литературой и человеком, как поднимаемые ими вопросы воздействуют на поэтику и проблематику «Рассказа лектора»; исследовать становление литературной реальности как особой сферы бытия человека, рассмотреть, как происходит ее осмысление в романе; изучить жанровые особенности «филологического» романа, проследить их отражение в «Рассказе лектора»;
проанализировать роман Дж. Хайнса «Рассказ лектора» как произведение, ориентированное на онтологический диалог с читателем.
Научная новизна исследования обусловлена прежде всего тем, что творчество Дж. Хайнса не изучено ни в России, ни за рубежом. В настоящей работе предпринята попытка определения места романа «Рассказ лектора» в общем современном литературном контексте.
Роман Дж. Хайнса интересен тем, что он выявляет модификацию отношений между словесным искусством и человеком в XX в. Кроме того, это произведение создано в жанре «филологического» романа, не вполне отрефлексированном в наши дни.
Интересным и научно-обоснованным представляется изучение литературы как объекта художественного видения писателя рубежа XX - XXI вв., что определяет специфику исследовательского ракурса.
В диссертации акцент делается на обращении словесного искусства к осмыслению собственных внутренних процессов и на проникновении онтологических вопросов современного бытия человека в художественное пространство литературы, что оказывает существенное влияние на поэтику произведения.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
онтологический диалог - это форма отношений между литературой и человеком, позволяющая воспринимать литературный пласт произведения как самостоятельный художественный образ модернистской и постмодернистской реальности, воплощающий комплекс важнейших проблем бытия;
в романе Дж. Хайнса онтологический статус обретают проблемы, связанные с телом, полом, властью, интеллектом и «бытием» самой литературы;
жанр «филологического» романа, в традициях которого создано исследуемое произведение «Рассказ лектора», обладает особым типом героя и сюжетных коллизий;
литература становится «действующим лицом», что модифицирует классический характер, систему образов, проблематику, жанровые особенности произведений XX - XXI вв.;
в романе Дж. Хайнса «Рассказ лектора» находят художественное отражение основные тенденции развития англоязычной литературы второй половины XX в.
Методологической основой исследования стала совокупность ряда аналитических приемов и подходов:
эволюционного подхода, рассматривающего особенности отношений между литературой и человеком разных культурно-исторических периодов;
структурно-семантического направления, изучающего знаковую природу словесного искусства;
сравнительно-исторического подхода, способствующего проведению параллелей между исследуемым романом и произведениями других эпох, в которых представлена онтологическая проблематика; литературоведческих методов интерпретации художественного текста; культурологической методики, позволяющей выявлять актуальные проблемы современной культуры в анализируемом произведении.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней дается терминологическое обозначение явлений, характеризующих современный литературный процесс, делается попытка расширения горизонтов интерпретации художественных произведений XX - XXI вв., определяются жанровые черты «филологического» романа.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы могут быть использованы при подготовке спецкурсов, спецсеминаров, положены в основу лекций по истории современной зарубежной литературы. Материалы исследования могут быть практически востребованы при освоении понятий литературоведческого аппарата, отражающих явления современной литературной и культурной действительности.
Апробация работы
Различные аспекты проблематики диссертации были положены в основу докладов, прочитанных на научных конференциях:
«Рассказ лектора» Джеймса Хайнса как «филологический» роман» (IX Нижегородская сессия молодых ученых, Нижний Новгород, 19-23 октября 2004 года);
«Средний» муть как идеал и заблуждение современного интеллектуала (по роману Дж. Хайнса «Рассказ лектора»)» (XVII Пуришевские чтения: «Путешествовать - значит жить» (Х.К. Андерсен). Концепт странствия в мировой литературе», Москва, 4-8 апреля 2005 года); «Проблема социализации женщины от времен Добролюбова до наших дней: поиски путей в XIX - XXI веках» (Всероссийская научная конференция «Социальное творчество и культурные коммуникации в прошлом и настоящем. Творчество Н.А. Добролюбова и его современников», Нижний Новгород, февраль 2005 года); «Провинциальное мышление постмодернизма» (Международная научная конференция «Жизнь провинции как феномен духовности», Нижний Новгород, апрель 2005 года);
Постмодернизм: провинциализм или глобализация (по роману Дж. Хайнса «Рассказ лектора»)?» (III Межрегиональная научная конференция «Глобализация, политика, право», Нижний Новгород, 19 мая 2005 года); «Феномен тела в контексте постмодернизма (по роману Дж. Хайнса «Рассказ лектора»)» (X Нижегородская сессия молодых ученых, Нижний Новгород, 20 - 24 октября 2005 года);
«Культурная коммуникация как основа развития сюжетной идеи в романе Дж. Хайнса «Рассказ лектора» (Международная научная конференция «Лингвистические основы межкультурной коммуникации», Нижний Новгород, 1 - 2 декабря 2005 года);
«Постмодернизм в свете христианских ценностей» (XV Рождественские православно-философские чтения, Нижний Новгород, январь 2006 года); «Новая» литература на рубеже XX - XXI вв. (по роману Дж. Хайнса «Рассказ лектора)» (IV межвузовская научно-практической конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Студенческий гений 2006», Нижний Новгород, 18 мая 2006 года).
Отдельные положения работы обсуждались на кафедре культурологии, аспирантском методологическом семинаре на кафедре всемирной литературы Нижегородского государственного педагогического университета.
По проблеме диссертационного исследования были прочитаны лекции, проведены семинары, подготовлены научные доклады.
Различные аспекты проблематики диссертации отражены в 14 публикациях.
Структура работы:
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии, насчитывающей 320 наименования на русском и английском языках.
Эволюция представлений об отношениях между литературой и человеком
Размышления об особенностях взаимодействия человека с созданным им словесным искусством начались еще со времен античности. В «Поэтике» Аристотеля представлены все актуальные в данной области вопросы, и точка зрения, предложенная древнегреческим мыслителем, в течение нескольких веков не подвергалась переосмыслению, поскольку базировалась на специфических особенностях словесного искусства, сущность которого на протяжении весьма продолжительного периода оставалась неизменной.
Литература, созданная во временном промежутке «античность - середина XVIII в.», задумывается и прочитывается как подражание природе, как то, что было или могло бы быть, как отражение объективной действительности. Отношения между словесным искусством и реальностью определяются через понятие, предложенное Аристотелем, - «мимесис», традиционно переводимое до середины XX в. как «подражание». На первом месте стояло содержание, смысл, а форма была способом его выражения - так, в трактате подчеркивается, что «поэту следует быть больше творцом фабул, чем метров»1. Серьезное внимание уделялось воспитательной направленности художественных произведений, на чем древнегреческий мыслитель также делает акцент в «Поэтике»2.
Ситуация меняется к XVIII столетию: из средства выражения истины, авторского мировоззрения, подражания природе литература превращается в цель. Автор хочет выразить некую идею, он черпает предметы и образы из действительности, но при этом всегда помнит, что создает художественное произведение, ценность которого заключена в нем самом: главным становится представление о том, что литература должна нравиться3. Переосмысления мимесиса здесь не происходит, литературе не отказывается в способности подражать природе, но при определении этого вида искусства наблюдается смещение акцентов. Внимание начинает уделяться эстетическому впечатлению, производимому литературой, и это послужило толчком к осознанию и постижению формы произведений как автором, так и читателем.
Можно отметить, что уже в XVII в. начинает осознаваться «рукотворность», условность литературы, следствием чего становится нормативная эстетика классицизма, определяющая жесткие правила создания произведения. Провозглашая ренессанс традиций, художники переносили в словесное и сценическое искусство своей эпохи многие принципы, которые во времена античности были не столько обязательными правилами, сколько следствием технического обеспечения театра того периода, что обуславливало специфику организации пространства сцены и постановочного действия. Использование естественных для античного театра принципов в XVII в. создавало ярко выраженную условность постановки и произведения.
В XVII в. в понятие «подражание» начинают вноситься «различные поправки», цель которых - сделать его «практически пригодным»1, а в «Поэтическом искусстве» Н. Буало, несмотря на теоретическое постулирование рациональности, целесообразности и правдоподобия литературы, много внимания уделяется также эстетической привлекательности произведения: «Своим читателям понравиться старайтесь. / О ритме помните, с размера не сбивайтесь; / На полустишия делите так ваш стих, / Чтоб смысл цезурою подчеркивался в них»2.
В конце XVIII столетия понимание литературы как цели в себе было доведено до некоего предела романтиками, выдвинувшими принцип «искусства для искусства», отделившими его от повседневной действительности и рассматривавшими как единственное подлинное бытие: «...искусству действительно присущ определенный элемент подражательности, но это еще не делает его прекрасным искусством. ...
Власть литературы как онтологическая проблема современного человека
Со времен античности классические подходы к власти относят ее к сфере взаимодействия людей в обществе; стремление к господству расценивается как осознанное желание человека.
С последней трети XIX в. возникают философские концепции, которые характеризуются рассмотрением власти в более широких контекстах, выявлением форм и методов принуждения, осуществляемых вне сознания индивидов. Например, по Ф. Ницше, которого можно назвать основоположником одного из подходов, безличная «воля к власти» лежит в основе существования, свойственна любому становлению и характерна не только для человека, но даже для неорганической природы, причем познание мира, то есть «воля к истине», представляет собой одну из форм проявления «воли к власти»1.
Идеи Ф. Ницше были восприняты и получили свое развитие в философии XX в. Так, М. Фуко уделил серьезное внимание вопросу соотношения «власть - знание», исследовал вездесущность власти, обнаруживающей себя уже на уровне обыденного, повседневного (желание, знание, тело, исповедь, медицина, учеба)2.
Р. Барт говорит о власти, лежащей в самом начале языка, который традиционно считается нейтральным средством коммуникации. По мнению французского семиолога, язык обладает социальной действенностью. Индивид, использующий язык, обязан выбирать тот или иной род, ту или иную форму местоимения, а когда человек говорит, то он, считает Р. Барт, не вступает в коммуникативный акт, а подчиняет себе слушающего1.
Весьма радикально подходят к осмыслению власти Ж. Делез и Ф. Гваттари, проясняющие ее бытийные аспекты через образы «власти ткани», «власти организма»2.
Власть инстинктов, власть отца, власть Другого - все эти проявления «неклассической» власти стали сегодня для нас понятными и привычными, были осмыслены в философии, психологии, семиологии, социологии, художественной литературе.
Со второй половины прошлого века исследователи стали активно рассуждать о власти литературы, в подчинении у которой оказывается каждый человек, потому что пространство литературы «захватило» в свою сферу весь мир. Ее влияние также осуществляется помимо сознания индивида, литература определяет ценности человека, формирует ту или иную манеру поведения, речи, определяет идеалы и прочее. При этом сам человек при совершении определенного поступка может не подозревать, что его решение было обусловлено, например, прочитанной в детстве книгой.
Если произведения постмодернизма демонстрируют проявление этой власти всей художественной тканью повествования, то Дж. Хайнс иронизирует, осмысляя власть литературы «сознательно», на уровне сюжета и образов.
В известной работе М. Фуко «Надзирать и наказывать» анализируются эволюция форм власти, рождение тюрьмы, возникновение идеальной для современного нам общества техники контроля над каждым индивидом. Дж. Хайнс использует выводы, сделанные французским исследователем, вводит их в художественную канву романа, тем самым демонстрируя нам силу, власть, приобретенную литературой, способность ее к подчинению людей, профессионально занимающихся ее изучением.
Ученые-литературоведы оказываются в «Рассказе лектора» живущими в условиях наиболее развитой и эффективной, с точки зрения надзора, тюрьмы -Паноптикона, но одновременно Дж. Хайнс вводит в роман и нечто новое для современных условий: он показывает, что литература обретает не просто идеологическую, интеллектуальную, но физическую власть над человеком -власть монарха, казнящего и пытающего тело подданного. Благодаря этому автор еще ярче акцентирует подчиненность человека литературе. Утрирование мыслей М. Фуко, доведение их до крайности, абсолюта, «материального» воплощения в сюжете «Рассказа лектора» подчеркивает иронию Дж. Хайнса по отношению к литературоведению и литературоведам, «доведшим» литературу до жажды мести.
Рассмотрим, каким образом осуществляет свой надзор и наказание над героями литература в «Рассказе лектора».
Сравним организацию пространства кампуса, представленного в романе Дж. Хайнса, и архитектурную композицию Паноптикона, модели тюрьмы, проанализированной М. Фуко.
Университетский городок, в котором происходит практически все действие «Рассказа лектора», имеет четко выраженный центр - старое здание библиотеки, часовую башню, выполняющую, на первый взгляд, «официально-брендовую» функцию: «Основные фонды библиотеки перевели в новое подземное хранилище ... . Старое ... здание не снесли только потому, что оно по-прежнему бережно сохранялось на майках, университетских бланках, вебсайте и в сердцах преуспевающих выпускников...». Вид на библиотеку открывается из любой точки университета: «Часовая башня Торнфильдской библиотеки вздымалась [«rose»] над голыми сучьями...»; «Миранда впустила Нельсона к кабинет Антони. ... За окном он видел башню Торнфильдской библиотеки, освещенную снизу огнями книгохранилища...»1.
«Рассказ лектора» как «филологический» роман
Жанровую принадлежность «Рассказа лектора» Дж. Хайнса мы определяем как «филологический» роман. В параграфе 1.3 мы обозначили основные признаки этого жанра.
В этом же разделе диссертации мы отметили, что у «филологического» романа есть тематический субжанр - «университетско-филологический» роман, в котором традиции «университетской» прозы пропущены сквозь призму литературной реальности.
В диссертации мы не будем отдельно останавливаться на чертах «университетского» романа в «Рассказе лектора», а рассмотрим их в контексте «филологического» романа. Отметим только, что Дж. Хайнсу удается создать «классическое» произведение «университетского» типа, несмотря на то, что по сам писатель к этому не стремился. Об этом свидетельствует тот факт, что Дж. Хайнс сознательно не читал произведений, созданных в этом жанре, во время написания «Рассказа лектора». Его знакомство с «университетской» прозой ограничивалось к тому моменту произведениями «Академический обмен» и «Хорошая работа» Д. Лоджа, которые Дж. Хайнс читал много ранее: «When I was at the Writers Workshop at Iowa, I read a couple of David Lodge novels. ... And then I didn t read any academic satire for a long time. Then when I realized I was writing them, I made a conscious decision not to read any of them. ... So Гт sure there s some David Lodge in my book, but it was like six or seven years between the time I actually read one of his books and when I actually sat down and tried to write an academic satire»1.
Действие «Рассказа лектора» происходит в кампусе, на филологическом факультете университета Мидвеста, и практически не выходит за его пределы, за исключением главы 2, рассказывающей о детстве, отрочестве и юности Нельсона Гумбольдта. Кампус оказывается организованным по законам литературной реальности, в которой словесное искусство перестает быть «продуктом» интеллектуально-творческих усилий человека и обретает собственное «бытие».
В «Рассказе лектора» этот момент онтологизации литературы абсолютизируется, и словесное искусство становится персонажем романа.
Выведение идеи на первый план художественного произведения представляет собой характерное явление для литературы XX в., например, для интеллектуального реализма. Что касается модернизма и постмодернизма, то эти они в принципе отличаются своей «головной» природой, в них очевиден «чистый интеллект, наслаждающийся своим бытием»2. Это связано с онтологизацией в прошлом столетии интеллекта человека.
В «Рассказе лектора» такой идеей, на которой центрировано повествование и которая обретает персонажность, становится литература.
В романе Дж. Хайнса сильны готические традиции, о чем речь пойдет в параграфе 3.3, и в такой готической ипостаси выступает литература в «Рассказе лектора» - это призрак Торнфильдской библиотеки, исполненный жаждой мщения. Он имеет свою историю (призрак возник в результате «убийства» литературы литературоведением), свой облик - фигура без лица, он входит в систему образов «Рассказа лектора» как своего рода властелин кампуса. Однако это не единственное отражение персонажности литературы.
Словесное . искусство в «Рассказе лектора» получает персонифицированное воплощение в образе Нельсона Гумбольдта. В процессе своего интеллектуального развития главный герой романа «проживает» всю историю англоязычной литературы: «Беовульф» в колыбели, «Видение о Петре Пахаре» в детской кроватке ... . В средней школе Нельсон читал Конрада и Томаса Гард и, а в старших классах ... носил при себе томик Эзры Паунда. Пробуждение сексуальности совпало у него с чтением «Улисса»...»1. С другой стороны, биография Гумбольдта сама становится иллюстрацией истории литературы: классический картезианский период сменяется растерянностью, поиском нового пути, попытками то синтезировать старое и современное, то противостоять нововведениям. Результатом таких «метаний» становится обращение Нельсона и литературы к постмодернизму с последующей переоценкой ценностей.
Словесное искусство получает и телесный облик Нельсона: голова Гумбольдта - интеллектуальные построения литературы XX в., руки -практические занятия лектора со студентами, проверка их работ, половые органы - «телесная» литература эпохи постмодернизма; классика же представлена душой, совестью Нельсона, которые по мере развития сюжета все дальше отходят на второй план, вытесняются «постмодернистским» телом.