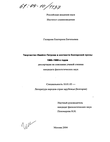Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Особенности моделирования действительности в постмодернизме
1.1. Споры о постмодернизме в отечественном и зарубежном литературоведении 31
1.2. Постмодернистская интертекстуальность 41
1.3. Диалогичность барочной и постмодернистской художественных систем 51
Глава II. Барочные черты в раннем постмодернистском романном творчестве Дж. Фаулза
II. 1. Мифопоэтические наслоения в романах Дж. Фаулза «Коллекционер» и «Волхв» 74
II.2. Образ «играющего в бога Гадеса» в раннем творчестве Дж. Фаулза 115
Глава III. Шекспировские образы в лабиринте романов Дж. Фаулза «Коллекционер» и «Волхв»
III. 1. Образы и модели ситуаций пьесы У. Шекспира «Буря» как основа раннего романного творчества Дж. Фаулза 163
III.2. Структурный лабиринт ранних романов Дж. Фаулза. Концепция метатеатра как театрализованной картины мира в романах 183
5. Заключение 209
6. Библиографический список 213
- Споры о постмодернизме в отечественном и зарубежном литературоведении
- Мифопоэтические наслоения в романах Дж. Фаулза «Коллекционер» и «Волхв»
- Образы и модели ситуаций пьесы У. Шекспира «Буря» как основа раннего романного творчества Дж. Фаулза
Введение к работе
Период английской литературы второй половины XX века в целом характеризуется постмодернистской направленностью литературно-художественного процесса. Именно с художественной системой постмодернизма чаще всего соотносят и творчество известнейшего английского романиста Дж. Фаулза (1926 - 2005). В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть специфические черты моделирования художественной действительности в его ранних романах «Коллекционер» и «Волхв» через призму пересечения в художественном пространстве указанных произведений элементов барокко и собственно постмодернизма, что, на наш взгляд, существенно обогащает и углубляет восприятие текстов английского писателя.
Проблема «причисления» к школе, творческому объединению, художественной системе того или иного писателя, как правило, не может решаться однозначно. Всякое соотнесение отдельного художественного мира к классу, категории, системе, методу предполагает известную степень допущения. Но особый интерес представляют те авторы, которых с большой долей вероятности и на достаточно веских основаниях можно причислить сразу к двум и более художественным системам. «Меня создал именно Сіучай» [258; 569], - заявит о себе Дж. Фаулз в интервью с Д. Виной. Самобытность таланта Фаулза заключается в необычной эрудиции и разносторонности его интересов в век узкой специализации; в стилевой утонченности; в специфике его повествовательной манеры, в тонком даре рисовать окружающий мир и вскрывать мельчайшие психологические нюансы переживаний героев; в его очень осторожном отношении к слогу -как Фаулз сказал в одном интервью, «он никогда не упрощает языка, ибо язык дія него священен» [60; 11].
Отличительной чертой творчества Фаулза является его постмодернистская непредсказуемость вкупе с барочной протеистичностыо, несмотря на стойкость основных тематико-структурных принципов его произведений. «Мы, писатели, просто обязаны постоянно чувствовать, что меняемся, что все вокруг нас тоже меняется с течением времени...» [258; 571]. Каждая его работа имеет внутреннюю, хотя иногда глубоко скрытую связь с предыдущими и подчинена общей логике развития его творчества; каждый последующий текст проливает новый свет на ранее им написанное. Так, к примеру, значимость и истинная цель авторского замысла первого романа «Коллекционер» раскрывается более полно и отчетливо лишь после публикации «Волхва».
Здесь уместно привести слова американского критика Б.Н. Олшена: «Для творчества Фаулза особенно характерны два необычных по сочетанию, но ярко выраженных свойства. С одной стороны, огромное стилевое и жанровое своеобразие, с другой - повторение определенных тем и концепций, определенных переживаний, основополагающих для человеческого бытия, взглядов и восприятий. Одно выражает потребность художника постоянно бросать вызов, расти и экспериментировать, в то время как второе кажется проявлением необходимости моралиста высказывать суждения и поучать» [333; 7].
Представляет известную сложность определение творческого метода Джона Фаулза, даже и раннего периода его творчества (1960 - 1970-е годы), хотя во многом проявляются объединяющие его наследие и постмодернизм тенденции. Так, романы Дж. Фаулза, как и творчество постмодернистов (У. Эко, П. Акройд, Дж. Барнс, П. Рансмайр) в целом, характеризует особое внимание к самому процессу творчества, раскрытию его механизмов. Это приводит к тому, что автор вторгается в повествование, поясняет свои намерения, рассуждает о специфике восприятия мира и его художественного отражения. Часто этот процесс становится самодовлеющим - начинает говорить само повествование. Таким образом текст как бы замыкается на самом себе.
Теоретическое исследование ткани постмодернистского текста чрезвычайно сложно, и здесь не стоит забывать, что сам Джон Фаулз настороженно относился к философии постмодернизма: «Деконструктивизм меня отталкивает» [44; 46]. Современный исследователь Джэн Релф свидетельствует, что Фаулз то и дело утверждает, что его совершенно сбивают с толку интеллектуальные игры теоретиков литературы; так, например, в статье «Франция современного писателя» он жалуется: «Я прочел, правда, далеко не все из того, что пишут Деррида, Лакан, Барт и их копеги-мэтры, и оказался совершенно сбит с толку, и скорее разочарован, чем просвещен» [215; 11].
Вопрос о принадлежности Фаулза к постмодернизму не поддается однозначной трактовке, «...фактическое время, сейчас, лишь очень редко представіяется нам респьным и важным. Что касается меня, я обычно чувствую себя разбросанным, рассеянным по разным, до нелепости бесчисленным местам одновременно. ...я должен казаться трудным в общении и слишком неопределенным. Я и сам не всегда ясно представчяю себе, где я и куда направчяюсь» [258; 121]. Говоря о постмодернизме, Фаулз не принимает его «крайностей», но считает возможным использование его интеллектуального инструментария, свободно оперируя спонтанным письмом с нюансами грамматологии Дерриды и мифологии «по Барту». При этом главное, считает автор романов «Коллекционер» и «Волхв», заключается не во владении техникой, а в самих мировоззренческих установках писателя.
Фаулз подчиняет этой цели все изящные литературные ходы в сложной игре с читателем: «Я должен использовать роман как средство выражения моих взглядов» [44; 51]. Он воплощает свою творческую мысль в целом ряде романных форм: роман социально-философский, роман-воспитание, роман-притча, сенсационный роман, психологический триллер, неоготический роман. Часто романы Фаулза представляют собой некий сплав из всех вышеперечисленных видов романного жанра, что позволяет юворить о специфическом «фаулзовском метатексте». Сам термин «метатекст» очень точно передает особенность выстраиваемого Фаулзом образа мира, отражающего, как минимум, диалог между художественными системами постмодернизма и барокко. Три концептуальных составляющих метатекста -это Автор, Текст и Читатель. Английский постмодернистский текст Джона Фаулза может быть прочитан на нескольких взаимопересекающихся уровнях, но нам важны случаи встреч и взаимодействия текстов его героев с текстом автора.
Герои произведений Дж. Фаулза являются современными людьми, которых определяет отношение к своему жизненному пути, в ходе которого они, как правило, уже не в состоянии целиком идентифицировать себя с какой-либо определенной ячейкой общества. «Свой собственный, который теперь осознается, как один из миров, а не как Мир. Вследствие этого собственное ... поведение понимается как "роль", от которой можно отдалиться в своем сознании и которую можно "разыгрывать" под манииулятивным контролем» [32; 278]. Преодоление изоляции между различными слоями внутри общества и между различными обществами способствует осознанию любой реальности как «языковой игры», что приводит к мета-позиции и осуществляемому с нее театрализованному поведению.
Современная цивилизация дает для человека все больше поводов и возможностей для того, чтобы сознательно выступать в качестве «актера». Современная литература обнажает проблему соотношения лица и маски, в романах Фаулза присутствует еще и неопределенный лик «играющего в бога». Автор сам выступает как некий бог, находящийся вне своего творения.
Американский ученый Бертон Хатлен, анализируя творчество аргентинского писателя Х.Л. Борхеса, ввел термин «метапроза» ("metafiction"): «Метапроза, согласно моему определению - есть повествование, которое заставляет нас осознать природу и значение самого процесса создания текста. Саморефлексивность делает проблематичной реальность текста, автора и читателя» [320; 133]. Метапроза делает автора и читателя героями художественного произведения, выводя их на сцену именно в качестве таковых, в процессе создания или восприятия произведения искусства. Метапрозаики не позволяют читателю выполнять пассивную роль наблюдателя их художественных представлений; они настаивают, чтобы случайность их миров была признана. Читатель должен быть, прежде всего, активен в восприятии сотворенной писателем действительности, должен учиться пониманию способа, каким все мы, все время, творим наши собственные миры.
Иное понимание метапрозы/метатекста предложено Лайонелом Абелем в работе «Метатеатр» ("Metatheatre", I960): «Только определенные пьесы говорят нам как то, что события и характеры в них - продукт вымысла драматурга, так и то, что, поскольку они существуют, они имеют основой скорее соображение драматурга, чем его наблюдение мира... Пьесы, о которых я говорю, имеют в себе нечто общее: все они представляют жизнь, понятую в качестве уже театрализованной до этого. Я имею в виду, что герои появляются на сцене в этих пьесах не просто потому, что они были схвачены драматургом в неких драматических ситуациях, как застигнутые объективом фотоаппарата, а потому что они сами осознавали свою театральность до того, как их заметил драматург. Что изначально их театрализовало? Миф, легенда, предшествующая литература, они сами...» [298; 59-60]. Абель, таким образом, относит к метатекстам не только художественные тексты о художественных текстах, но и художественные тексты о театрализации жизни, театрал и зующие тем самым как литературу, так и сам процесс театрализации обыденности. «Достаточно того, чтобы описываемая реальность представала заранее театрализованной: таковы пьесы, основную тему которых составляет метафора жизни, подобной театру (Кальдерон, Шекспир). Определенный таким образом метатеатр становится формой антитеатра, в котором стирается граница между произведением и жизнью» [198; 176]. Понятие метафикций/метатекста/метатеатра напрямую сопряжено с шровым принципом в современной литературе. Ю.М. Лотман пишет: «"Текст в тексте" - это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированное™ разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста...» [157; 13]. Такое построение текста, прежде всего, обостряет сам шроиой принцип: с позиции другого способа кодирования текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный смысл.
Выражением «текст в тексте» в театре является прием «театр в театре» (Ю.М. Лотман) - вид спектакля, сюжетом которого является представление театральной пьесы. Таким образом, внешняя публика смотрит пьесу, внутри которой публика, состоящая из актеров, также присутствует на представлении. П. Пави в «Словаре театра» свидетельствует о том, что подобная эстетика появляется уже в XVI в. «Она связана с барочным видением мира, согласно которому "мир - сцена, а все мужчины и женщины -всего лишь актеры" (Шекспир), а "жизнь есть сон" (Кальдерон). Бог -драматург, постановщик и главный исполнитель. От теологической метафоры театр в театре переходит к высшей игровой форме, когда театральная постановка намеренно представляет самое себя из склонности к иронии или к сгущенной иллюзии. Последняя достигает кульминации в театральных формах повседневной жизни: здесь уже нельзя отличить жизнь от искусства...» [198; 349].
Философское обоснование идеи театрализации искусства выдвинуто в современной философии рядом исследователей постструктуралистской ориентации (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева и другие). Именно литература как игра, согласно этой концепции служит единственным средством преодолеть однозначность смыслового прочтения произведений.
Еще одной особенностью театрализованной литературы постмодернизма является вовлечение читателя в игру по созданию смыслов. Барт пишет: «Одно дело - чтение в смысле потребления, а другое дело - игра с текстом. Слово "игра" здесь следует понимать во всей его многозначности. Иірает сам текст, и читатель тоже играет, причем двояко; он играет в Текст (как в игру), ищет такую форму практики, в которой бы он воспроизводился, но чтобы эта практика не свелась к пассивному внутреннему мимесису, он еще и играет Текст. Текст... требует от читателя деятельного сотрудничества...» [24; 422]. Моделируется особая реальность творческого мира Автора, где любое поведение является «языковой игрой». Многие образы, содержащиеся в метатексте, не имеют денотатов. Знаки без денотатов оказываются «симулякрами», которые не являются ни истинным, ни ложным: бабочка (Миранда), коллекционер (Клегг в отношении к девушкам), волхв (Кончис), морилка (комната, куда Клегг помещает Миранду).
В работе «Морфология реальности» В. Руднев проводит процедуру деконструкции различия между реальностью и вымыслом. Он выделяет три основные характеристики «реальности»: «совокупность всего, что существует», «совокупность всего, что существует независимо от человеческого сознания», «совокупность всего материального» [219; 155-159] и показывает, что ни одна из этих составляющих не пригодна для проведения различия между «реальностью» и «вымыслом». «Вымысел» может существовать независимо от сознания, быть материальным (театральное действо).
Если оценка художественного текста с точки зрения жанра в большой степени определяется авторским умением работать с соответствующими жанровыми конвенциями, то для романа подражание какому-либо образцу может оказаться просто губительным, поскольку главная задача романиста состоит в верной передаче человеческого опыта, не имеющего аналогов. Подражание становится возможно лишь в качестве элемента литературной игры с читателем, иронии, как это имело место, в частности, в романах Фаулза «Коллекционер» и «Волхв», и свойственно произведениям постмодернизма вообще. Кажущаяся бесформенность романа в противовес, скажем, трагедии или комедии, объясняется именно этим фактом.
По свидетельству Днепрова В.Д. в его работе «Черты романа XX века» и Мотылевой Т.Л. в труде «Зарубежный роман сегодня», важнейшей общей причиной разрыва романа XX в. с классической формой является признание в качестве иллюзорного и утопического того гуманистического решения нравственных проблем бытия обособленной личности, которое дал реализм. Таким образом, в XX в. роман вынужден заново решать проблему личности, устанавливая новый контакт с реальностью, что обуславливает также поиск новых форм достижения аутентичности художественного высказывания. Существенную роль в художественной организации романа XX в. играет характерный для искусства этого периода в целом принцип «разъединения элементов», в соответствии с которым повествовательное развертывание художественного мира становится «прерывистым», лишенным органической плавности переходов, обнажает «швы» и «конструкцию», - «сделанность» целого. Подобное мастерство Фаулз, в одном из своих интервью, обозначает как «одно из величайших искусств», т.к. пропуски в романе, неназванные подробности дают возможность читателю «с помощью своего воображения завершить эту работу» [258; 549].
Характерной особенностью поэтики романа XX в. является выход на поверхность фундаментальных структур романного мышления, в классическом романе скрытых внутри «органической формы» (диалог автора и героя, сюжетное развертывание внутренней жизни романного героя в целостности художественного мира произведения, в системе образов других персонажей, дробление мира на автономные сферы и одновременно восстановление его целостности). Так авторская рефлексия по поводу героя/героини пронизывает тексты романов Дж. Фаулза «Коллекционер» и «Волхв». Внутренняя, ценностная незавершенность, открытость жанра реализуется во внешней незавершенности, открытости финала. Как правило, Фаулз долго и тщательно работает над готовым текстом, т.к. литература для него является выражением собственного мировосприятия. Перефразированные им слова Декарта: «Я пишу, следовательно, я существую» звучат как эстетическое кредо писателя. Сам Фаулз так отзывался о своем интересе к писательской деятельности: «Я начал писать потому, что мне всегда легко давалось фантазировать, придумывать ситуации» [258; 558]. Он писал медленно и терпеливо, иногда два или несколько произведений одновременно, подчиняясь творческому импульсу, ибо считал, что «роман должен сначала быть зачатым в страсти», а только потом «обработанразумом» [258; 559].
Для Джона Фаулза создание нового мира - явление сверхъестественное, которое потребует от создателя части его самого: «Всерьез задуманный роман, помимо всего прочего, глубочайшим образом истощает душу и психику автора, поскольку сотворяемый им новый мир догжен быть вырван из того мира, что существует в его мозгу» [264; 203]. Фаулз продолжит эту мысль, проводя аналогию между животным миром и миром людей; вывод будет являться наставлением современному развитию литературы: «часто повторяющаяся утрата потаенного "я" в конце концов неминуемо приводит к квазитравматическому эффекту... Этоюгические подходы (изучение живого поведения), превалирующие сегодня в зоочогии, к величайшему сожалению, не приняты в мире литературы» [264; 203].
Джон Фаулз опубликовал свой первый роман «Коллекционер» в 1963 году. По его собственному признанию, роман явился воплощением моделируемой им же действительности (исключая преступную жестокость): (я грезіп о том, чтобы оказаться в ситуации изолированности с девушками, оставаться наедине с которыми в реальной жизни мне не дозволяюсь, я мечтал о необитаемом острове, об авиакатастрофе, в которой выжили бы тоїько мы двое, о застрявшем лифте, о спасении от опасности, которая страшнее смерти... обо всех отчаянных средствах из романтических повестей, но такэ/се о бесчисленных возможностях случайных встреч в боїее реалистических обстоятельствах» [264; 217]. Этот роман сразу же принес писателю славу, а его композиция, сюжет и стилистическая оригинальность вызвали продолжительные дискуссии как между отечественными, так и зарубежными критиками.
После выхода в свет «Волхва» (эта книга также может считаться дебютом писателя, так как Фаулз начал работу над ней в начале 1950-х годов и в основном завершил ее к моменту опубликования «Коллекционера»), творчеством Фаулза всерьез заинтересовалась академическая критика Великобритании и США. Оригинальность сюжета романа определялась замыслом художника совместить «очень необычную ситуацию» и «реалистически представленные характеры». В данном случае, Дж. Фаулз руководствовался этимологией романного жанра и английской традицией романа. Что касается этимологии, то на взгляд самого автора, в основе всякого повествования лежат ткачество и вышивание. «Греки это хорошо понимали. Даже слово, которым они обозначают рассказываемый вслух эпос, rhapsody, означает просто "сшитая песнь". Сплетение реального с вымышленным - суть всего искусства» [260; 436]. Л первый в мировой литературе роман, по мнению Дж. Фаулза, «Робинзон Крузо» Д. Дефо соткан из «островов и моря, из одиночества и сексуальности. Именно поэтому он и оказал существенно большее воздействие на дальнейшее развитие повествовательных жанров - как тематически, так и технически, - чем любая другая отдельно взятая книга в истории человечества» [260; 434].
Тема существования в ограниченном пространстве, причем ограниченным другим, «играющим в бога», героем проявляется как в «Волхве», так и в «Коллекционере». Дело в том, что сама идея «Коллекционера» посетила Фаулза во время создания «Волхва». Писатель очень быстро создал и опубликовал более поздний по замыслу роман. «Коллекционер» явился вариацией «Волхва», вариацией, объясняющей многогранную тему лишения человека свободы. Оба романа имеют весьма сложные связи друг с другом. Как и Фредерик Клегг, Николас Эрфе социально определен как сирота, он также одинокий мужчина, который преследует женщину, воплощающую его романтический идеал; как Миранда, Эрфе - сноб, вышедший из среднего класса, с видимостью экзистенциальных идей, которые он использует в оправдание своих желаний. На самом деле, сходство между Мирандой и коллекционером Клеггом подтверждается тем, что они оба являются зеркальным отражением худших качеств Эрфе. Кончис, загадочный «волхв/маг», который сотворил изысканные постановки на своем острове с целью перевоспитания Эрфе, подобен Просперо из пьесы У. Шекспира «Буря»; так же как и Клегг, заключивший молодую особу в изолированное и подвластное лишь ему место. Зачарованный и изолированный в поместье Кончиса Эрфе находится в его власти, но в то же время Николас начинает постигать истинное значение и предназначение свободы. Порабощенная в особняке Клегга Миранда находится также в его власти, но героиня начинает постигать противоположное значение свободы - заключение.
Тем самым, границы реального и воображаемого в «Коллекционере» и «Волхве» размываются, в контексте романов оживают «цитаты» из прошлого, из литературы (У. Шекспир). Но эта интертекстуальная игра служит разоблачению нового «потерянного поколения», ставшего жертвой «игры в бога», затеянной «играющими», вседозволенность которых отдает новоявленным фашизмом. Не случайно Фаулз признавался в предисловии к «Аристосу», что некоторые критики дошли до того, что сумели увидеть в философском сборнике «Аристос» и в романах - «Коллекционер» и «Волхв» - «повод окрестить меня криптофашистом» [255; 9].
Перед исследователями творчества Фаулза действительно стоит нелегкая задача, более того, как заметил А. Флейшман, для этого требуется определенное мужество - ведь «объект исследования» неоднократно и весьма резко реагировал на попытки «препарировать» его произведения [308; 154]. Наибольшее раздражение вызывали у Фаулза исследователи, как правило, американцы, склонные видеть в его творениях своею рода кроссворд, интеллектуальную загадку, либо вычурную семиотическую задачу, требующую однозначного решения. Более того, Фаулз считает, что критики прямо заинтересованы в увеличении «пропасти» между произведением и читателем, так как это порождает необходимость в «промежуточном звене, интерпретаторе, т.е. в них самих» [255; 360].
Такая позиция автора вполне объяснима, если учесть, что в системе философских и эстетических взглядов Джона Фаулза особое место занимают оппозиции категорий наука - искусство, явное - тайное, накопители -создатели, потребители - творцы, в которых левый член выступает со знаком минус. Фаулз в ранний период своего творчества (1960-70-е гг.) с недоверием относится к научным методам исследования художественной литературы, т.к. «невозможно описать реальность, молено лишь подобрать метафоры, которые ее обозначают. Все виды описания, придуманные человеком, метафоричны» [256; 43]. Чтобы детально проанализировать присутствие в едином художественном целом далеко отстоящих друг от друга пластов действительности и разобраться в сложном лабиринте факторов создания и вариантов толкования протеистического образа мира его ранних романов, необходимо сделать ссылку на труды К.Г. Юнга, чья социально-психологическая концепция повлияла как на взгляды писателя, так и на их художественное воплощение. Фаулз моделировал условную действительность своих романов по принципу провидческого творческого начала (по определению К.Г. Юнга), то есть синтезировал собственно индивидуальное творческое воображение с продуктом коллективного бессознательного - с мифом. В ранних романах Фаулза моделирование художественного отображения действительности совершается с опорой на мифологические модели; мифологические образы и сюжеты в контексте романов Фаулза приобретают новые черты и значения. Миф создает именно модель текущей реальности, конкретное социокультурное воплощение материальной действительности, причем модель предельно достоверную, воспроизводящую из себя реальность.
Что касается научных исследований литературоведов в области творческого наследия Дж. Фаулза, то его синтетический метод, создающий свою особо значимую действительность, может определяться по-разному. Так, в труде «Литература Великобритании XX века» (1989) В.В. Ивашева пишет: «Роман "Коллекционер"... несет на себе отчетливую печать натурализма и фрейдизма» [95; 456]. Хотя, с другой стороны, Е.Ю. Гениева в своем «Послесловии к новелле "Башня из черного дерева"» (1979) утверждает, что «Коллекционер» - роман-детектив, где представлена история похищения клерком Фердинандом Клеггом, неожиданно разбогатевшим, студентки художественного училища Миранды Грей; эта история больше тяготеет к жанру романтической повести. Взаимоотношения Миранды-художницы и Клегга-коллекционера, развиваясь и запутываясь, более всего, по мнению Гениевой, схожи с экзистенциальными драмами в духе Ж.-П. Сартра или ранней А. Мердок [71; 186]. Другой отечественный исследователь А. Долинин, рассуждая на страницах статьи «Паломничество Чарльза Смитсона (о романе Джона Фаулза «Подруга французского лейтенанта»)» (1990), аттестует роман «Коллекционер» философской притчей, отразившей влияние на Фаулза сартровского экзистенциализма. Эта философская притча напоминает Долинину жанр «черного романа», который сознательно обращен к мифопоэтическим сюжетным сценам. «Образ Миранды, погибшей, но так и не сумевшей пробудить в Клегге человека, открывает ряд героев Фаулза, олицетворяющих высшие духовные идеалы» [84; 5].
Экзистенциалистом Фаулза считали почти все западные исследователи. По мнению Уильяма Дж. Палмера в работе «Проза Джона Фаулза» (1975), ближе всех в современной философии Фаулз стоит к А. Камю, каким он предстал в трактате «Миф о Сизифе». Его мнение разделяет Р. Надо в статье «Джон Фаулз» (1981), который в числе учителей Фаулза называет и Ж.-П. Сартра. Наконец, сам Фаулз заверяет своих читателей, что его «мысль., в целом, не выходит за рамки экзистенциализма» [315; 123]. Однако, из других его рассуждений становится очевидно, что понимает экзистенциализм он весьма своеобразно. «Первым экзистенциалистом был Сократ, а не Кьеркегор. Паскаль и Гераклит Темный - тоже экзистенциалисты» [315; 122].
Общеизвестно, что «...экзистенциализм не представляет собой единой философской или литературной системы. То, что мы подразумеваем под данным понятием, состоит из множества близких друг другу мировоззренческих мотивов» [135; 18]. В наиболее сжатом перечислении эти мотивы таковы: трагизм бытия, ощущение пустоты и неосознанного беспокойства, отвращение к себе самому и окружающему миру, постоянное сознание неизбежности смерти и т.д. Для Фаулза же экзистенциализм означает прежде всего внимание к проблеме свободы и выбора. «Меня интересует лишь аспект экзистенциализма, связанный с понятием свободы, вопрос, есть ли у нас свобода, свободная воля, до какой степени мы способны изменить свою жизнь, изменить себя и т.п.» [300; 466]. Мы никогда не узнаем, - говорит Фаулз, - «почему мы существуем, почему все существует » [319; 39].
Данные рассуждения об относительности истины являются характерной особенностью барочного направления XVII века, которые реализовывались в частом использовании мотива «тайны». В современной интерпретации Фаулза неразрешимость многих важных философских и естественнонаучных проблем парадоксальным образом нужна человеку, так как именно тайна является источником его познавательной и жизненной энергии. «Незнание, ти тайна, так же необходима человеку, как вода», -пишет Фаулз. Как объясняет Николасу Эрфе Кончис в романе «Волхв», «у тайны есть энергия. Она вливает энергию в любого, кто ищет ее разгадки.. Я говорю об общем психическом здоровье вида человека. Он нуждается в существовании тайн. Не в их разрешении» [4; 393]. Фаулз не доверяет научным определениям и предпочитает им метафоры вполне в духе Камю, который однажды заметил: «Хочешь быть философом - пиши романы» [120; 162].
«Личность почти не в состоянии избежать иллюзии относительно подлинности своих реализаций, воображая, что она в самом деле действует, в то время, как в сущности, она лишь пассивно переживает» [135; 147]. Однако, если для экзистенциалистов признание зависимости личности от окружающего духовного мира ведет к фаталистической теории невозможности «свободной самореализации человека» [335; 48], то Фаулз видит все же возможность выйти за узкие рамки конформистских представлений. Правда, это доступно лишь немногим - тем, кого писатель называет «избранными». Человек, осознавший свою уникальность и освободившийся от всяческих влияний - это и есть Аристос (в пер. с греч. -лучший). Фаулз заимствовал это собирательное имя «истинно свободных людей» у Гераклита Темного. У Гераклита Аристос - это «настоящий человек)), имеющий «собственное суждение, внутреннюю мудрость и знание)) [255; 128]. Такой человек «избегает членства в любом коллективе Нет такой организации, которой он бы полностью принадлежал, такого народа, религии, политической партии... прежде всего, он стремится быть свободной силой в мире сил несвободных)) [255; 212].
Мотивы поведения Кончиса и Лили де Сейтас окутаны тайной, они -всесильны и озабочены лишь одним - помочь людям ощутить свою «избранность».
Как видно, философская концепция писателя отмечена значительной долей элитизма. Фаулз называет свой элитизм «биологическим». «Можно дать всем жителям страны равные возможности для образования, но, тем не менее, вы столкнетесь с огромными различиями в мышлении, восприятии, памяти..» [255; 245].
Однако, для того, чтобы стать «Аристосом», недостаточно развитого интеллекта и хорошего образования. «Аристос» должен пройти через тяжелые жизненные испытания - в противном случае он остается всего лишь неглупым снобом, как это показано в «Коллекционере»: «Похититель -Клегг - совершил зло, но я стремился показать, что это зло в большой степени, может быть, даже полностью является результатом плохого образования, гнусного окружения, сиротства: факторов, за которые не он песет ответственность Одним словом, я хотел утвердить невиновность "многих". Миранда, которую он похитил, отвечает за обстоятельства своей жизни немногим больше Клегга: ее родители были богаты, у нее были хорошие возможности для образования, унаследованные умственные способности Это не означает, что она безупречна. До этого ей далеко -она высокомерна, капризна, она сноб с либерально-гуманистическим оттенком, как и многие студентки университетов. Но если бы она выжила после всех испытаний, она могла бы стать таким человеком, какие нужны всему человечеству)) [325; 252].
Члены интеллектуальной элиты одновременно выступают в двух ипостасях. С одной стороны, они - жертвы конформистов и обывателей (как Миранда в «Коллекционере»). С другой - они сами активно воздействуют на психику и мышление людей и с помощью тех или иных средств (театральная мистификация, искусственно вызываемая любовь) превращают их в себе подобных. «Биологический элитизм» Фаулза, казалось бы, должен сближать его взгляды и творческий метод с представителями неоавангарда и, в частности, со школой «нового романа», наиболее влиятельной во Франции. Однако Фаулз нарочито отстраняется от неоавангарда, обвиняя ею представителей в отсутствии гуманизма.
Но существуют и иные точки зрения на определение метода раннего творчества Фаулза. Так, автор предисловия к роману «Коллекционер» Т. Красавченко считает, что книга написана «по всем канонам строжайшего реализма, хотя и напоминает классический фильм ужасов» [136; 6]. Присоединяясь к Е. Гениевой и А. Долинину в том, что в романе постоянно звучит «ассоциативная мелодия» пьесы «Буря» У. Шекспира: Миранда 18 Фердинанд/Калибан [136; 11], исследователь сопоставляет метод Фаулза с методом Ф.М. Достоевского: «Черты снедаемого явной униженностью и затаенной гордыней "человека из подполья" Достоевского просматриваются в образе Клегга...» [136; 11].
Мнения отечественных исследователей сходятся в размышлениях о заглавном герое «Коллекционера» - это жертва «социальных и биологических механизмов», представитель «большинства», то есть серой массы мещан, не обладающих условиями для «духовного пробуждения» [84; 5], «результат посредственного образования, убогого окружения, сиротства -факторов, не зависящих от него» [136; 13].
Некоторые зарубежные критики придерживаются подобного же взгляда на произведение, например, канадский литературовед Б.ІІ. Олшен в своей работе, посвященной творчеству Фаулза, пишет, что роман «Коллекционер» воспитывает читателя в исключительно гуманистическом подходе к человеку; служит для убеждения читателя в необходимости создания общества, в котором «избранные» будут нести ответственность за воспитание и смягчение нравов «большинства» [333; 27].
Американский критик Роберт Хаффейкер считает, что под фаулзовским романом следует понимать ответ автора на стоящий перед читателем вопрос о границах волеизъявления, о том, как и куда может нас завести желание действия, если мы будем «руководствоваться своими подсознательными инстинктами, а не осознанными принципами добра» [322; 73].
Канадский исследователь Пэрри Нодлмэн, рассуждая о структуре романа «Коллекционер», пишет следующее: «Если бы Фаулз представил только повествование Клегга, то он бы написал развлекательный триллер, как это и было представлено ранней критикой его работ» [332; 333].
Но Фаулз таким образом строит линии повествования в романе, что читатель не напуган, как при чтении триллера развлекательного характера, а взволнован; он переживает ощущение замкнутого пространства, не находясь в таковом во плоти. В силу вступает постмодернистская концепция игры автора с читателем, чего сам автор добивается особым структурным построением романа - лабиринтом.
Фаулз в 1964 году в эссе «Я пишу, следовательно, я существую» представил краткое объяснение метода, которым создавался роман: «"Копекционера" я писал строго реалистически, отправляясь непосредственно от величайшего мастера придуманных биографий —Дефо, чтобы создать ощущение внешней обстановки романа. От Джейн Остен и Пикока — когда писал героиню. От Сартра и Камю — создавая "климат ". Точько очень наивные критики полагают, что все влияния на автора дочжпы исходить от современников. В ноосфере не существует дат, точько симпатии, восхищение, антипатии и отвращение» [266; 32].
Соотношение главных героев романов «Коллекционер» и «Волхв» показывает их социальную и психологическую противоположность. Коллекционер Клегг более напоминает жертву сложившихся обстоятельств, человека, выхолощенного догматом конформной массы; Николас Эрфе же, напротив, является представителем «избранного» слоя общества.
По мнению Т. Красавченко, Николас - «герой нашего времени» [136; 2]: выпускник Оксфорда, представитель послевоенной английской интеллигенции. Духовные и интеллектуальные совершенствования одиночки Николаса на вилле Бурани подсказывают определение жанра романа «Волхв» как современного романа-воспитания. Эрфе выказывает презрительное отношение к современному миропорядку и весьма скептически относится к своей английской сущности; он бежит от обыденности настоящего и предсказуемости своего будущего на далекий греческий остров Фраксос в поисках «новой тайны». Для Эрфе вымышленный, нереальный мир более ценен и интересен, чем мир, в котором он вынужден пребывать. И отечественные ученые А. Долинин, Е. Гениева, Т. Красавченко единодушны в том, что это современный «роман-воспитание» - роман, наполненный непредсказуемыми поворотами сюжета, содержащий элементы детектива и фантастики. Линия повествования определяется путешествием героя по пути
самопознания - к обретению себя как личности, к постижению истины духовного бытия.
Композиционное решение романа «Волхв», по мнению Е.Ю. Гениевой и А. Долинина, автор усложняет введением вставных бурлескно-сатирических новелл (сюжеты позаимствованы у Г. Филдинга, Т. Смоллетта, М. Сервантеса, А. Камю), пародийной игрой разными стилями с ложными ходами и литературными аллюзиями.
По мнению В.В. Ивашевой в работе «Новые черты реализма на Западе», роман «Волхв» - это «роман игр», для которого характерными становятся игры «с масками и метафорами, главным образом такими, в которых раскрывается природа конечной истины, наших различных представлений о Боге» [97; 24]. В первой редакции 1966 г. роман «Волхв» имел заглавие «Игра в бога». Исследователем подчеркивается присутствие в романе множества натуралистических описаний и мотивов, богатство символики и философских отступлений, к которым автор не дает однозначных разъяснений.
Одно из последних жанровых определений «Волхва» в отечественной литературной критике представил в 2001 году Л.Г. Андреев, сформулировав его следующим образом: «"Волхв" - социально-психологическая эпопея современности, проигранная с помощью инструментов модерной литературы, то есть еще один вариант синтеза» [19; 322].
Р. Хаффейкер в исследовании «Джон Фаулз» (1980) считает, что роман «Волхв» (первая и вторая редакции) занимает особое место среди современных романов, авторы которых более стремятся к постижению смысла бытия, нежели пытаются помочь современному человеку отыскать ориентир среди общей зыбкости понятий и установок. Роль значения романа Р. Хаффейкер видит в том, что в эпоху антигероев Николас в «Волхве» принимает решения, руководствуясь гуманистическими понятиями.
Канадский ученый Б.Н. Олшен называет роман «Волхв» «автопортретом Фаулза в образах» [333; 188]. Олшен разводит этические установки романов «Коллекционер» и «Волхв», так как в первом романе, по мысли исследователя, показывается сила жестокости и подавления, а во втором, напротив, описано воспитание и освобождение личности. В двух ранних романах Фаулза акцент поставлен на выявление антитезы между любовью и желанием обладать, искусством и коллекционированием, свободой и заключением. Здесь проявляются черты барочного направления: присутствие антиномий, образ лабиринта. По мнению критика, книга должна помочь читателю «существовать в лабиринте жизни и черпать силы из ее скрытых источников, а не искать пути к бегству» [333; 188]. Олшен также отмечает, что роман «Волхв» включает детективные и фантастические элементы, наряду с чертами готического, философского и средневекового романа. Выявлен и ряд недостатков: претенциозность языка, чрезмерная игра писателя с читателем, перенасыщенность романа магическими превращениями, склонность к повторам.
И. Репина в статье «"Червь" Джона Фаулза» (1997) отмечает: «Творец "Волхва" и "Женщины французского лейтенанта" - сочинитель намеренно "чудной", неуклюжий, внятный лишь немногим. Метод Фаулза близок классическому авангардизму, который декларирует полную автономность реальности от знаковых систем, вещей - от слов, истины - от текста» [216; 196].
Считая, что писатель должен откликаться на все общественно значимые проблемы современности, Фаулз часто высказывает взгляды, идущие вразрез с мнениями литературных и идеологических законодателей ею страны: «Большинство английских романистов, с каким бы удовочьствием ни участвовали они в литературных сплетнях, фантастически избегают разговоров о реалиях жизни их собственного воображения, и точно так лее, как в былые времена, предпочитают такой персонаж от первого лица, который прежде всего скромен, общителен и может быть принят в члены клуба: предпочтение это простирается далеко за строго арктические пределы романов о среднем классе. Я полагаю, это исходит в боїьшей степени от коварного пуританства, сидящего внутри каждого из нас (я тією в виду нашу боязнь, что любое исследование неосознанного может ослабить наслаждение, которое мы получаем от того, что явіяется игровой площадкой этого неосознанного), чем от какого-нибудь глупейшего сочетания непрофессионализма с джентльменством)) [264; 201-202].
Основу эстетической позиции Фаулза составляет гуманизм, свою писательскую задачу он видит в духовном совершенствовании и обновлении человека. Писатель верит в возможности разума, являющегося, по ею мнению, условием и критерием свободного движения. В одном из интервью он признался: «Я гуманист помер один. Я верю в гуманизм, который в философском смысле потерпел крах» [128; 61-62].
И все же мировоззренческие установки Фаулза во многом близки постмодернистским, сопряженным с барочными (в духе позднего Шекспира). В своих ранних романах Фаулз намеренно усиливает скрытые мотивы позднего творчества У. Шекспира, такие как: мозаичная картина мира, дидактическая функция искусства, мотив ответственности человека за свои поступки - одновременно усиливая их барочную трактовку - с целью наиболее точной передачи современной трактовки действительности. Это протест против тирании окаменелых социальных и духовных норм, привычных критериев оценки изменившейся действительности. Это развенчание представлений об абсолютной истине и абсолютной власти. В обоих случаях признается необходимость многовариантных форм человеческого бытия и конечность человеческого существования, необходимость научиться жить с этим знанием. И даже понимание гуманизма как «философии компромисса» (именно так определяет Фаулз гуманизм в интервью Диане Випон в 1995 г.) очень близко постмодернистскому поиску компромисса как условия человеческого выживания. Актуальным в современности становится вопрос: чему следует верить, рассказчику или тому, о чем он рассказывает? Дж. Фаулз, руководствуясь концепцией гуманизма, дал свой ответ: «Ни тому, ни другому Быть человеком исходно означает обладать некоей особой индивидуальностью, тем личностным космосом, в котором каждый из нас существует, то есть сознавать, что все мы по природе своей изменчивы и лживы Что все в мире относительно. Мы можем притворяться, что знаем и понимаем все на свете, но мы никогда не сможем ни узнать, ни понять этого. И уж менее всего мы способны понять, как счастливы мы в том, что живем "здесь и сейчас"» [258; 571-572].
Большинство исследователей считает определяющей чертой произведений Дж. Фаулза наличие в них ярко выраженной философской тенденции: соотношение категорий свободы и необходимости, философские и эстетические проблемы творчества, соотношение этического и эстетического в жизни и творчестве художника, анализ категорий истины. Сам Фаулз утверждает, что он совершенно четко сознает свои концепции как в области философии, так и в сфере эстетики.
Размышляя о сущности романной формы, Фаулз вновь возвращается к столь важной для него гуманистической проблеме свободы. Роман для него -это «удивительная свобода выбора. Он будет существовать столько, сколько писатели будут стремиться к свободе. Я думаю, это займет много времени. Сточько же, сколько будет жить человечество» [319; 41].
Таким образом, исследователи, занимающиеся анализом наследия Фаулза, зачастую находятся на противоположных позициях в определении творческого метода писателя. Сопоставив различные методологические определения романов Фаулза, можно выделить три подхода к интерпретации творчества писателя среди представителей отечественного и зарубежною литературоведения:
1) отечественные исследователи-литературоведы, проводившие анализ творчества Дж. Фаулза в 1980 - 90-е гг. более всего склонны к интерпретации его романов в реалистическом ключе. Здесь следует назвать работы Г.В. Аникина, Н.П. Михальской, В.В. Ивашевой, Т.Н Красаченко, Е. Гениевой, Л. Долинина; 2) есть круг исследователей, изучающих влияние модернизма на романы Фаулза: A.M. Зверев, Л.А. Исаева, Е. Касаткина, И. Репина. Исследователи подчеркивают близость метода Фаулза классическому авангарду; выявляют и изучают экзистенциальную основу произведений Фаулза.
3) самая распространенная современная точка зрения на поэтику романиста - постмодернистское восприятие его творчества. К данному мнению склоняются как представители зарубежного литературоведения, так и современная отечественная школа критики (Р.Дж. Берден, С. Ловдей, Т. Д Хаэн, М.Н. Липовецкий, Н.С. Гребенникова).
Интересно, что среди общего изобилия различных подходов в определении художественного своеобразия прозы Фаулза, практически нет работ, детально исследующих диалог творческого метода писателя с барочной эстетикой. По нашему убеждению, мировоззренческие установки Фаулза во многом близки как постмодернистскому сознанию, так и барочному.
Актуальность нашего исследования обусловлена, во-первых, важностью выявления диалогического характера отношений художественных систем барокко и постмодернизма в современном художественном тексте. Необходимо отметить, что именно образы барокко становятся духовно близкими в период кризисного восприятия окружающей действительности, что находит свое отражение в постмодернистской литературе. Барочная модель мира становится весьма актуальной в современном литературно-художественном процессе. Система барочной ментальности, миропонимания и образного освоения действительности определила плодотворное направление развития современного литературного процесса.
Во-вторых, в данной диссертации представляется возможным, в связи с завершением жизненного пути Дж. Фаулза, периодическое распределение его творческого наследия на ранний, зрелый и поздний этапы. Представляется целесообразным проследить корреляцию раннего этапа творчества писателя постмодернистского толка Дж. Фаулза с барокко на примере интертекстуального взаимодействия его ранних романов «Коллекционер» и «Волхв» с пьесой У. Шекспира «Буря», содержащей в себе элементы ранней барочной эстетики. Драматические образы и модели развития сюжета трансформируются писателем в романах при создании психологических портретов героев и различных моделей ситуаций.
Объектом исследования в диссертации являются романы Дж. Фаулза, созданные в период 1960 - 1970-х годов: «Коллекционер» (The Collector, 1963), «Волхв» (The Magus, 1977). Предметом - моделирование действительности в пространстве фаулзовского художественного текста.
Цель работы формулируется как исследование принципа моделирования художественной действительности в раннем романном творчестве (1960-1970-е гг.) Дж. Фаулза в ситуации диалога барочной и постмодернистской художественных систем.
Этой целью определяется круг задач, которые необходимо решить в ходе исследования:
• выявить и охарактеризовать наличие барочных элементов в постмодернистской художественной системе;
• проанализировать варианты интертекстуального взаимодействия ранних постмодернистских романов Дж. Фаулза с литературами прошлых эпох,барочной в особенности;
• раскрыть роль барочных элементов в определении творческого метода ранних романов Дж. Фаулза на уровне системы образов и ситуационных моделей;
• проанализировать сущность мифопоэтических наслоений в контексте ранних романов Дж. Фаулза;
• выявить случаи интертекстуальных референций в романах «Коллекционер» и «Волхв» к психоаналитическому наследию К.Г. Юнга; • определить интертекстуальные взаимодействия анализируемых романов между собой.
Научная новизна исследования заключается в том, что, несмотря на высокую степень изученности творчества Дж. Фаулза, при характеристике метода писателя не применялись определения барочной эстетики и психоаналитическая концепция архетипа К.Г. Юнга. Чтобы детально проанализировать присутствие в едином художественном целом далеко отстоящих друг от друга пластов действительности и разобраться в сложном лабиринте факторов создания и вариантов толкования протеистического образа мира ранних фаулзовских романов, мы обратились к трудам К.Г. Юнга, чья социально-психологическая концепция повлияла как на взгляды писателя, так и на их художественное воплощение. В работе последовательно прослежена связь романов Дж. Фаулза с литературой прошлых эпох, прежде всего барочной. Проведено сопоставление философских, психологических, социальных и литературно-теоретических основ постмодернизма и барокко, в ходе которого предложен новый взгляд на раннее романное творчество Дж. Фаулза.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Любое произведение искусства, любая художественная система являются одновременно феноменом породившей их реальности и результатом накопленного человеческого опыта. Поэтому они характеризуются не только принадлежностью к современному этапу цивилизации, но и соотнесенностью с предшествующими литературными эпохами, что в полной мере относится и к таким художественным системам, как барокко и постмодернизм. Важнейшей характеристикой этого диалога является их переломный, порубежный характер. Ситуация кризисного напряжения эпохи актуализируется диалогами различных смыслов: от текстообразующих (на уровне композиционного строения) до смыслопорождающих (например, использование литературных реминисценций, архетипов и мифологической образности).
2. Композиционный лабиринт ранних романов Фаулза имеет следующие основные черты: запутанность; экспериментальное формы (варианты метапрозы); привнесение мотивов, отнесенных к древности, вечности, смерти и так далее. Построение композиции в виде лабиринта не дает четкого представления об индивидуальности каждого персонажа, они по-барочному таинственны и неопределимы. Круговое развитие сюжета напоминает круговые движения в лабиринте, свидетельствующее о цикличности в формальном решении произведений. Энантиоморфизм становится сущностным качеством формы фаулзовских романов, что призвано выразить самые важные стороны его художественной концепции.
3. Закладывая в основу своих первых постмодернистских произведений образы и модели ситуаций шекспировской пьесы «Буря», содержащей барочные элементы, Фаулз вступает в диалог с английской культурой начала XVII века в роли интерпретатора и деконструктора. Шекспировские аллюзии, тематически связавшие оба романа Фаулза, выполняют формо- и смьіслообразуюіцую функцию отражения действительности. Фаулз создает интертекст, представляющий (по принципу калейдоскопа) игру модельных ситуаций с несовместимыми героями.
4. Сквозь призму многочисленных мифологических и архетипических аллюзий можно проследить, как происходит восстановление и развертывание изначальной целостности главных героев романов. По ходу развития сюжета в романах герои поднимаются выше по ступеням самопознания и освобождаются от всех известных зримых и чувственных образов «бога» (например, образа «играющего в бога Гадеса»). Это освобождение от ложных понятий об абсолютном знании и абсолютном могуществе, по словам Фаулза - главная цель его романов.
В теоретической и методологической базе исследования задействованы работы историков литературы, касающиеся определения художественных систем барокко и постмодернизма. Важную роль в формировании нашей концепции сыграли работы отечественных литературоведов-исследователей барокко А.А. Аникста, Б.Р. Виппера, Д.С. Лихачева, А.А. Морозова, A.M. Панченко, О.Б. Вайнштейн, Ю.Б. Виппера и зарубежных авторов: Я. Буркхардта, Г. Вёльфлина, К.О. Гартмана. Исследование места и роли постмодернизма в литературном процессе основывалось на трудах И.П. Ильина, Н.Л. Лейдермана, М.Н. Липовецкого, Д.В. Затонскою, Н.С. Гребенниковой, И.С. Скоропановой. Однако специфика исследуемого материала потребовала широкого привлечения исследований зарубежных литературоведов - Р. Барта, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, В. Изера, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса, И. Хёйзинги и др.
Не менее важным для нас оказался круг исследователей, занимающихся проблемами мифокритики и мифопоэтики: ЯЗ. Голосовкер, Е.М. Мелетинский, А.В. Гулыга, Е.Н. Корнилова.
Особое внимание в диссертации уделяется исследованиям места и сущности моделирования действительности посредством диалога в пространстве современного художественного текста. В вопросах, связанных с диалогом и соответствующим методом, основное внимание было уделено работам М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Л.М. Баткина и B.C. Библера.
Методология исследования диссертации базируется на совокупности ряда аналитических приемов и подходов:
- сравнительно-сопоставительном;
- психоаналитической концепции бессознательного; мифологическом анализе, позволяющем рассматривать пространственные и временные категории произведения но законам мифоиоэтического искусства.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что обоснована необходимость комплексного применения культурологического, мифологического и психоаналитического подходов к анализу постмодернистских текстов; дано терминологическое обозначение явлений, связанных с процессом анализа многоуровневых воплощений в современной художественной прозе. Работа вносит определенный вклад в осмысление тенденций современной английской прозы, получивших отражение как на интеллектуально-содержательном, так и на образно-художественном уровнях.
Практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в диссертации теоретические положения, касающиеся барокко и постмодернизма, и анализ исследуемого материала могут быть использованы в преподавании курсов «История зарубежной литературы XVII-XVIII веков», «История зарубежной литературы XX века», а также включены в программы спецкурсов и спецсеминаров для студентов филологических и лингвистических факультетов высших учебных заведений.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры зарубежной литературы Уральского государственного университета им. A.M. Горького (2005, 2006). Различные аспекты проблематики диссертации были положены в основу докладов, прочитанных на IV, V, VI конференциях «Наука и инновации XXI века», проводимых СурГУ (г. Сургут, 2004-2006).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых на семь параграфов, отражающих различные аспекты проблемы, заключения и библиографического списка, включающего 342 наименования.
Общий объем текста диссертации составляют 239 страниц.
Споры о постмодернизме в отечественном и зарубежном литературоведении
В процессе создания концепции постмодернизма участвуют литераторы, философы, архитекторы, социологи, искусствоведы, религиозные деятели; все они, скрещивая и противопоставляя, порой парадоксальным образом, самые различные области гуманитарных знаний, пытаются в эклектической пестроте новейшей культуры установить «сложнейший порядок хаоса» [297; 27]. Среди литературоведов и критиков, которые придали этому термину принципиальное значение на рубеже I960 -1970-х годов, следует выделить Ирвинга Хоу («Массовое общество и постмодернистская литература», 1970), Лесли Фидлера («Новые мутанты», 1971), Ихаба Хассана («Расчленение Орфея: к постмодернистской литературе», 1971). Основы постмодернистской философии были заложены трудами французов Мишеля Фуко («Порядок вещей: Археология іуманитарньїх наук», 1966), Жака Деррида («О грамматологии», 1967), Жиля Делёза и Феликса Гваттари («Лнти-Эдип: Капитализм и шизофрения», 1972), Жана Бодрийяра («Символический обмен и смерть», 1976), Жана-Франсуа Лиотара («Состояние постмодерна: доклад о знании», 1979) и американского философа Ричарда Рорти («Философия и зеркало природы», 1979).
Постмодернизм выступает характеристикой определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места, роли в окружающем мире. Постепенно развиваясь, постмодернизм стал претендовать на выражение особой теории современного искусства, которая заключается в «новом видении мира» [231; 260], так называемой постмодернистской чувствительности, которая есть не что иное, как «характерная для философии постмодернизма парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса» [184; 613].
Проблема формирования этой художественной системы и ее роли в современной западной культуре затрагивает сферу, глобальную по своему масштабу, поскольку касается вопросов не столько мировоззрения, сколько мироощущения, то есть ту область, где на первый план выходит не рациональная, логическая философская рефлексия, а глубоко эмоциональная, внутренне прочувствованная реакция современного человека на окружающий ею мир. Подобно всему новому, возникающему в искусстве в тот или иной период времени, постмодернизм стал объектом исследования и критики. В современном литературоведении существует несколько точек зрения, так или иначе связанных с явлением постмодернизма. Все они по-своему оценивают роль этой системы и кардинально расходятся друг с другом в суждениях и прогнозах относительно нее. Так, М.Н. Эпштейн в своей работе «Постмодерн в России. Литература и теория» в трактовке постмодернизма исходит от формулировки названия: «Само название показывает, что "постмодернизм" сформировался как новая культурная парадигма именно в процессе отталкивания от модернизма, как опыт закрывания, сворачивания знаковых систем, их погружения в самих себя» [288; 16]. Тем не менее, значительная часть постмодернизма по-прежнему остается под властью модернистских идей, что отмечал Вольфганг Велш, «постмодерн - это не антимодерн, ибо он включает в себя модерн» [52; 127].
А один из наиболее известных исследователей постмодернизма Юрген Хабермас считает постмодернизм неуместным в силу незавершенности проекта модерна. При этом он признает, что последний, несмотря на неисчерпанные до конца свои возможности, все-таки находится в глубоком кризисе, и главным образом из-за того, что позволил целостному восприятию жизни распасться на независимые друг от друга представления узких групп экспертов [272; 40-50]. Хабермас полагал, что сложившуюся ситуацию можно исправить, если добиться примирения между различными «языковыми играми», прийти к некому единству или консенсусу.
Против такого подхода категорически выступал его главный оппонент Жан-Франсуа Лиотар в своей статье «Заметка о смыслах «пост»» - автор говорит о соотношении модерна и постмодерна в искусстве. В его понимании постмодерн - эю не какой-то новый стиль, приходящий на смену модерну. Это tie конец, но скорее начало и зарождение модерна, причем подлинными постмодернистами являются те, кто увековечивает это начальное состояние; «...приставка «пост» в слове постмодерн ... обозначает... некий "анапроцесс", процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы, который перерабатывает нечто "первозабытое"» [207; 59]. На взгляд Лиотара, постсовременность - это парадоксальное переплетение старого и нового, прошлого и будущего: «...человечество оказалось сегодня в таком положении, когда ему приходится догонять опережающий его процесс накопления все новых и новых объектов практики и мышления» [207; 58].
Жан Бодрийяр рассматривает постсовременность иод иным углом зрения и в совсем ином духе, чем Лиотар. В своих книгах «Символический обмен и смерть» (1976) и «О соблазне» (1979) он противостоит классической теории обозначения, сформулированной Ф. де Соссюром. По Бодрийяру, реальность, которую якобы отражают знаки, не существует как таковая. Для него закончилась не только история, но и сама реальность.
Ж. Бодрийяр высказывает мысль о «прецессии симулякров» [207; 62], то есть предшествовании подобий самой реальности, причем реальность, выводимая из объектов, изображающих ее, перестает быть реальностью и делается «симуляцией симуляций» [207; 65].
Мифопоэтические наслоения в романах Дж. Фаулза «Коллекционер» и «Волхв»
Многосоставность, присутствие. в едином художественном целом далеко отстоящих друг от друга пластов действительности стало одним из самых распространенных принципов в построении романов XX в. Слова итальянского философа Джанни Ваттимо: «именно в нашу эпоху начинается постижение мира, в котором все ценности, все абсолюты оборачиваются существами мифическими» [92; 276], перекликаются с высказыванием Дж. Фаулза из его книги «Аристос»: «Мы все живем в двух мирах: в привычном уютном мирке абсолютов, вращающихся вокруг человека, и в жестоком реальном мире относительностей. Этот последний - относительная реальность - терроризирует нас, изолирует и превращает всех в карликов» [255; 59]. Ж.-П. Сартр, один из величайших мыслителей века, признает человека существом трансцендентным и возвращается к опыту магическому и религиозному в постижении высшего уровня духовности. В своем «Очерке теории эмоций» Сартр зафиксирует следующую мысль: «...сознание может быть в мире двумя различными способами. Мир может выступить перед ним как организованный комплекс средств, таких, что если хотят добиться определенного результата, нужно действовать на определенные элементы этого комплекса... Но мир может также выступить для сознания и как некая неорудийная целостность, т.е. как допускающий изменения непосредственно и в больших масштабах... Этот план мира является абсолютно связанным, это магический мир» [225; 137].
Для того чтобы разобраться в сложном лабиринте факторов создания и вариантов толкования магического, протеистического образа мира ранних романов Дж. Фаулза, следует обратиться к труду К.Г. Юнга «Психология и литература», так как сам писатель признавался в увлечении трудами швейцарского психолога, которые отразились в идейном содержании его произведений, в частности в предисловии к «Волхву» автор напишет: «В двадцатых я посещал лекции Юнга. ...психиатрия всегда была моей специальностью» [4; 244]. Из интервью Дж. Фаулза Д. Випон: «Кое-что из идей Фрейда и Юнга я с самого начала использовал для строительства собственной "куколки". Особенно помогал мне Юнг» [258; 553].
Известный швейцарский психолог и философ представил современному миру исследование архетипов на стыке их сосуществования с мифологемами. Архетипы явились теми преформирующими факторами, которые предваряют работу сознания и приводят к появлению ряда близких высказываний - к образованию мифологем.
Архетипы, в общей трактовке, представляют собой «общезначимые представления и истины, которые веками жили в мифологии и в самых различных религиозных культах - от шаманизма до христианства, от буддизма до ислама» [244; 267-268]. В статье В.А. Маркова «Литература и миф: проблема архетипов» дается их определение, как «первичных, исторически уловимых или неосознаваемых идей, понятий, образов, символов, прототипов, конструкций, матриц и т.п., которые составляют своеобразный "нулевой цикл" и одновременно "арматуру" всего универсума человеческой культуры» [168; 133].
Бессознательное по Юнгу содержит два слоя - личный, который заканчивается вместе с самыми ранними детскими воспоминаниями, и коллективный, содержащий опыт предков. Этот древнейший слой, выводящий за рамки индивидуальной человеческой судьбы, заполнен формами-архетипами, которые пустуют, пока они лично не переживались индивидом. Но когда личный опыт начинает заполнять их, и мифологические образы оживают, открывается внутренний, духовный мир, обладающий энергией такой интенсивности, что становится очевидно: человеческая душа лишь в малой доле является уникальной и субъективной, во всем прочем она коллективна и универсальна.
Эти моменты индивидуальной жизни, когда общезначимые законы человеческой души прорываются в личное сознание, оказываются вехами на пути индивидуализации. Процесс индивидуализации или достижения самости Юнг определяет как «спонтанное осуществление целого человека» [293; 428]. Для Фаулза в его раннем романном творчестве чрезвычайно важной становится проблема обретения человеком целостности, свободы, возвращение героем своей самости. B.C. Рабинович писал о ситуации возвращения мифа в контекст литературы XX века: «знакомые с детства мифы выполняют в целом ряде произведений роль абсолютно чистых, "беспримесных", страшных в своей отчетливости иллюстраций к тем или иным "предельным" закономерностям человеческого бытия: некоторые ученые даже считают, что почти все литературные сюжеты можно, очистив от "примесей", от того, что привнесено временем, свести к уже известным мифологическим сюжетам: ведь общие контуры ситуаций, в которые может попадать человек, общие контуры форм взаимодействия человека с миром повторяется из века в век. Издревле отдельный человек мечтал сохранить в неприкосновенности свое "Я" — и, как мог, сопротивлялся пытающемуся поглотить его Целому. Издревле человек мечтал о свободе. И в то же время издревле человек боялся этой свободы и с надеждой глядел на снимающее личную ответственность Целое» [213; 19].
Образы и модели ситуаций пьесы У. Шекспира «Буря» как основа раннего романного творчества Дж. Фаулза
Теорию интертекста сопровождает понятие игры, являющееся почти синонимом творческой свободы. Воля писателя инициирует диалог между различными текстами на основе цитации. Пьеса У. Шекспира «Буря» (1611) для ранних постмодернистских романов Фаулза — это источник основных структурных и тематических принципов в построении произведений на основе цитации. Для творчества Фаулза имеет особое значение аллегорически осмысленная идея пьесы: «"Буря" - это притча о возможностях человеческого воображения, а потому в итоге и о точке зрения самого Шекспира на его собственные способности в этом плане: сту воображения, высоту надежд, широту пределов его мечты. Да, более всего - о пределах его вообралсения и мечты. Настоящий остров в этой пьесе это наша планета в океанически беспредельном Космосе» [260; 460]. Конфликт пьесы самый древний во всем искусстве и разыгрывается и душе художника: «...между силой вообраэ/сения и его смыслом. Cm bono, с какой целью? Что это изменит?» [260; 461].
Рассмотрение точек соприкосновения между пьесой Шекспира и двумя романами Фаулза представляет особый интерес с точки зрения проблемы цитации, так как параллели, будь то композиционные или тематические, являются своеобразными формами цитаты. Цитация - это не простая имитация чужого слова; цитата является своеобразной формой художественного мышления, она углубляет емкость слова и всего произведения благодаря их ассоциативности. Цитируемое произведение в новом контексте приобретает полисемантичность, а порою даже взаимоисключающие значения. У. Эко отмечает, что язык чувств в эпоху постмодернизма вынужден прибегать к кавычкам [140; 420]. Шекспировские образы в «Буре» есть совмещение несовместимого, антиномичная невозможность разграничения полярных понятий. Именно в этом, по мысли Фаулза и состоит амбивалентность философской концепции «Коллекционера»: «Граница между Немногими и Массой проходит не между людьми, а внутри каждого человека. Одним словом, никто из нас не совершенен, и наоборот» [255; 14]. Н.А. Смирнова утверждает, что «само понятие "полярности" для Фаулза, как и для Шекспира, неприемлемо» [234; 41].
В предыдущих главах диссертационного исследования мы говорили о слитности в творческом методе Дж. Фаулза двух художественных систем -барокко и постмодернизма. Аналогично в поздней трагикомедии У. Шекспира «Буря» можно проследить связь Ренессанса с нарождающимся барочным стилем, для которого характерными становятся мотивы игры, иллюзии, повышенная театральность и декоративность. Программная барочная эклектика и ощущение мира как хаоса образуют театрализованное пространство современной культуры. Именно с этой чертой современности в большей степени и связана ее характеристика как эпохи постмодернизма со вновь включенными в нее элементами барокко. Ощущение театральной призрачности жизни является базовыми для барочного мироощущения. Как отмечает И.П. Ильин, в современном обществе вновь оказалась актуальной шекспировская концепция «весь мир театр», а создание новой теории театра стало равносильным созданию новой теории общества.
Барочный образ бури заинтересовал Фаулза по следующим причинам: «В морских грозных бурях нас восхищает полное отсутствие причины и справедтвости, слепая ярость божества, равнодушного ко всему, кроме собственной природы; и это совершенно естественно, ибо подобные чувства и желания таятся и в глубине наших собственных душ» [257; 410]. В романе «Волхв» образ бури читается как предвестье предстоящих грозных событий, которые предчувствует герой Николас Эрфе: «Мы наконец добрались до дома, и как раз вовремя: с неба брызнули первые капли, еще редкие, но крупные. По всему, главный свой удар буря нацелила именно на остров)) [4; 509]. Наряду с назревающей на острове бурей одновременно разыгрывается как воображение, так и игра страстей героя, которые контекстуально относят нас к финальной пьесе У. Шекспира.
Ассоциации с «Бурей» возникают уже на уровне факультативных элементов сюжетов ранних романов «Коллекционер» и «Волхв» («Маг») - на уровне заглавий и имен персонажей, так называемые интерфигуральные аллюзии. Фаулз умело пользуется поэтикой имени собственного, созданной на протяжении веков в мифопоэтическом творчестве. В древних культурах имя героя нередко выражало его внутреннюю суть, характер и содержало своего рода траекторию судьбы, предсказание событий, которые должны произойти. Отсюда вытекал ряд сложных манипуляций с именами собственными в мифопоэтических текстах: зашифровка имени бога или героя по принципу анаграммы [240; 635-648], табуирование, употребление системы «подменных» имен.
Интерфигуральные аллюзии, выраженные именами главных героев у Фаулза, помогают понять основу конфликтов романов «Коллекционер» и «Волхв». Противостояние Фердинанда Клегга Миранде Грей отражается в игре имен: «Фердинанд, — сказала она. — Тебя надо было назвать Калибаном)), и на протяжении всех последующих событий она называет его про себя Калибаном. Герои Жюли-Лилия и Николас в «Волхве» проводят ассоциацию на уровне игрового принципа между собою и героями пьесы Шекспира «Буря»: «...л/6/ с тобой не кто-нибудь, а Миранда и Фердинанд)) [4; 511].