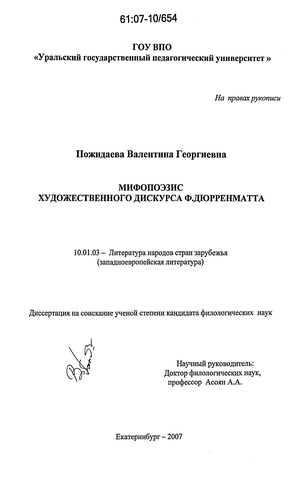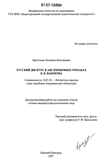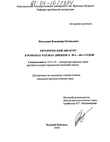Содержание к диссертации
Введение
1. СЕМИОТИКА ОТРАЖЕНИЙ В КАРНАВАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ Ф.ДЮРРЕНМАТТА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ПОДОЗРЕНИЕ») 18
1.1. Великаны и карлики Фридриха Дюрренматта 20
1.2. Мистериальная атрибутика в карнавальном Дискурсе Дюрренматта 35
1.3. Экфразис как герменевтический код Мифопоэзиса Дюрренматта 47
2.СЕМИОЗИС ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА, КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ И ПАМЯТИ В РАССКАЗЕ Ф.ДЮРРЕНМАТТА «ОБРАЗ СИЗИФА» 57
2.1. Семиотика зрительного обр аза 58
2.2 Граница времени в перспективе шахматной игры 74
2.3. Амбивалентный мотив игры и «окна вечности» 81
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЖЕРТВЕННОГО КРИЗИСА В КАРНАВАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙДЮРРЕНМА ТТА 92
3.1. Мотив заражения и утрата различий 93
3.2. Карнавальные мотивы и проблема жертвенного кризиса в романе ф.дюрренматта «грек ищет гречанку» 102
3.3. Фарцако?-семантический центр жертвенного кризиса 111
Заключение 147
Библиография 153
- Великаны и карлики Фридриха Дюрренматта
- Граница времени в перспективе шахматной игры
- Карнавальные мотивы и проблема жертвенного кризиса в романе ф.дюрренматта «грек ищет гречанку»
Введение к работе
Швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт (1921 -1990) - один из наиболее часто переводимых авторов XX века. В 80-90 годы в тридцати четырех странах мира шло сто восемнадцать инсценировок его пьес. В России переводили, издавали книги, были сценические постановки, экранизации, о творчестве Ф. Дюрренматта писали критические статьи и отзывы. Но исследования отечественных литературоведов-германистов немногочисленны: монография Н. Павловой «Фридрих Дюрренматт», работа Е.В. Любавиной «Deutschprache Gegenwartsliteratur aus der Schweiz», Д. Затонского «Шекспир, Стриндберг, Дюрренматт и современное искусство» и «Театр Фриша и Дюрренматта», статья Ю. Архипова «14 тезисов к Фридриху Дюрренматту», статья В. Седельника «Бунтующий минотавр в лабиринте истории», в которой акцентировано внимание на символическом аспекте художественной репрезентации социально--_ исторической парадигмы, вступительная статья «Парадоксы и / предостережения Ф. Дюрренматта» к пятитомному собранию сочинений Ф. Дюрренматта, а также комментарии к данному изданию.
Точные, глубокие наблюдения и замечания отечественных филологов-германистов, касающиеся поэтики Дюрренматта, определили перспективу данного исследования. Н. Павлова отметила отсутствие постепенности в развитии Дюрренматта-прозаика: «писатель постоянно возвращался к своим завершенным произведениям. Известно множество редакций почти каждой его пьесы - он переделывал их вновь и вновь, меняя текст и тогда, когда ^.слышал его со сцены. Так же поступал он и со своей прозой: мотивы и образы не покидали создателя, они изменялись, росли вместе с автором»1.
Повесть «Грек ищет гречанку» - «комедия в прозе» - создана, как указывает Н.Павлова, «по тем же законам, что и написанное Дюрренматтом
1 Павлова Н.С. Невероятность современного мира // Дюрренматт Ф. Избранное: Сборник. - М., 1990. - С.7.
для сцены» . Это замечание позволяет обнаружить, что жанровые границы произведений смещены, а потому не существует принципиальной разницы в исследовании драматических произведений Дюрренматта и его прозы и более продуктивно читать произведения Дюрренматта как единый текст, предполагая единство нарративного дискурса.
Н.Павлова, кроме того, выявила и могивный исток темы извечного зла в творчестве Дюрренматта. Зла, возрождающегося вновь и вновь, поскольку оно «в самом составе жизни, в составе человеческих душ» . Эта тема, как отметила Н. Павлова, звучит в новелле швейцарского писателя XIX века Иеремии Готхельфа, существенно повлиявшего на творчество Дюрренматта. Новелла «Черный паук» ("Die schwarze Spinne", 1842) у современников успехом не пользовалась, ее, как установил К. Линдеман, считали «слишком темной»3. Но в следующем столетии эта новелла вызывает совершенно иное отношение. Истолкование этой новелле дает миф, поскольку она развернута к мифу, живому мифологическому сознанию и, в то же время, «соотносится с современностью». Поэтому внимание к ней, по-видимому, актуализирует сама эпоха, а сцена возможного жертвоприношения, когда принимается решение - отдать ли дьяволу душу младенца, не окрестив его, предвосхищает «некоторые ситуации литературы XX века», как справедливо отмечает Н.С. Павлова. И в пьесе «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта, как и в новелле Готхельфа, пишет исследователь, «происходит радикальная перестройка массового сознания: жители маленького городка Гюллена в современной пьесе неожиданно для себя решились убить за миллион долларов ни в чем не повинного человека - крестьяне средневекового селенья приходят к выводу «насколько больше стоят они все вместе, чем один некрещеный ребенок». Между тем, не окрестить новорожденного, погубить его душу и отдать ее в руки дьявола - для верующих страшное
1 Павлова Н.С. Невероятность современного мира // Дюрренматт Ф. Избранное: Сборник. - М., 1990. -СП.
2 Павлова Н.С. Иеремия Готхельф // История швейцарской литературы. - В 3-х т. -М., 2002. -T.2. -С. 168.
3 Lindemann К. Jeremias Gotthelfs "Die swarze Spinne". Zur bidermeirischen Deutung von Geschichte und
Gesellschaft zwischen den Revolutionen. 1983.S.9. Цит. по: Павлова Н.С Иеремия Готхельф II История
швейцарской литературы. - В 3-х т. - М., 2002. - T.2. - С167.
преступление. Готхельф рассказывает о страшном грехе, о поветрии зла, охватившем души крестьян»1. В новелле речь, в сущности, идет о вине и ответственности людей за гибель порядка, за победу разрушавших его представлений, за утвердившийся материализм. Новелла глубоко символична - паук, родившийся из щеки Христины, вступившей в сделку с дьяволом, -персонификация чумы - символа заражения, «инкарнация зла и хаоса»2, зла, обитающего в глубинах человеческих инстинктов, которое «лишь на время может быть загнано в узкую щель, как зловещий паук, закупоренный в черной доске» . Анализ Н. Павловой дал толчок к выявлению мотива жертвоприношения и наблюдению его реализации в текстах Дюрренматта.
Безусловно, ценным для нас является и замечание Ю. Архипова о том, что Дюрренматт связывал свое творчество с балаганным театром, отсюда возникало, как отметил исследователь, «свободное обыгрывание непристойностей, брани, грубой эротики, "низа"»4. Эти элементы щедро представлены в пьесах Дюрренматта. Ю. Архипов отмечает их аллегорическую функцию. Например, таковым является мотив навоза -символ затхлой, рутинной жизни - в пьесе «Геркулес» и в пьесе «Визит старой дамы», действие которой происходит в захудалом городишке Гюллен (что на швейцарском диалекте означает «навоз»). На что также обращает внимание ведущий специалист по истории швейцарской литературы Е.В. Любавина: «Auch toponimische Elemente fuhren in die Schweizer Provinz, in eine Stadt, die symbolisch "Giillen" heist. "Gulle(n)" ist soviel wie "Jauche", "Pfutze", im Stuck steht es aber fur St. Gallen, eine Schweizer Stadt in der Nahe des Bodensees»6 Семантика топонима выявляет специфику авторской иронии в обыгрывании автором семантики имен и названий. Все эти замечания определили необходимость исследовать особенности развития карнавальных
1 Павлова Н.С. Иеремия Готхельф//История швейцарской литературы. - В 3-х т. -М., 2002. -T.2. -С. 166.
2 Там же.-С. 168.
3 Там же.-С. 168.
4 Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. - М., 1969. - С.495.
5 Там же. - С.495.
Любавина Е.В. Современная немецкоязычная литература Швейцарии = Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus der Schweiz: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2003 - С.41.
мотивов в творчестве Дюрренматта. Тем более, что связь творчества с балаганным театром отнюдь не случайна - в раннем творчестве автор обращается к созданию текстов для кабаре.
В основе своей популярности «на Востоке» писатель не без основания видел по преимуществу политическую актуальность. Исследователи акцентировали внимание на социальном аспекте и в произведениях Дюрренматта обнаруживали аллегорию проблем современности: «Иносказание передает и комментирует реальность»1, - писала Н. Павлова. Данная точка зрения, безусловно, справедлива, но она спровоцирована (равно как и социально политический аспект восприятия текста) особым художественным дискурсом Дюрренматта. Но каким именно образом? Поиск ответа на этот вопрос и привел к исследованию мифопоэзиса Ф. Дюрренматта с привлечением корпуса новейших исследований дискурсивных практик.
В зарубежном литературоведении творчество швейцарского писателя изучается в ином аспекте. Внимание исследователей привлекает гротескное, шутовское начало , которое проявляется у Дюрренматта в неизбежности гибели, причем комедия получает новые возможности, как отмечал один из самых глубоких исследователей творчества Ф. Дюрренматта Беда Аллеман3; 3. Гримм исследует «эффект очуждения»4, сближая творческий поиск Дюрренматта и Брехта, с чем не был согласен сам Дюрренматт. Западные германисты изучают структурные особенности текста5, художественную
1 Павлова Н.С. Фридрих Дюрренматт. - М., 1967. - С.21.
2 Volker, Klaus: Das Phenomen des Grotesken im neueren deutschen Drama. In: Sinn oder Unsinn? Das Grotesken
im modernen Drama. Fiinf Essays von Martin Esslin [u.a.]. Basel 1962. S. 9-46( = Theater unsererZeit 3). Heuer,
Fritz: Das Groteske als poetische Kategorie. Uberlegungen zu Diirrenmatts Dramaturgie des modernen Theaters. In:
Deutsche Vierteljahrsschrift ffir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 47, 1973, S. 730-768.
3 Alleman B. Friederich Diirrenmatt Es steht geschrieben. In: Das deutsche Drama vom Barock bis zur Gegenwart.
Interpretationen. Hg. Von Benno von Wiese. Bd 2. Diisseldorf, 1958. S. 430-431.
4 Grimm R. Strukturen. Essays zur deutschen Literatur. Gottingen, 1963.
5 Arnold, Heinz Ludwig: Theater als Abbild der labirintischen Welt Versuch iiber den Dramatiker Diirrenmatt. In:
Text + kritik, Heft 50/51, 1976, S. 19-29. Brauneck M. Die Welt als Biihne: Geschichte des europaischen Theaters.
Stuttgart, Weimar, 1993. Bd.l. - S.359. Brock-Sulzer E. Friederich Diirrenmatt. Zur Struktuur seiner Dramen.
Zurich, 1964, S.272.
функцию детали , мотивы и аллюзии. Г. Герц писал о близости рассказа Дюрренематта «Образ Сизифа» творческим исканиям Э. По: «Эта история могла быть написана от начала до конца Эдгаром Аланом По / Diese Geschichte konnte von Anfang bis Ende von Edgar Allan Рое geschrieben worden sein»2. О шекспировских аллюзиях в пьесе «Ромул Великий» пишет К. М. Джослин3, а также обращает внимание и на мотивный ряд, связанный с современной исторической реальностью. Так, в сюжетной линии пьесы «Ибо сказано...» исследователь видит предостережение против тирании фюрера. Однако фигура Иоганна Бокельзона, пророчествующего о том, что он будет колесован спустя три года, но прежде успеет побыть королем перекрещенцев, не просто намек на фюрера (это толкование, конечно же, невозможно оспорить). Бокельзон - «король на час», одаривший своим вниманием множество горожанок Мюнхена, помимо своих 15 жен, поглощающий безмерное количество изысканных блюд, несомненно, фигура карнавальная. Очень важным для нас является замечание Е. Брок-Зульцер о том, что прозаические произведения Дюрренматта наследуют традицию Сервантеса и Свифта и, в связи с этим особым значением обладают фигуры Гулливера, Карлика и Дон Кихота: «Gnmdmustr seiner Kunst treten hier deutlich heraus: die Figur des Don Quichot, das Zwerg - und - Reise-Muster Gulliver. Denn was fur den Dramatiker Diirrenmatt Aristophanes ist, das sind fur den Epiker Cervantes und Swift»4. Но в целом нами не обнаружено ни одной работы, посвященной исследованию мифопоэзиса текстов Дюрренматта, равно как и монографического исследования мифопоэтики швейцарского писателя.
Актуальность исследования Неомифологическое сознание писателей XX века активизирует античные сюжеты и образы. В настоящее время вопрос о том, с чем связана
1 Hienger, J6rg: Lektiirals Spiel und Deutung. Zum Beispiel: Friedrich Durrenmatts Detektivroman Der Richter und
sein Henker. In: Unterhaltungsliterator 1976, S.55-81.
2 Goertz 11. Diirrenmatt. Hamburg: Rowohlt, 2000.S.21.
3 Jauslin Ch. M. Friederich Diirrenmatt. Zur Struktur seiner Dramen. Zurich, 1964, S.20.
4 Brock-Sulzer E. Friederich Diirrenmatt. Zur Struktur seiner Dramen. Zurich, 1964, S.272.
актуализация мифа, античных образов отнюдь не является исчерпанным, тем более это касается творчества Ф. Дюрренматта. Мифопоэзис художественного дискурса швейцарского писателя требует специального изучения. Античные образы, созданные Дюрренматтом: Минотавр, Сизиф, великаны и карлики, проявляют онтологическую глубину текстов. Развитие мотивов жертвоприношения, инициации эксплицирует многоуровневую структуру художественного дискурса. Но ни для отечественных, ни для зарубежных исследователей мифопоэзис, паратаксис художественного дискурса текстов Дюрренматта не оказались предметом монографического исследования. В данной диссертационной работе предпринято исследование не мифопоэтики, а именно мифопоэзиса художественного дискурса Дюрренматта. Это вызвано тем, что для Дюрренматта очень важна процессуалыюсть творчества: структура нарратива вырабатывается по мере становления письма, и нарративный дискурс являет себя как «нечто происходящее», как перспектива, как последовательность знаковых трансформаций и бесконечного смыслопорождения. Кроме того, необходимо было иметь ввиду установку Дюрренматта на отсутствие догматизма, однозначного разрешения поставленной проблемы, единственно возможного взгляда на тот или иной образ, что обнаруживало иные смыслы известных античных мотивов и образов.
Новизна диссертационного исследования заключается в том, что творчество Дюрренматта впервые представлено с точки зрения реализации карнавального мироощущения, что находит воплощение в карнавальном дискурсе текста. Впервые произведения разных жанров рассматриваются как единое текстовое пространство творчества Дюрренматта, а текст конституируется и как театр, и как чтение.
Основная цель диссертационной работы - определить художественно-идеологические и стилевые особенности, имманентную логику развития и смыслопорождающую интенцию повествовательного
дискурса Ф. Дюрренматта, что предполагает постановку и разрешение следующих задач:
Выявить истоки и причины мифопоэзиса в прозе Ф. Дюрренматта, на присутствие которого указывают многочисленные аллюзии на греческую мифологию и архаическое сознание;
Определить содержание и особенности авторской концепции «памяти», обусловленной важнейшими для писателя категориями - «время» и «вечность»;
Дать анализ трагикомической интонации художественного дискурса Дюрренматта.
Методологической основой данной работы являются мифокритический подход с привлечением интертекстуалыюго изучения произведения и историко-культурного метода.
Используются также такие виды анализа, как
герменевтический, связанный с проблемой истолкования текста, позволяющий проникать вглубь речи, «по ту сторону речи» в поисках скрытого смысла, за пределы языка. Этого метода требует экфразис, который «работает» как герменевтический код, в текстах Дюрренматта. Экфразис создает эффект «показа», и язык неизбежно отсылает «за пределы себя самого, указывая на границы языковой формы выражения»1;
мотивный, поскольку в произведениях швейцарского автора обнаруживается устойчивый комплекс мотивов, или, точнее, «темы», как частной реализации мотива, (жертвоприношение, инициация, мистериальные аллюзии, как репрезентация карнавального дискурса), согласно разграничению этих терминов, предложенному бельгийским литературоведом Раймондом Труссоном, для которого «мотив» обозначает в самых общих чертах «безличную ситуацию», участники которой не индивидуализированы (бунт, вражда, месть), в то время как «тема» - частное выражение мотива, его индивидуализация.
1 Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. - М., 1991.-С.65.
Темы и образы, переплетаясь, варьируясь, организуют паратаксис художественного дискурса и создают единый текст.
Развитие одного мотива, его движение сквозь ряд текстов, что неоднократно отмечалось исследователями1, что, вероятно, обусловлено своеобразным диалогическим дискурсом произведений Дюрренматта. Для доказательства этого положения необходим
семиотический анализ текста. Знаковое пространство карнавального дискурса организуют анаграммы, экфразис, литературные и мистериальные аллюзии, которые проступают не на цитатном, а на «знаковом» уровне, не проговариваются, а показываются и создают интертекстовый контакт диалогического дискурса.
О диалогическом дискурсе пишет Ю.Кристева , опираясь на работы М.М.Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». В предложенной Ю. Кристевой типологии диалогический дискурс выделен в противовес монологическому: «Это дискурс 1) карнавала; 2) мениппеи; 3) романа (полифонического)»3. Творчество Дюрренматта - художника (живописца, графика), драматурга, прозаика разворачивается в пространстве именно этого типа дискурса, где язык ускользает из-под власти линейности (закона) и, подобно драме, обретает жизнь в трехмерном пространстве; более того, сама драма воцаряется в языке.
М. Бахтин писал, что «язык романа нельзя уложить в одной плоскости, вытянуть в одну линию. Это система пересекающихся плоскостей... Автора (как творца романного целого) нельзя найти ни в одной из плоскостей языка:
1 Так, в неоконченном романе «Город» впервые разработан, пишет Н.Павлова, «важнейший для
Дюрренматта мотив «лабиринта», повторенный затем не только в повести «Зимняя война в Тибете», но и в
рассказе «Туннель», в новелле «Поручение», в поэтической прозе «Минотавр»». См.: Павлова Н.С.
Невероятность современного мира // Дюрренматт Ф. Избранное: Сборник. - М., 1990. - С.8. Сюжет,
фабульная основа повести «Лунное затмение» были изменены и развиты в пьесе «Визит старой дамы».
2 Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. - М., 2004.
3 Там же.-С. 179.
он находится в организационном центре пересечения плоскостей. И различные плоскости в разной степени отстоят от этого авторского центра»1.
Ю. Кристева развернула это положение в собственном исследовании мениппейной амбивалентности полифонического романа, которая «коренится во взаимной сообщаемое двух видов пространства -пространства сцены и пространства иероглифа, пространства, где происходит репрезентация с помощью языка, и пространства внутриязыкового опыта, системы и синтагмы, метафоры и метонимии. Вот этой-то амбивалентности и наследует полифонический роман» , - пишет исследователь. Именно эта структура присуща произведениям Дюрренматта, что и позволяет выявить знаки мистериалыюго действа в романе «Подозрение», а карнавальный дискурс отчетливо проступает в «комедии в прозе» «Грек ищет гречанку».
В качестве материала исследования выбраны детективные романы «Судья и его палач» (1950 г.) и «Подозрение» (1951 г.), рассказы «Образ Сизифа» (1945 г.) и «Смерть пифии» (1976 г.), «комедия в прозе» «Грек ищет гречанку» (1955 г.), новелла «Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями» (1986), рассказ - «баллада» «Минотавр» (1985 г.), комедия «Визит старой дамы» (1955 г.). В этих произведениях жанровые границы нарушены, исследуемые мотивы находят яркое выражение, что в целом позволяет определить художественный дискурс произведений Дюрренматта как карнавальный или диалогический дискурс, в котором карнавальная топика текста не что иное, как «драматизация, драматическая пермутация (в математическом смысле этого термина) слов»3, то есть текст конституируется «и как театр и как чтение»4.
Для исследования карнавального дискурса текстов Дюрренматта
1 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М, 1975. - С.415-416.
2 Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева 10. Избранные труды: Разрушение поэтики. - М., 2004. -
С. 187.
Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. - М., 2004. -С.181. 4 Там же.-С. 188.
использовались труды М. Бахтина и Ю. Кристевой.
В первой главе данной работы представлен семиотический анализ романа «Подозрение», написанного по законам детективного жанра, одновременно пародируемым. В пространстве карнавально-мениппейной структуры поэтики Дюрренматта этот роман (также как и «Судья и его палач», «Обещание», последний носит подзаголовок Requiem auf den Krimihalroman - «Реквием (или отходная) детективному жанру») вызывает особый интерес, как произведение, пародирующее сам детективный жанр. Пародия - это неотъемлемый элемент «Менипповой сатиры» и вообще «всех карнавализированных жанров»1, - писал М. Бахтин.
Один из признаков карнавализованной литературы - пародирующие двойники. Если в карнавале «разные образы (например, карнавальные пары разного рода) по-разному пародировали друг друга» , то и в «Подозрении» мы находим это пародийное взаимоотражение. Эмменбергером создан двойник - Нэле. А комиссар Берлах - «рыцарь без страха и упрека», Дон Кихот, отправившийся на заклание к Эмменбергеру, не менее трагикомичен, чем журналист - неудачник Фортшиг, бросающийся на ветряные мельницы социальной действительности с пафосом, достойным героя Сервантеса. Тот же принцип взаимоотражений реализуется в системе двойников начиная с ранней, написанной в 1946 году радиопьесы «Двойник» до поздних произведений: двойники Марксы в «Ахтерлоо», Тезей перед Минотавром в маске Минотавра, точная копия Минотавра в одноименной балладе и в повести «Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями», где Тину фон Ламберт почти невозможно отличить от режиссера Ф., а Ф. от молодой датчанки, тем более что героини носят одно и то же красное пальто, а в пьесе «Визит старой дамы» неотличимы друг от друга «громилы, жующие резинку» Тоби и Роби, слепцы Коби и Лоби и безличные бесконечные мужья Клары Цаханассьян: «Подойди, Моби,
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1979. - С. 146.
2 Там же.-С. 147.
поздоровайся. Его, правда, зовут Педро, но Моби звучит красивее. И больше подходит к Бобби - я так зову своего дворецкого. Дворецкого ведь берешь на всю жизнь, вот и приходится приноравливать к нему мужей»'.
Реализацией одной из центральных тем карнавализированной мениппеи, указанной М. Бахтиным, - «амбивалентный - серьезно-смеховой -образ «мудрого дурака» и «трагического шута» карнавализованной литературы»2, оказывается и глупое положение - ловушка Эмменбергера в «Зонненштайн» - в которое попадает умный комиссар Берлах.
Другая тема - особый тип одиночества «мениппейного мудреца», «носителя истины, по отношению ко всем остальным людям, считающим истину безумием или глупостью»3. Для Хунгертобеля борьба Берлаха против Эмменбергера, отстаивание истины - явное безумие. Доктор Марлок и Эмменбергер видят в противостоянии Берлаха безусловную глупость.
В духе мениппеи строятся и диалоги. Причем исповедальные диалоги Марлок и Эмменбергера с их крайним цинизмом, возможно, вариация темы «могильного бесстыдства» - это одна из граней ведущей темы всего творчества Дюрренматта, «темы все позволено (где нет бога и бессмертия души) и в связи с ней темы этического солипсизма»4, - как писал М. Бахтин. В «Подозрении» протагонист «этического солипсизма» - Князь Тьмы Эмменбергер, а в романе «Судья и его палач» - Гастман, заключивший в молодости «дьявольское пари» с Берлахом.
Ю. Кристева исследует карнавальную традицию от греческой мениппеи до Лукиана и Петрония, до средневекового карнавала, и далее -вплоть до Рабле, Свифта, Джойса, Арто и Батая, и отмечает, что смех десакрализованного "я" «все более едкий и действенный» разрушает «монологизм изображающего литературного дискурса, создает обобщающее
1 Визит старой дамы // Дюрренматт Ф. Комедии. - М., 1969. - С.190-191
2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1979. - С. 174.
3 Там же.-С. 175.
4.Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - М., 1979.-С. 177.
зрелище калейдоскопического, множественного письма» . В пространстве этого письма разворачивается действие современного авангардистского текста, «все дальше и дальше углубляется этот текст в «полифонический» -полиграфический, герметический, недоступный для субъектов, вымуштрованных в школе «монологики» . Так, в текстах Ф. Дюрренматта лабиринт письма пронизывает синтаксический, лексический (например, множество анаграмм в произведениях писателя), образный уровень текста, создавая парадигматическую структуру, «калейдоскопическое письмо», непосредственно связанное с лабиринтной системой взаимоотражений персонажей и эффектом экфразиса в текстах Дюрренматта. В символический план текста введен полисемантичный образ - зеркало: зеркальная комната-операционная в «Зонненштайн» в романе «Подозрение» (зеркальный лабиринт Минотавра в одноименной балладе - инвариантный образ!), куда попадает комиссар Берлах, причем, в этом пространстве репродукции полотен Рембрандта и А. Дюрера тоже «работают» как зеркало, последовательно «отражая» перспективу, открывающуюся Берлаху, «картины» возможного будущего, трансформируя пространство романа (как, впрочем, и любые другие картины, репродукции, упоминаемые в произведениях, либо, созданные самим Дюрренматтом), а изображение проступает отчетливо, как если б было встроено в зеркальный параллелограмм.
Карнавальный дискурс знаменует сценическое пространство, как единственное измерение, где театр предстает чтением некоей книги, «продуктивным письмом». Только в этом пространстве способна воплотиться «"потенциальная бесконечность" (термин Гилберта1) дискурса, где находят выражение как запреты (репрезентация, «монологичность»), так и их нарушение (сновидение, тело, «диалогичность»). Именно эту
Кристева Ю. Разрушение поэтики // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. - М., 2004. -С.22. 2 Там же. - С.22-23.
карнавальную традицию впитала мениппея, именно к ней обращается полифонический роман». Ю.Кристева отметила, что «все великие полифонические романы наследуют этой карнавально-мениппейной структуре (Рабле, Сервантес, Свифт, Сад, Бальзак, Лотреамон, Достоевский, Джойс, Кафка)»3. Эти авторы ментально близки мироощущению Дюрренматта, его творческим исканиям, что обусловило вхождение швейцарского писателя в единый диалогический дискурс.
Во второй главе, речь идет о топологии зрительного образа, как художественного, графического, живописного изображения.
Оптический подход к действительности - это глубоко укорененная в европейской культуре визуализация невидимого.
Семантический центр рассказа «Образ Сизифа» - ад на картине Босха, что реконструирует память рассказчика.
Рассказчик наблюдает сквозь полузамерзшее окно за игрой детей. В памяти возникает увиденная ранее картина гибели "одного человека", Между этими точками, отстоящими друг от друга во времени и пространстве, рождается сообщение в момент погружения в воспоминание. Изображение вспыхивает и гаснет - то ли картина, то ли кинематографический стоп-кадр, активизирующий работу памяти.
Наблюдение за игрой детей ведется "с какой-то угловатой лестницы", а память повествователя сохраняет образ какого-то "нагромождения лестниц, коридоров, комнат...". Это метафора лабиринта. Кольцевая композиция рассказа соединяет начало и конец повествования картиной "играющие дети". Так же совпадают точки входа и выхода в лабиринте. В данном случае - в лабиринтном пространстве памяти. Такова семантика удвоения лабиринта на композиционном уровне нарративной структуры текста: тело в запутанном пространстве лестниц, комнат провоцирует движение души в
1 Гилберт Дэвид (Hilbert D., 1862-1943) - немецкий математик и логик, автор работ по математической
логике и математике.
2 Кристева Ю. Слово, диалог и роман // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. - М., 2004. -
С.181.
3Тамже-С182.
лабиринте памяти сквозь идеальное пространство прошлого-настоящего, с единственной целью - пробираясь на ощупь, понять "сущность лабиринта, скрывавшего в своих внутренностях момент величайшего ужаса, момент, который подготавливается постепенным, равномерным усилением страха и наступает тогда, когда мы сразу после резкого поворота натыкаемся на косматого Минотавра"1. Минотавр в центре лабиринта - это метафора пути, возвращения к себе через преодоление дискретности, и обретение в пространстве "импрессированной" души той точки, где берет начало нисхождение вглубь себя, что связано с мотивом адской муки Сизифа и мотивом страха.
Погружение в лабиринт воспоминания соединяется с переживанием онтологического ужаса как феномена инициатической практики. Обретение инициатического опыта - это один из концептуальных мотивов творчества Дюрренматта, тесно связанный с мотивом игры. Поэтому речь идет именно о топологии зрительного образа, а его семиотика связана с концепцией памяти, не умозрительно, но художественно развернутой Дюрренматтом.
Для обоснования этого тезиса во второй части исследования наиболее репрезентативными оказались работы Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Г.Г. Гадамера, Й. Хейзинги, М. Мамардашвили.
В третьей главе диссертационной работы актуализирована онтологическая проблема жертвенного кризиса («комедия в прозе» «Грек ищет гречанку», рассказ «Смерть пифии», пьеса «Визит пожилой дамы»). Для исследования данной темы актуально обращение к трудам О.М. Фрейденберг, Вяч. Иванова «Дионис и прадионисийство», В. Буркерта «Homo Nekans...», Р.Жирара «Насилие и священное», Г.Надя «Греческая мифология и поэтика», П. Видаля-Накэ «Черный охотник».
В данной главе введен концепт «жертвенный кризис», семантическое наполнение которого предполагает, что в акте «нечистого» насилия (насилия вне религиозного жертвенного оформления), которое становится
1 Дюрренматт Ф. Образ Сизифа. // Дюрренматт Ф. Собр. соч.: в 5 т. - М., 1997. - Т. 1. - С.43.
регулярным, стираются различия между нечистым и очистительным насилием, «не только в семье, но и во всём городе <...> распространяется нечистое, заразное, т.е. взаимное насилие»1. В связи с этой проблемой в авангардном театре, в текстах Дюрренматта, в манифестах А. Арто восстанавливается связь с карнавальной традицией. Актуализируется магическая функция карнавальной процессии, о которой писал М. Реутин: «Идентичная по своим задачам крестным ходам христиан, она стремилась втянуть в поле симильной и защитной магии весь город или, по крайней мере, важнейшие его объекты. Карнавал охранял и благословлял средневековый город; он был магической причиной его будущей многолюдности и благоденствия». Именно здесь, в этой магической предназначенности карнавала, прослеживается и реализуется функциональная близость между карнавальным ходом ряженых, мистерией и архаическим жертвоприношением. Не только карнавал, но и мистериальная жестокость также обладала защитным свойством, и явно ритуальный характер сцен жестокости, присущих мистерии, семантически соотносим с ритуалом жертвоприношения, равно как и сам карнавал. В момент созерцания и переживания сцен мистериальной жестокости, страданий Спасителя, при совершении магического ритуала превращения чародея Христа в козла отпущения «подавлялся страх перед возможным насилием» . Однако, по всей видимости, мистериальная традиция должна была разрешить проблему очищения, а не подавления страстей.
Концептуально значимый мотив заражения рассматривается как сквозной мотив в романе "Грек ищет гречанку", в рассказе Дюрренматта «Смерть пифии» эта проблема также заявлена в разговоре верховного жреца Меропса XXVII и пифии Панихии XI, и в диалоге Панихии XI и Тиресия: «Будь проклято мое последнее провидение по поводу этой вечной моровой
1 Жирар Р. Насилие и священное. - M., 2000. - С.64.
2 Реутин М.Ю. Народная культура Германии. - М., 1996. - С.32-33.
3 Указанная точка зрения представлена в работах: Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность
немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. - М., 2002. - С.58.
Fischer-Lichte Е. Semiotik des Theater: 2 Bd. Tubingen, 1994-1995. Bd. 1.S.87.
язвы! Вместо того чтобы сделать приличную канализацию, подавай им опять очередное пророчество» [1; т.1, с.469]. Фивы поражены чумой, а «с чумой мы попадаем уже в атмосферу современной вирусной медицины. Есть только больные...», - писал Р.Жирар. Но фиванская чума нечто большее и иное, чем просто вирусная болезнь под тем же названием. Она оказывается следствием некоего состояния, в котором пребывает мир. Причиной заражения и оказывается жертвенный кризис, охвативший мир в целом, не только какую-то страну, или локальную человеческую общину. Основная цель заключительной главы - выявить художественную манифестацию жертвенного кризиса в тексте Ф. Дюрренматта, привлекая широкий культурологический и литературный контекст.
Великаны и карлики Фридриха Дюрренматта
Сюжетная связь этих образов, равно как и положение вне человеческого общества, укоренена в мифологии. Карлики и великаны функционально близки. Помимо того, что те и другие являются тератологическими существами, что в определенном смысле подчеркивает их изоморфизм, они, практически не соприкасаясь в большинстве мифологических сюжетов, могут быть взаимозаменимы: «если в греческой мифологии небо поддерживает великан, то в скандинавской - карлики. Те и другие могут выступать как мастера ... они ... занимают промежуточное положение между временем мифов и историческими эпохами»1. В мифологическом противопоставлении - великаны-карлики - прослеживается оппозиция природа-культура («великаны ближе к природе, а карлики к культуре» ). Этот подтекст находит своеобразное инверсионное воплощение в романе Дюрренматта. Уродство карлика - старообразное лицо, рост - 80 сантиметров - «курьез природы», как выразился Эмменбергер, тогда как
Мифы народов мира. В 2 т. - М., 2003. - Т. I. - С.623. 2Тамже.-С623. уродство еврея Гулливера имеет «культурное» происхождение - это «искусство» нацистских палачей, в том числе врача концлагеря Штуттхофе Эмменбергера. Именно в Штуттхофе между Гулливером и карликом возникает глубокая привязанность: «Мой бедный минотавр, мой изувеченный домовой, столько раз засыпавший кроваво-красными ночами в Штуттхофе в моих объятиях, стеная и плача, ты единственный друг моей бедной еврейской души!» [12, с. 193], - говорит Гулливер, вновь встретив карлика в клинике Эмменбергера.
Внутри этого же монолога есть и другое обращение Гулливера к карлику: «Ты, сыночек мой, ты, мой мужской корень, мой заросший Аргос...», обращение, смысл которого остается совершенно неясным вне мифологического контекста.
В мифах существует представление о карликах, как о прошлом
населении данной территории, о прошлом поколении, поэтому, возможно, в качестве компенсации малых размеров, у карликов «подчеркиваются признаки зрелости и даже старости (длинная седая борода и т.п.)». Так, например, карлик в одноименном романе Пера Лагерквиста говорит о себе: «Из-за морщин я кажусь очень старым. Я не стар. Но, как я слышал, мы, карлики, принадлежим к более древней расе, нежели те, что населяют ныне землю, и потому уже рождаемся стариками»1. В романе «Подозрение» у карлика «старообразное лицо». Кроме того, карликам присуща «явно выраженная эротическая функция», она оказывается «весьма устойчивой и в постмифологических фольклорных образованиях, сохраняясь и в современных формах фольклора и даже в литературе» . Возможно, это как-то и приближает нас к пониманию слов Гулливера: «ты, мой мужской корень...», но все же мало что объясняет. Связь с прошлым оказывается, в этом контексте более актуальной. И объяснением этой энигматичной фразы Гулливера «ты, мой мужской корень» может служить исследование мужской онтологии, предпринятое А. Дугиным с позиций Традиционализма, где мужское было не просто человеческой, но и сверхчеловеческой световой осью реальности, к которой все стягивалось и от которой все расходилось: «Муж - это трансверсальная ось, живой универсальный ритм, жизненный пульс, а не статическая кодификационная абстракция. Какое сходство между самцом среди животных, ангелом среди духов и мужчиной среди людей? Между ними существует некая вертикальная связь, принадлежность к единой проекции. Один и тот же луч божественного миропорядка, один и тот же луч светового начала, один и тот же сектор световой онтологии, падая на различные грани реальности, попадая в различные материальные среды, образует там многомерные завязи: в разреженном горнем мире этот луч порождает ангелическое существо, в более плотном материальном мире он образует мужчину, в еще менее разреженном и грубом пространстве материи возникает бык или боров. ... Все начинается с этой принципиальной завязи - световой луч падает на глину...»1. «Мужской корень» - это и есть та глинистая «завязь» из которой и был сотворен первый человек - Адам, призванный реализовать в себе световое сверхчеловеческое начало, к чему так близок оказывается Гулливер-Агасфер. Но почему есть основание обнаружить в Карлике глинистую «завязь», некое недочеловеческое архетипическое образование?
Гулливер видит Карлика существом подобным себе, находит в нем свое основание, а для Эмменбергера Карлик - это «смехотворная штуковина», «полезный инструмент», который он «прихватил с собой из Штуттхофа и заставил служить определенным целям. Он создал себе карлика-слугу. Карлик-убийца - вот творение Эмменбергера: «ты скользнул в световую шахту, моя большая саламандра, потому что тебя уже тогда, в
1 Дугин А. Философия традиционализма. - М, 2002. - С.356-258. городе издевательств, выдрессировал для таких фокусов злой колдун Нэле, или Эмменбергер, или Минос - разве я знаю как его звали? На, кусай мои пальцы, мой песик!», - говорит Гулливер. Мотив сотворения маленького слуги-помощника соотносится, с одной стороны, с алхимическим выращиванием «маленького человечка» - «гомункула», с другой стороны, напоминает сотворение голема - помощника. Голем потом начинает расти, а изначально был создан маленьким. Но здесь принципиально важно то, что эти мотивы обладают единой основой - это сотворение самого человека Богом: Адам, до того как Яхве, Тетраграмматон, вдохнул в него душу, был големом сотворенным магическим способом, аналогичным тому, которым средневековые каббалисты создавали голема из глины. Бог не лепил Адама «руками», а, условно говоря, ходил вокруг его потенциального местонахождения, кружился вокруг него в танце, тот постепенно превращался в куклу, - так в свете эзотерического направления иудаизма, названного «меркаб-гнозис» - учение, связанное со школой пророка Иезекииля - говорится о сотворении человека, и Гершом Шолем использует этот момент для интерпретации одной таинственной фразы из псалмов Давида: «Мой Голем, Твои глаза видели его» . Сотворение человека Богом является архетипическим актом и продуцирует бесконечное стремление человека сотворить себе помощника. В этот смысловой ряд включается и мотив «звероподобия» человеческого существа (человеку стать человеком в полном смысле еще только предстоит) и, поскольку здесь же актуализировалась и связь с прошлым, мотив обретения: «Ты сыночек мой, ты, мой мужской корень, мой заросший Аргос, - Одиссей вернулся к тебе из своих бесконечных странствий» [12, с. 193]. «Сыночек», равно как и «Аргос» - символы обретения. Аргос - это вовсе не топоним, как следует из комментария В.Седельника к роману: «Аргос - древнегреческий город на острове Пелопоннес...» [12, с.584].
1 Дугии А. Философия традиционализма. - М., 2002. - С.603-604. См. так же: Гершом Шолем. Основные течения в еврейской мистике. В 2 т. - Иерусалим, 1993. Первым существом, узнавшим Одиссея по возвращении на Итаку, был его охотничий пес Аргус.
Эмменбергер «выдрессировал» карлика «наилучшим образом», Гулливер в машине Хунгертобеля «услышал за спиной радостное повизгивание нашедшей хозяина запаршивевшей собачонки» [12, с.194], он подзывал к CQ6Q карлика, таким свистом, каким «обычно подзывают собак». Униженность человеческого естества в карлике проявляется по-разному - и в издевательствах Эмменбергера и в утешении Гулливера:
- А вот и ты, моя обезьянка, мой зверек, мое адское чудовище, - ласкал еврей карлика певучим голосом. - Мой бедный минотавр... Что же нам делать с этим маленьким зверенышем, который тоже человек, с этим человечком, которого низвели до звериного существования и который перед всеми нами ни в чем не повинен? [12, с.194]
Граница времени в перспективе шахматной игры
Образ "Краснопальтишника"-"Сизифа" вызван воспоминанием о наблюдении за игрой детей. Какова связь между тем и другим образом в связи с концепцией памяти? Мотив игры в рассказе, связанный с мотивом адской сизифовой муки, является смыслонесущим. Семантика его в рассказе амбивалентна. Тот или иной смысл проявляется при определенных обстоятельствах.
Дети, играя, тщательно собирают и столь же тщательно разбирают карточный домик. Краснопальтишник - промышленник, обладатель огромного состояния, поднявшийся из самых низов, вследствие некой хитроумной комбинации. Он сравнивается с шахматистом, а его "поединок" с банкиром за обладание картиной Босха напоминает схватку двух противников, "любящих действовать тайно, когда все средства дозволены. ...каждое отступление тщательно продумывалось и каждый шаг мог принести гибель... У Краснопальтишника было преимущество первого хода, в таких ситуациях обычно решающее. ...Краснопальтишник действовал как те шахматисты, которые идут на любые потери ради крошечной выгоды, и, пожертвовав всем своим состоянием, сумел лишить состояния банкира и завладеть картиной" [1,с.42]. Краснопальтишник стратег - "шахматист". Это фигура знаковая. "Образ Сизифа" - не единственный рассказ, где появляется этот персонаж. В бумагах писателя после смерти была обнаружена зарисовка "Шахматист", которая могла бы лечь в основу, как рассказа, так и пьесы, но не вошла ни в одно регулярное собрание сочинений. Произведение было опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung от 5.09.1998. Данная вещь - типичный пример дюрренматтовского подхода к драматургии, где сюжет, по словам автора, «додуман только тогда до конца, когда принимает наихудший из оборотов» [5, с.531]. Мотив игры в зарисовке «Шахматист» позволит нам выявить суть актуализированной в рассказе «Образ Сизифа» оппозиции детской игры "карточный домик" и игры в шахматы, причем образ второй вызван созерцанием (в воспоминании!) первой. И рождает эту ассоциацию, вероятно, та серьезность, скрупулезность, с какой дети строят свой карточный домик. А оппозицию шахматной игре провоцирует сам образ играющих детей, наполненный глубоким символизмом: «Чтобы действительно ифать, человек должен, пока он ифает, вновь стать ребенком», - писал нидерландский исследователь ифы как феномена культуры Иохан Хейзинга.
Семантическая глубина этого образа позволяет говорить и о третьем превращении духа Заратустры Ницше:
«Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, ифа, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения /священное "Да"/1 (пер. В.В. Рынкевича).
Да, для ифы созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир» .
Кроме того, поскольку Ф.Дюрренматт задает онтологические координаты художественному произведению введением в текст мифологических образов (в рассказе «Образ Сизифа» онтологизирует повествование само имя - Сизиф в названии текста и последующее переосмысление этого образа, равно как и образа Минотавра), мы вправе включить в ассоциативный ряд и образ гераклитовой вечности, так как образ играющих детей, непосредственно связанный с воспоминанием рассказчика, если не отсылает непосредственно, то неизбежно вызывает в памяти известный фрагмент Гераклита: «Вечность есть ифающее дитя, которое расставляет шашки: царство [над миром] принадлежит ребенку» - Aicbv лшс; єаті jraiqcov, TTECGUOOV ЛШ86 ; T\ раочАціг) («Век мира - дитя разыгрывает его в
Ницше. Ф. Так говорил Заратустра: филос. Поэма/Пер. В.В. Рынкевича.-Алма-Ата, 1991.-С.23. 2 Ницше. Ф. Собр.соч.: в 2 т. - М.,1997. - Т.2. - С.19. настольной игре; владычество - детской игры»). Эта ассоциативная связь особенно интересно раскрывается в контексте онтологической мысли М. Хайдеггера, поскольку, обращаясь к Гераклиту, философ говорит об «отваге» - выбрасывании в опасность и значит, участии или со-участии в игре бытия, полной опасности и «незащищенности»: «Растение, животное и человек, поскольку они вообще сущие, тот есть отваженные, сходны в том, что они не защищены как-то особо. ... В качестве отваженных они хоть и беззащитны, но не брошены»1. И далее Хайдеггер делает очень важное замечание о том, что в средние века слово «весы» и «опасность» означали одно и то же. Это замечание знаково, поскольку в рассказе «Образ Сизифа» («Das Bild des Sisyphos») герой вступает в игру с жизнью, все бросая на чашу весов. Эту деталь акцентирует немецкий исследователь, автор монографии о Дюрренматте Генрих Герц: «Die Herren werfen fur Sisyphos alles in die Waagschale und richten sich gegenseitig zugrunde» /Господа за «Сизифа» все бросают на чашу весов и обоюдно погибают/ (пер мой. - В.П.). Опасность Краснопальтишник принимает, включается в игру, но, в то же время, как несостоятельный игрок, оказывается вне игры. Его ошибка - целеполагание.
Этот аспект проявляет онтологическую близость художественного видения Дюрренматта и философских изысканий Хайдеггера, при всей нелюбви писателя к философии последнего, вследствие чего может возникать в произведениях Дюрренматта ироничное переосмысление отдельных положений немецкого философа. Хайдеггер обращает наше внимание на онтологическую близость слов «весы» и «опасность» в связи с общим для них отношением к движению, игре бытия: «Слово «весы» в значении «опасность» и в качестве названия прибора происходит от «вести», «везти», проделывать путь, то есть двигаться, быть в движении. Двигать означает приводить в движение: взвешивать. ... То, что взвешивается, обладает весом, «отваживать» означает: вводить в движение игры, класть на
Хайдеггер Петь-для чего? // Рильке P.M. Прикосновение. -М., 2003. -С. 191. 2 Goertz Н. Diirrenmatt. / Rowohlt. - Hamburg. 2000.S.21. весы, ввергать в опасность». Ироничной аллюзией (впрочем, не исключающей онтологической глубины!) на этот пассаж могут восприниматься слова «игрока» Эмменбергера из романа «Подозрение»: «Молодец! Для моих лабораторных опытов мне всегда требовались отважные люди; жаль только, что мое наглядное обучение всегда завершалось смертью ученика. Ну ладно, поглядим, во что я верую, и положим эту веру на одну чашу весов, а потом, когда мы на другую чашу положим вашу, проверим, у кого из нас обоих она весомее» [12, с. 184]. И здесь, как и в рассказе «Образ Сизифа», противники все бросили на чашу весов - этот устойчивый мотив «бросания всего» на чашу весов вновь связан с мотивом шахматной игры: Берлах и Эмменбергер - игроки в шахматы. Причем их игра ведется на границе ratio (конкретного, рассудочного целеполагания) и соучастия в игре бытия, и малейшее отклонение к абсолюту ratio гибельно: «Вы можете без предубеждения обсудить со мной дело Эмменбергера - Берлаха, - говорит Эмменбергер. - Мы с вами оба научные работники, только цели исследований у нас противоположные, мы шахматисты, играющие за одной доской. Но игра эта особенная: проиграет либо один, либо оба. Вы вашу игру уже проиграли, и теперь мне любопытно, проиграю ли я свою.
- Вы ее проиграете, - тихо проговорил Берлах. Эмменбергер рассмеялся.
- Возможно. Я был бы плохим шахматистом, если бы не предусмотрел такого исхода [12, с. 177].
И те же онтологические законы шахматной игры ведут партию Гастмана и Берлаха в романе «Судья и его палач»: «Ты назвал глупостью совершение преступления, потому что нельзя обращаться с людьми как с шахматными фигурами, - говорит Гастман, вспоминая заключенное в молодости пари с Берлахом. - ... Твоя честность никогда не подвергалась искушению, но твоя честность искушала меня. Я заключил смелое пари Хайдеггер М. Петь-для чего?//Рильке P.M. Прикосновение.-М., 2003.-С. 192. совершить в твоем присутствии преступление, и совершить его так, чтобы ты не мог доказать его» [13, с.45]. И Берлах, утверждавший невозможность обращения с людьми, как с шахматными фигурами в споре с молодым Гастманом, в конце концов, разыгрывает с ним последнюю партию, «натравив» на своего вечного противника Чанца - убийцу Шмида, своей «последней надежды»:
Карнавальные мотивы и проблема жертвенного кризиса в романе ф.дюрренматта «грек ищет гречанку»
В произведениях Дюрренматта явственно ощущается кризисное состояние мира, а смерть пифии в одноименном рассказе знаменует упадок рода Кадма и закат фиванской культуры. При этом мотив заражения -фиванская чума - оказывается совершенно особым культурным знаком, а острое переживание кризиса эпохи, присущее Дюрренматту, оказалось связанным, так или иначе, со смеховым аспектом.
Перерождение Архилохоса в романе «Грек ищет гречанку» связано с осмеянием - церемониал бракосочетания с Хлоей оборачивается карнавальной травестией: восхваляемый Архилохос - «Наэлектризованная
«...Вульф огромной глыбой восседал в кровати, со всех сторон обложенный полушками, а на одеяле покоился поднос с завтраком. Как всегда, ровно в восемь утра, Фриц приносил завтрак в его спальню на третьем этаже. Стрелки на часах сейчас показывали восемь пятішнать, а потому в ненасытной утробе Великого Сыщика уже исчезли персики, сливки, изрядная часть здоровенного ломтя бекона и две трети яичницы, не говоря уже о кофе и пюре из зеленых томатов. Хотя черное шелковое одеяло было откинуто, приходилось приглядьіваїься, чтобы уловить іраницу между ядовито-желтой перкалевой простыней и пижамой такого же замечательного цвета... Гора в желтой пижаме чуть колыхнулась...». Стаут Р. «Требуется мужчина» толпа бесновалась и орала: «Да здравствует Архилохос!», «Виват Хлоя!»[6, с.219] - превращается в осмеянного и гонимого «заслуженного рогоносца нашего города» [6, с.225]. А смех в романе вообще начинает звучать только с момента появления Хлои-Венеры. Смех радостный, предрекающий рождение чего-то нового, в противовес никогда не смеющемуся, слишком серьезному Архилохосу:
- Принесите мне ещё молока, - проговорил он наконец...
- О, - рассмеялась Хлоя, - мне тоже.
- Мадемуазель Салоники, - с трудом выдавил из себя Архилохос. Казалось, он произносит свой смертный приговор. - Я, может быть, уже и не настоящий грек....
- Грек всегда остается греком, - рассмеялась Хлоя. Потом она надела на него очки, и Опост принес ещё молоко.
Причем, то молоко, что пьют Архилохос и Хлоя в момент первой встречи, обладает цветовой символикой, значение которой указывает на мифологический контекст. Как отметил Л. Карасев, «белое - это чистое и светлое, то есть нечто родственное свету ... Красное и белое - двойственны, обратимы, подвижны, текучи - как две важнейшие жидкости жизни: кровь и молоко ... Красный же и белый цвет объединяются со смехом по праву» . Красный цвет - это, прежде всего, кровь самого Архилохоса - жертвенная кровь «фармака», впоследствии вспомнившего, как он «упал на жесткую землю, окрасив её своей кровью» [1, с. 340].
Архетипический изоморфизм молока и крови проявляется и в античных произведениях искусства, например, на картине Аристида Фиванского, что описал Плиний Старший в «Естествознании» [XXXV, 98]. Эта картина, как отмечает П. Киньяр, «так понравилась Александру, что он похитил ее во время разграбления города (Фив. - В.П.) в 334 г. до н.э.: Город захвачен; мать смертельно ранена; младенец тянется к ее обнаженной груди.
Взгляд матери исполнен ужаса; ребенок сосет ее кровь вместо молока, иссякшего в бездыханной груди»1. Киньяр останавливает внимание на этом моменте - «мать, питающая кровью своего ребенка» и заключает: «Это миг смерти». Но, быть может, и апофеоз жизни? Неслучайно в обоснование глубинной, изначальной, архетипической связности сексуальности и питания, именно как торжества жизни (так активизируются эти проявления на «празднике жизни» - карнавале) Роже Кайуа акцентирует внимание на таких «массовых фактах»: «во-первых, в период вынашивания, в первый период своего существования, зародыш паразитирует на теле матери, питается его веществом, а уже после рождения на свет продолжает высасывать свою пищу из женщины» . И когда Пассап говорит Архилохосу: «Из вашей голой невесты я сделал шедевр ...» ... В то время как Архилохос превратит ее в «мамашу с выводком пискунов», тем самым разрушив «шедевр, созданный природой», то подоплека этого монолога именно такая -разрушение рождающейся жизнью тела, давшего жизнь новому организму.
Кроме того, сопряженность сексуальности и питания, на которую указывает далее Роже Кайуа, особенно символична в связи с тем, что Аристида Фиванского, чьей кисти принадлежала картина, так же, как Павсия и Никофена, называли «порнографами», т.е. «они писали картины с эротическими сценками»3. Это проступает в сюжете картины, где подспудно явлен изоморфизм питающей и порождающей жидкости - крови и молока и, следовательно, «сопряжение сексуальности и питания», как отметил Р. Кайуа, которое «глубоко заложено в нашей биологической основе»4, что обнаруживает изначальную тератоморфность человеческой природы и, в свою очередь, обладает архаической атрибутикой. П. Киньяр рассказывает о глиняных статуэтках, обнаруженных в 1898 г. в Приене, «что в устье
Меандра, напротив Самоса»: «Это были грубо вылепленные женские фигурки; широкое плоское лицо переходило прямо в живот с зияющим отверстием чрева и парой коротких ног. Оба «рта», и верхний и нижний, почти сливались. Это была жрица Баубо, чревоголовая женская богиня»1. И, поскольку Баубо - baubon (=olisbos - «кожаный или мраморный фасцинус») - «языческий идол в женском обличье», так же как и Приап, «одновременно и пугает и вызывает смех», то становится понятно, почему с появлением Хлои в романе начинает звучать смех. Это все тот же эротический смех, который аккумулирует весь спектр значений: и смех невесты, дающей согласие на брак («я прочла в «Ле суар» объявление: грек ищет гречанку. И тут я решила, что полюблю этого грека, только его и никого больше»), и смех-возрождение, предшествующий пробуждению в Архилохосе архетипического Ареса: «Вы просто скованы, ещё не развернулись. По натуре вы горький пьяница и распутник. О лучшем Аресе я и не мечтал», -говорит Пассап, заставляя Архилохоса позировать, и смех-преображение, как жениха, так и невесты: «Мне надоело мое ремесло, это тяжелый хлеб, как и каждый, честно заработанный хлеб. ... Я мечтала о любви...». Ведь Хлоя -куртизанка-девушка, как античная Афродита - вечно девственная владычица «в царстве темных и примитивных инстинктов», - говорит Архилохосу о Хлое президент. Недаром хтоническая Афродита, подобно восточным богиням плодородия, «появляется в сопровождении свиты диких зверей -львов, волков, медведей ... и является одной из хтонических сил»2. Кроме того, тотальная неспособность Архилохоса увидеть - кто перед ним, как о том говорит Хлоя: «Ты думал я честная девушка, ты совершенно не знал жизни, и ты никак не мог догадаться, чем я занимаюсь, хотя Жоржетта и ее муж поняли все с первого взгляда» [6, с.256], еще вовсе не свидетельствует о его полной «близорукости». Конечно, налицо буквализация метафоры -Архилохос действительно близорук. И это «близорукость» во всех смыслах:
«... ты никак не мог догадаться... Твою слепую любовь надо было разрушить», но не только. Архилохос, задавшись целью познакомиться именно с девушкой, так и воспринимает Хлою - как девушку. Его «идеал» оказывается «реальней действительности», вопреки предупреждениям Жоржетты: «О девушке забудьте... У вас никогда не было женщины».
Хлоя - Венера. Это Архилохосу стало оче - видно. Посредством творчества всё того же Пассапа:
«от одной картины он прямо таки отпрянул, хотя на ней, собственно, не было ничего особенного - всего лишь два эллипса и парабола, написанные синим кобальтом и охрой. Некоторое время Архилохос смотрел на эту картину, покраснев до корней волос и судорожно сжимая в руке букет, потом в паническом ужасе, обливаясь потом и одновременно дрожа от озноба, рванулся прочь ...
- Вы написали мою невесту Хлою обнаженной, - с трудом произнес грек.