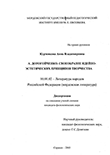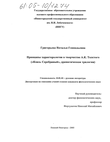Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Сущностная двойственность литературы и риторика неопределенности 25
1.1. Концепция сущностной двойственности литературы: генезис, контекст 27
1.1.1 С.Малларме и критическое сознание литературы (поэтика) 27
1.1.2. Ж.Полан и проблема «общих мест» (риторика) 34
1.1.3 Ж.-П.Сартр и автономия литературы (политика) 40
1.2. Риторика неопределенности как стратегия сущностной двойственности литературы 49
1.2.1. Нейтрализация атрибуции: сущность без сущности, литература без основания 49
1.2.2. Стратегия терминологического пересмотра и условие перехода 58
Выводы к первой главе 69
Глава 2. Симуляция и диссимуляция повествовательного голоса»: полемика с логосом 71
2.1. Принципы симуляции и диссимуляции «повествовательного голоса» («Aminadab », «Thomas l'Obscur ») 72
2.1.1 Нарушение принципа сигнификации : знак, символ, жест 72
2.1.2. «Жажда (не)понимания» 78
2.1.3 Модальность симуляции: кажимость, видимость, подобие 87
2.2. Игра с законом: стратегия вторичной фигурации («La Folie du jour ») 100
2.2.1. «Безумие света»: принцип вторичной фигурации 101
2.2.2. Ирония «точки зрения»: семантический промежуток 105
2.2.3 Игра с законом: нарративный промежуток 110
2.2.4. Безумие «точки зрения» 117
Выводы ко второй главе 123
Глава 3. Нарративная дистанция и нарративная инстанция: интервал «множественной речи» 125
3.1 Речь в перспективе письма: нарративная дистанция 126
3.1.1. «Кто говорит?»: инстанция и дистанция 126
3.1.2 «Тот, кто пишет»: письмо, наррация, диалог 136
3.2. Нестабильность дискурсивной позиции: перемещения « je » относительно трех « il » 140
3.3. Комментарий: речь «различающего повторения» 153
3.3.1. Прямая и косвенная речь комментария: близость, отдаление, возобновление 153
3.3.2. Динамика комментария : «tre clou sur place » 159
3.4. Интервал «множественной речи» 167
3.4.1 «Место» речи и интервал письма: «избыток места» 167
3.4.2 «В желанный миг» письма 176
Выводы к третьей главе 185
Заключение 187
Библиография
- С.Малларме и критическое сознание литературы (поэтика)
- Риторика неопределенности как стратегия сущностной двойственности литературы
- Нарушение принципа сигнификации : знак, символ, жест
- «Кто говорит?»: инстанция и дистанция
Введение к работе
Актуальность исследования связана с необходимостью глубже понять ситуацию во французской словесности 1940-1950 годов, а также новаторством и многогранностью творчества Бланшо, совершенной его неизученностью в отечественном литературоведении, с недостаточной изученностью влияния Бланшо на французскую литературу и культуру второй половины ХХ века в целом.
Объектом исследования стала концепция литературы и ее реализации в художественном и критическом творчестве М.Бланшо.
Предмет исследования составили художественные стратегии создания
и поддержания неустойчивости «повествовательного голоса» в
художественном и критическом творчестве М.Бланшо.
Цель работы заключалась в изучении художественных стратегий создания и поддержания неустойчивости «повествовательного голоса» как способа реализации концепции литературы в творчестве М.Бланшо.
Материал исследования составили rcits («рассказы»)1 Бланшо: « La Folie du jour », « Celui qui ne m’accompagnait pas », « Au moment voulu », « L’Attente l’oubli », романы «Thomas l'Obscur», «Aminadab», а также критические эссе, преимущественно вошедшие в сборники «Faux pas», « La Part du feu », « L'Espace littraire », « Le Livre venir ». Художественные и критические тексты Бланшо, составившие материал исследования, относятся к так называемому фикциональному периоду творчества Бланшо, то есть были впервые опубликованы с 1941 по 1962 годы. К анализу также привлекались художественные и критические тексты других авторов
1 Жанровая форма rcit, которую для удобства изложения мы передаем на русский
язык как «рассказ» (термин введен в контекст творчества Бланшо переводчиком его малой прозы В.Лапицким), не имеет аналогов в отечественной словесности. Кавычки мы используем, чтобы подчеркнуть несоответствие rcit и жанровой формы рассказа в отечественной литературе, а также чтобы отметить парадоксальную природу текстов, относимых к rcit.
(ПВалери, С.Беккета, Ж.-П.Сартра, Ж.Полана), необходимые для раскрытия художественных и полемических функций прозы и критики Бланшо.
Достижение поставленной цели потребовало решения ряда исследовательских задач:
рассмотреть концепцию литературы Бланшо в синхронической и диахронической перспективе, для чего потребовалось проанализировать критическое творчество Бланшо с точки зрения наличия элементов заимствования и полемики, а также проанализировать концепцию литературы или ее элементы в творчестве других французских писателей и деятелей литературной сцены (С.Малларме, Ж.Полан, Ж.-П. Сартр);
выделить элементы художественного присутствия в критическом дискурсе, а также проанализировать полемическую функцию поэтического императива критических текстов Бланшо;
исследовать основные принципы «повествовательного голоса», для чего потребовалось: а) проанализировать ранние художественные тексты Бланшо 1940-х годов (романы « Thomas l'Obscur », «Aminadab») с точки зрения стратегии полемики с логосом; б) выделить основные структурные элементы смещения метафоры света-знания; в) проанализировать способы создания недостоверности с точки зрения модальной организации романов;
на основе выделенных принципов «повествовательного голоса» проанализировать семантическую и нарративную организацию «рассказа» «La folie du jour»;
на примере жанровой формы rcit изучить способы проблематизации субъекта речи во французской литературе середины ХХ века ;
выделить основные способы проблематизации субъекта речи в творчестве Бланшо на материале «рассказа» «Celui qui ne m'accompagnait pas», для чего потребовалось: а) проанализировать динамику дискурсивной инстанции в «рассказе»; б) рассмотреть особенности нарративной организации «рассказа» с точки зрения динамики прямой речи и косвенной речи комментария; в) проанализировать особенности повторения в
«рассказе».
Методологической основой исследования послужили структурно-
семиотический и историко-литературный подходы. Теоретическую основу
составили работы Р.Барта, М.М.Бахтина, А.Л.Гринштейна, Ж.Женетта,
Г.К.Косикова, Ю.М.Лотмана, Э.Марти, Н.Т.Пахсарьян, Н.Т.Рымаря,
М.Ямпольского. В исследовании привлекались работы по семиотике и
дискурсивной лингвистике Э.Бенвениста, Ж-К.Коке; труды, посвященные
поэтике rcit («рассказа») Д.Рабате, Ж.-И.Тадье, а также работы по
французской литературе Л.Г.Андреева, С.Н.Зенкина, С.Л.Фокина. Среди
исследований, посвященных творчеству Бланшо, особенно ценными
оказались работы Д.Вилема, Ж.Деррида, Ф.Коллен, Ж.-П.Куртуа,
В.Лапицкого, А.Скидана, М.Фуко, А-Л.Шульте-Нордольт.
Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что
исследование литературного творчества Бланшо («рассказов», романов,
критических работ) предпринимается впервые в отечественном
литературоведении. Впервые проводится комплексный анализ
художественного и критического творчества Бланшо «фикционального»
периода в контексте эстетических поисков французской словесности 1940-
1950-х годов. В научный оборот вводится большой корпус не переведенных
на русский язык критических и художественных текстов Бланшо (в
частности, статьи из сборников «Faux pas», « La Part du feu », « Le Livre
venir », «L'Entretien infini»; романы «Thomas l'Obscur», «Aminadab»), а также
некоторые тексты его современников (Ж.-П.Сартр, Ж.Полан). Романы и
«рассказы» Бланшо изучаются в перспективе реализации концепции
сущностной двойственности литературы. Критические тексты Бланшо, как в
отечественном, так и в зарубежном литературоведении впервые
рассматриваются с точки зрения поэтического императива.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем впервые ставится проблема «повествовательного голоса», не исследованная ранее в отечественной филологии. Проблемы «повествовательного голоса»
анализируются в дискурсивной и нарративной перспективе, а также с точки зрения концепции «множественной речи» Бланшо. На материале литературного творчества Бланшо выделяются нарративные категории интервала и дистанции, которые рассматриваются в контексте принятых в литературоведении категорий точки зрения и нарративной инстанции, выделяются и анализируются принципы симуляции и диссимуляции.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использовать ее при подготовке, комментировании и издании переводов произведений Бланшо на русский язык, а также при составлении сборников и антологий французской литературы и французской литературной критики ХХ века. Результаты диссертации могут быть использованы при подготовке лекционных курсов (семинаров и спецкурсов) по истории зарубежной литературы ХХ века, по истории и философии культуры, по эстетике и семиотике культуры. Анализируемые в работе отрывки из произведений Бланшо могут быть использованы на занятиях по анализу дискурса и интерпретации текста.
Апробация результатов исследования проводилась на следующих российских и международных конференциях: научная конференция «Литература XX века: итоги и перспективы изучения» (Десятые и Одиннадцатые Андреевские чтения, Москва, 2012, 2013); международная научная конференция «Игра. Текст. Культура» (Самарская государственная областная академия (Наяновой), Самара, 2013); международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2009» (МГУ, Москва, 2009); научная конференция «Французский язык в современном мире» (Самара, СГПУ, 2010); ежегодные научно-практические конференции аспирантов и преподавателей ПГСГА (Самара, 2010-2013); межвузовские научно-практические конференции студентов и аспирантов (СГАСУ, СаГА, Самара, 2010-2012) и др.; на круглых столах и семинарах: на круглом столе «Maurice Blanchot : romans et rcits» (Paris-Nanterre, Париж, 2010); на семинарах университета Paris-Diderot (Paris 7): « Histoire du rcit au XX sicle » (dir.
D.Rabat, Париж, 2013) ; «Le Neutre : Roland Barthes, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze » (dir. E.Marty, Париж, 2014) ; на докторантских семинарах cole Doctorale 131 (Paris-Diderot) : «Chaos », « Clich » (Париж, 2013, 2014) ; на заседаниях Лаборатории семиотики культуры (СГОАН, руководитель А.Л.Гринштейн) (Самара, 2013-2014), на заседаниях аспирантского объединения ПГСГА (2010-2013).
Основные положения диссертации отражены в 14 научных публикациях на русском и французском языках.
Структура работы определяется поставленной целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 395 источников, в т.ч. 212 на французском и английском языках.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Принцип сущностной двойственности литературы выступает в творчестве Бланшо одновременно в качестве полемической стратегии и творческой программы. При этом проблематизируется и размывается само разграничение объекта и метода дискурса, происходит активная интерференция и взаимовлияние критического и художественного модусов, в результате чего критический дискурс заимствует принцип неопределенности и многозначности, а художественный дискурс — принцип критики, который и определяет (авто)гетеро-рефлексивный характер прозы Бланшо.
-
Неустойчивость «повествовательного голоса» в творчестве Бланшо проблематизирует сам модус реального (данности, явности, истины) и актуализирует модус потенциального (в т.ч. нереального, воображаемого). Это приводит к смещению фабульной, сюжетной и нарративной перспективы в пользу перспективы письма, а также к наложению нескольких перспектив (сюжетной истории и письма; письма и наррации). Сам уровень письма, однако, будучи привилегированной областью потенциального в творчестве Бланшо, не может быть до конца проявлен, что создает зону повышенной неопределенности.
-
Двойной, поэтический и полемический, императив «повествовательного голоса» становится основным источником семантической, синтаксической, дискурсивной, нарративной и прагматической неразрешимости ранних художественных текстов Бланшо. В романах и ранних «рассказах» Бланшо двойной императив организуется преимущественно с помощью принципов симуляции и диссимуляции.
-
В творчестве Бланшо последовательно осуществляется полемика c логосом, которая реализуется, в частности, за счет переосмысления центральных в западной культуре метафоры света и метафоры темноты, а также с помощью проблематизации самого визуального отношения. Трансгрессия зрения в прозе Бланшо не только позволяет преодолеть дихотомию света-тьмы или знания-незнания, но и является источником новых повествовательных возможностей, соотносящихся со зрительным отношением по принципу диссимуляции, или сокрытия.
-
Пространственная и временная организация «рассказов» Бланшо 1950-1960-х годов определяется в большой степени пространственно-временными индикаторами акта высказывания («здесь» и «сейчас» субъекта речи). Неотъемлемая субъективность акта высказывания подвергается в «рассказах» последовательному изъятию, а колебания нарративной инстанции между стремлением к исчезновению и невозможностью такового в речи определяет основную интригу «рассказов». В то же время сам акт высказывания является принципиально множественным и не разрешимым ни на одном из уровней повествования, поскольку совмещает элементы сразу нескольких уровней (наррации, диалога, письма);
-
Множественная референция акта высказывания формирует в «рассказах» Бланшо особое пространство речи, а именно, «топос» интервала. При этом образуемая интервалом нарративная дистанция принимает на себя функции нарративной инстанции и стремится к субъектной, временной и пространственной вненаходимости.
С.Малларме и критическое сознание литературы (поэтика)
В ранней критике Бланшо настоятельное требование неотложности индивидуального законотворчества писателя связано с фигурой Стефана Малларме, которая выступает своеобразным спутником (compagnon) рефлексии Бланшо о языке и поэтике художественного произведения. Сходным образом фигура Р-М.Рильке, например, сопровождает рефлексию Бланшо о смерти, а образ маркиза де Сада — об отказе, неподчинении и революции, которые Бланшо полагает имманентными письму.
В активном диалоге с Малларме, который представлен множеством статей и комментариев Бланшо19, были разработаны программные положения автора «Пространства литературы» о безличности произведения искусства и исчезновении пишущего в действии письма, о молчании как истоке и конечной цели письма. Сам пространственный характер литературы, выраженный в поэтике Бланшо в императиве асимметричного и разомкнутого пространства, также можно считать одним из наследий Малларме: «de l air entre les vers, de l espace »20.
Образ Малларме становится воплощением идеального романиста, описанного в критических эссе Бланшо начала 1940-х годов. «Удивительно, -замечает Бланшо, - что еще ни один романист не обнаружил в комментариях Малларме определения романного искусства ... глубинная концепция языка, широкий обзор словесных возможностей, универсальное понимание литературы заключены в нем [проекте Книги -Т.Н.] таким образом, что ничто, относящееся к творчеству, не может ему не принадлежать»21 [FP: 190].
Универсальный характер проекта Малларме заключается, в понимании Бланшо, в неустанном внимании к языку, в утверждении неразрывности формы и содержания художественного высказывания, в переживании опыта письма как экзистенциального опыта писателя — «Devant le papier l artiste se fait» 22 — одним словом, в предельно рефлексивном отношении к творчеству со стороны писателя. Позиция Малларме тем более примечательна для критика, что в современных ему романах он подчеркивает крайнюю несостоятельность художественного мира (психологизм, миметизм, конвенционализм) и художественного языка романистов: «нет ни ритма, ни симметрии, ни фигуры, ни чего либо, что напоминало бы художественный закон» (211). Характерно, что приведенная цитата фактически утверждает важность поэтических норм для организации романа. Примечательно также, что жанровая форма rcit, к которой Бланшо обращается в конце 1940-х, рассматривается современными исследователями как слияние техник романного письма и стихосложения. К примеру, Ж.-И.Тадье замечает, что « поэтический рассказ (rcit potique) представляет собой переходный феномен между романом и поэтическим текстом» [Tadi, 1994 : 7].
Художественный закон, на котором настаивает Бланшо на страницах сборника «Faux pas», не является универсальным законом, поскольку требует индивидуального творчества, индивидуального отношения к языку (« le langage singulier » (195)) и является императивом внутренней необходимости (ncessit) каждого конкретного произведения. Требовательность художника к самому себе составляет первый принцип индивидуального законотворчества: «чрезвычайно взыскательный поиск необходимости, уклонение от всего случайного, неумолимое сознание, одним словом, исключительное господство и полная власть требуются для того, чтобы отбросить неоправданный образ и недостойное творение»23 (212). Категоричность занимаемой Бланшо позиции производит впечатление наличия у критика строго детерминированной концепции романа. С.Л.Фокин в статье «Морис Бланшо как романист и критик романа» подчеркивает «жесткость и даже догматичность романной идеологии» Бланшо в ранний период творчества [Фокин, 2005: 425]. Постоянное настояние Бланшо на требованиях (exigences) романного искусства создает впечатление необходимости заключить писателя в жесткие рамки поэтики, значение которой показал один из предшественников Бланшо, П.Валери. Однако каковы правила этой поэтики? Сами правила, о которых говорит Бланшо, на деле оказываются слишком противоречивыми для того, чтобы их можно было объединить в какую бы то ни было «романную идеологию». Собственно, за исключением достаточно общих замечаний о необходимости отказа от психологизма, обращения к воображению, осознания творческой природы письма, критические эссе Бланшо не предлагают правил для писателя, но лишь настаивают на индивидуальном поиске таковых. «Le romancier doit se donner une loi » 24 (193), утверждает Бланшо. Неопределенный артикль (une loi) выражает отношение неопределенности, в котором находится закон, он не известен до тех пор, пока писатель не посвятит себя его поискам, пока не откроет его каждый раз заново (каждый раз новый) в каждом конкретном произведении.
Термины «система» (249), «правила вымысла» (241), «абстрактная жесткость» (237), «абсолютные правила» (232), «модель» (217), «схема» (212) (примеры приводятся С.Л.Фокиным, страницы указаны автором по изданию Faux pas) выражают попытку схематизировать и представить в обобщенном виде личный опыт (в том числе опыт Малларме, выраженный в многочисленных письмах), от чего Бланшо откажется впоследствии, обращаясь непосредственно к опыту письма (опыт Кафки, Рильке, Малларме в «Пространстве литературы»). Элементы формализма и схематизма в ранних эссе Бланшо представляются пережитками риторики и свидетельствуют, на наш взгляд, более об идеализации фигуры писателя на ранних этапах творчества Бланшо, чем о догматизме.
Риторика неопределенности как стратегия сущностной двойственности литературы
Гуманитарное знание вплоть до ХХ века активно обращалось к
категории сущности, почти не подвергая таковую сомнению. В «Категориях» Аристотель показывает, что у «сущности» нет конкретного означаемого, «она не находится в подлежащем». «Сущность, будучи одной и тождественной по числу, способна принимать противоположности; так, отдельный человек, будучи единым и одним и тем же, иногда бывает бледным, иногда смуглым, а также теплым и холодным, плохим и хорошим» [Аристотель, 1978: 67]. Сущность составляет неотъемлемое свойство предмета или субъекта, однако она не является данностью и по своей природе противоречива.
Лишь определив сущность с помощью атрибута (определения), мы сможем наделить ее некой семантизируемой субстанцией, или обозначить сущность в языке. Тем самым атрибут «снимает» противоречие сущности и наделяет ее определенным качеством - «находит» ее в подлежащем. С этого момента сущность начинает подчиняться логическим законам тождества и противоречия: будучи белой, она не может быть одновременно черной (пример Аристотеля). Определение, таким образом, предстает процедурой выделения сущности, ее ограничения, установлением предела.
Представляется, что именно с этим замыкающим и завершающим характером атрибуции сталкивается текст Бланшо. Всякое определение в творчестве Бланшо запускает механизм противоречия, поскольку оно способно одновременно определять (выделять зону неопределенности) и подрывать собственное действие, устанавливая отношение неразрешимости между компонентами дефиниции. Категорический отказ от определения и концептуализации литературы становится одним из центральных стремлений критических текстов Бланшо начиная с начала 1950-х годов. В статье с характерным названием «Исчезновение литературы» (La Disparition de la littrature) сущность последней определяется как то, что всегда ускользает от поимки и что может быть достигнуто лишь в отказе от постижения сущности: «Tout se passerait donc comme si, les genres s tant dissips, la littrature s affirmait seule, brillait seule dans la clart mystrieuse qu elle propage et que chaque cration littraire lui renvoie en la multipliant – comme s il y avait donc une “essence” de la littrature. Mais, prcisment, l essence de la littrature, c est d chapper toute dtermination essentielle, toute affirmation qui la stabilise ou mme la ralise : elle n est jamais dj l, elle est toujours retrouver ou rinventer. Il n est mme jamais sr que le mot littrature ou le mot art rponde rien de rel, rien de possible ou rien d important»63 [LV: 273]. Тезис Бланшо о невозможности выразить непротиворечивым образом сущность литературы приводит к тому, что сама процедура конститутивного определения становится проблемой. Бланшо также настаивает на том, что литература не может иметь никакой предзаданной или стабильной сущности в принципе, а не только в языке, и что ее необходимо постоянно заново находить и заново изобретать. Модальность «comme si» (как будто) намечает поле поиска сущности, а именно область воображаемого, «невозможного, нереального, неосуществимого» (273). Особенность и парадоксальность позиции Бланшо заключается в том, что невозможность концептуализировать «литературу» представлена Бланшо как имманентное свойство самой литературы («l essence de la littrature, c est d chapper toute dtermination essentielle »). Как справедливо замечает И.В.Саморукова, спор между конститутивистским («Что такое литература?») и кондиционалистским («Как возможна литература?» 64 ) способом определения литературы связан с «извечной в литературоведении подменой понятий «литературности», то есть исторически изменчивых кодов особой словесной практики, и «художественности», понимаемой как ценность этих кодов в аспекте продуцирования смысла» [Саморукова, 2002: 4]. «Сущность литературы» отстаивается, как правило, в рамках кондиционалистского определения литературы, или условно внутренней точки зрения. Ж.Рансьер, например, также полагает, что литература не обладает «сущностью». Однако «литература» понимается им как концепт, с помощью которого мы определяем те или иные практики как художественные, то есть наделяем их «литературностью» [Rancire, 1998: 13]. Бланшо же понимает литературу как опыт письма, «тотальный опыт» [LV: 306], от которого «зависит человек как таковой» («se rapporte la condition de l homme dans son ensemble» [PF: 97]). И этот опыт затрагивает все сферы человеческой деятельности: сферу языка, поскольку литература, по мнению Бланшо, является практикой сопротивления языку как тотальности (дискурсу) с помощью языка как освобождения (письма); сферу реального, поскольку опыт воображаемого предшествует ей; сферу этики, поскольку любое письмо, даже самое безличное, обращено к другому.
Поэтому, определяя литературу, Бланшо исходит из «тотального опыта», который превосходит разделение на внешнее и внутреннее. Позицию Бланшо можно обозначить как ультракондиционалистскую, а точнее — вне-кондициональную (inconditionnel), поскольку она описывает условия невозможности литературы: литература возможна исключительно как невозможное65. Это превосходство внутренней точки зрения, которая тем не менее исключает всякую внутреннюю позицию вовне: « ... descendre, par un mouvement qui finalement lui chappe et la nglige, jusqu un point o ne semble parler que la neutralit impersonnelle»66 [LV: 272]. Сценарий развоплощения сущности «ce monde qui oscille entre l adjectif et le substantif»67 M.Blanchot [EL : 342] Сценарий развоплощения сущности становится одним из основных способов организации критических и художественных работ Бланшо 1950-х годов. Элементарный акт языковой атрибуции является проблематичным, если не невозможным. Столкновение «сущностного» подлежащего и привативного атрибута, или наоборот, привативного подлежащего и «сущностного» атрибута формирует собственный тезаурус критического и художественного творчества Бланшо. Показательным примером здесь будет словосочетание «ambigit essentielle » [EL: 184], где существительное « ambigut» (двусмысленность) является сущностно привативным, а прилагательное «essentielle » (сущностный, существенный, основной) обозначает соответствие «сущности», которую уже отменило слово « ambigut». Прилагательное «essentiel» выступает, как правило, для обозначения отказа от сущности (essencе) как универсального существа и смысла в пользу единичного события. Именно поэтому «сущностными» в эссеистике Бланшо становятся, как правило, привативные и негативные понятия, то, что не может составлять сущность в традиционном понимании таковой. Так, «solitude essentielle» - это одиночество основополагающее, но также и то, что обнажает отсутствие сущности; « absence essentielle » [EI : 566] — отсутствие как условие наличия; « la non-concidence essentielle de l uvre avec elle-mme » [Lautramont et Sade: 12] – нетождественность произведения как условие его существования и т. д. Аналогичным образом развивается мотив вдохновения, которому посвящена отдельная глава в «Пространстве литературы». «L inspiration serait donc ce moment problmatique o l essence de la nuit devient l inessentiel (выделено нами — Т.Н.)» 68 [EL: 229]. Здесь происходит имплицитное столкновение « сущности » и привативного атрибута (l essence - inessentiel), а далее привативное прилагательное субстантивируется и в качестве такового начинает обозначать не качество «существа» ночи, но субстанциональную трансформацию этого «существа» в «несущественное»: l essence — l inessentiel.
Нарушение принципа сигнификации : знак, символ, жест
В романе "Аминадав" (Aminadab, 1942) формируется собственное парадоксальное семиотическое пространство, которое, с одной стороны, подчиняется принципам непосредственной и спонтанной коммуникации, с другой, свидетельствует о ее полной неэффективности. Романный мир словно вывернут наизнанку, слова персонажей расходятся с действиями, а действия -с их последствиями, и ни те, ни другие не помогают понять «изнаночный мир» 83 . Главный герой романа Фома вовлечен во всеобщую лихорадку интерпретации, но в то же время как будто сохраняет инстинкт недоверия, заложенный в самом его имени, отсылающем к библейской фигуре Фомы Неверующего.
Как и большинство протагонистов довоенной прозы Бланшо, Фома является чужаком; он попадает в незнакомый город, где заходит в дом, из которого он так и не сможет выйти. В начале повествования Фома пересекает несколько семиотических порогов, дающих возможность герою отказаться от проникновения в дом, а точнее — делающих семиотическую активность Фомы ответственной за дальнейшее развитие событий. Первый порог является «завязкой» интриги: Фома замечает в окне молодую пару: «Thomas les regarda avec discrtion ; le jeune homme se crut vis et vint s accouder sur l appui de la fentre : c est en toute candeur qu il considrait le nouveau venu […] Avec son regard qui souriait, il dissipait toute allusion des penses dcourageantes, et ni pardon ni condamnation ne semblaient pouvoir frapper celui qui se tiendrait devant lui. Thomas resta immobile. Il goutait le caractre reposant de ce qu il voyait au point d oublier tout autre projet. Cependant, le sourire ne le satisfaisait pas, il attendait aussi autre chose. La jeune fille, comme si elle se ft rendu compte de cette attente, fit de la main un petit signe qui tait comme une invitation et, aussitt aprs, elle ferma la fentre et la pice retomba dans l obscurit. Thomas fut trs perplexe. Pouvait-il considrer ce geste comme un appel vritable C tait un signe d amiti plutt qu une invitation. C tait aussi une sorte de congdiement. Il resta hsitant»84 (11). Неопределенность ситуации усиливается неустойчивым положением Фомы. Статус чужака a priori наделяет героя семиотической близорукостью, тот, кто не знаком с нравами местных жителей, заранее лишен всяких гарантий понимания, он находится в ситуации неограниченной и «открытой» интерпретации. Эта ситуация обыгрывается в романе: она отвечает двусмысленному поведению и разговорам обитателей дома, за которыми находится крайне «закрытый» мир романа. «Чуть заметный жест» девушки идеально соответствует ситуации и содержит множество неоднозначностей. Универсальный характер жестовой коммуникации скрывает высокую неопределенность ее содержания. Сомнения Фомы относительно содержания жеста — скорее (plutt que) просто знак дружбы, чем приглашение, решает Фома — не удерживают, но как будто, напротив, провоцируют его. Фома входит в дом.
Особенность жестовой коммуникации состоит в том, что жест сначала подает знак и только потом означает нечто (функция выражения)85. «Жест — действие или поступок, имеющий не столько практическую направленность, сколько некоторое значение; жест — всегда знак и символ» [Лотман, 1994: 53]. В сомнениях Фомы практическая направленность жеста (его смысл) вступает в противоречие с его знаковостью. Неопределенность смысла накладывается на ожидание Фомы («il attendait aussi autre chose») - ожидание некого знака. Когда знак отвечает ожиданию, его по определению неустойчивый смысл оказывается менее важным, чем его перформативный характер. Ожидание Фомы в данном случае выступает основанием коммуникации, между участниками которой устанавливается отношение соучастия, несмотря на то, что смысл жеста остается неопределенным, возможно, для обоих участников.
Принцип сигнификации проблематизируется в романе и уступает перформативности жеста и неустойчивому знамению знака. Складывается ощущение, что словам не удается обрести необходимую эффективность путем простого означивания, вследствие чего Фома осуществляет поиск иных средств и способов выражения : «Mais son exprience lui avait dj appris que les habitants de l immeuble ne disaient pas toujours la vrit et que mme lorsqu ils ne mentaient pas, ils prononaient rarement des mots utiles. D ailleurs il n aurait pu comprendre ces paroles ; elles taient dites sur un ton qui leur enlevait tout sens ; aucune signification ne pouvait rpondre une expression d une aussi grande tristesse […] Quelles paroles d une continuelle dtresse ! Thomas couta quelques instants le mot chambre et le mot raison, puis il frappa son compagnon pour le faire taire »86 (42). Критика неэффективности слов («mots utiles») выявляет изъян принципа сигнификации. Нет такого плана содержания (sens, signification), который смог бы ответить плану выражения (ton, expression). Превосходство последнего разрывает связь между двумя планами лингвистического знака, слова повисают в пустоте, следовательно, теряют связь и с реальностью (три вершины треугольника Фреге более не связаны). Поэтому слово «комната» и слово «разум» иронически уравниваются в «бесконечной тоске» отсутствия понимания. Дополнительная дискредитация интеллигибельного, переведенного в статус знака (mot raison), возвращает к тому же пониманию неэффективности сигнификации и недостаточности логоса.
«Кто говорит?»: инстанция и дистанция
Поиски нарративной инстанции зачастую сводятся к поискам ответа на вопрос «Кто говорит?». В работах Ж.Женетта нарративная инстанция (instance narrative) понимается несколько шире, исследователь предлагает опираться на «следы», которая нарративная инстанция оставляет в дискурсе, якобы его порождая [Женетт, 1998: 226]. Нарративная ситуация, утверждает Женетт, исследует отношения между «нарративным актом, его протагонистами, его пространственно-временными детерминациями, его связи с другими нарративными ситуациями, вовлеченными в то же повествование, и т. п.» (226). В то же время нарративная модель французского исследователя не учитывает т. н. уровень письма. В «Повествовательном дискурсе» Женетт настаивает на автономном характере наррации и предостерегает читателя от путаницы между актом вымышленного повествования и актом реального письма. Бальзак-автор, утверждает Женетт, не мог в реальной жизни «знать» жителей пансиона Воке, он их воображает, точнее, он воображает воображаемого повествователя, который «знает» пансион Воке, его содержательницу и пансионеров: «в этом смысле нарративная ситуация художественного повествования, разумеется, никогда не сводится к ситуации его написания» (226).
Намеренное исключение Женеттом ситуации письма является, по всей видимости, эпизодом борьбы с биографическим автором, ставшим главной мишенью т. н. Новой критики и Нового романа. В «Новом повествовательном дискурсе» (Nouveau discours du rcit, 1983) Женетт возвращается к вопросу субъекта письма: «В повествовании, или точнее, за ним или перед ним, находится тот, кто рассказывает, это нарратор. Позади него располагается тот, кто пишет, и он несет ответственность за все, что происходит по эту сторону. Последний — важная новость — это и есть просто-напросто автор» [Genette, 2007: 301]. Необходимо отметить, что всякий аналитический метод ориентируется на определенный и удобный для него материал. Сам Женетт замечает по поводу произведений Бальзака: «Когда я читаю «Гамбара» или «Неизвестный шедевр», меня интересует сама история, и я не очень стремлюсь узнать, кем, где и когда она излагается; если я читаю « Фачино Кане», я ни в какой момент не могу игнорировать присутствие повествователя в излагаемой им истории ... » [Женетт, 1998: 224], подразумевая, что в первом случае более важной для исследователя оказывается уровень histoire, а во втором — narration. По аналогии с примерами Женетта, можно сказать, что когда мы читаем «рассказы» Бланшо, но также и малую прозу С.Беккета, Л.-Р.Дефоре и др., нас интересует, кем и как они излагаются, но мы также не можем проигнорировать вопрос письма: возможно ли, что эти истории были написаны? Не является ли момент письма одновременным моменту высказывания (что логически парадоксально)? Осознает ли себя «нарратор» субъектом письма, и если да, то субъектом какого именно письма он является? Иными словами, если авторефлексивность романа ХХ века можно считать расхожим местом, то мало исследованная жанровая форма rcit («рассказ») располагает проблему еще ближе к границе порождения текста и тематизирует письмо не в качестве самоописывающего, но в качестве невозможного. Малая форма rcit во французской словесности восходит к творчеству А.Жида («Имморалист»; «Узкие врата») и активно развивается в кругу сюрреалистов (А.Бретон, Л.Арагон, Ж.Грак). Д.Рабате в посвященной исследованию rcit работе «Vers une littrature de l puisement» [Rabat, 2004] относит к подобным нарративам также роман-эпопею Пруста, «Постороннего» А.Камю, «Записки из подполья» Ф.М.Достоевского, некоторые повести Э.По, тексты С.Беккета, Л-Р.Дефоре, А.Тома и др. Эти тексты, как правило, монологичны, по крайней мере, в них существует некая обрамляющая инстанция речи, которую Д.Рабате называет вслед за Бланшо «повествовательным голосом». Субъект повествования пытается найти верное отношение к себе говорящему и не может этого сделать. Намеренная субъективность «je» — повествование, как правило, является уделом первого лица — обнажает невозможность субъективности и существует в модусе парадокса: je — как тот, кто, чем больше стремится познать себя, тем больше от себя уклоняется ; rcit — как повествование, не способное построить связный рассказ (подробно невозможность рассказа/ «рассказа» рассмотрена в параграфе 2.2.). Приближения и отдаления «повествовательного голоса» напоминают неудачные попытки современного уробороса ухватить свой собственный хвост, в результате чего субъект оказывается исключенным из бесконечности мироздания и может лишь коснуться ее. Поэтому rcit разыгрывается в модальности «парадокса, переворачивания, зеркального отражения, самоотрицания, голос разрушает отношение, которое в конечном счете становится жизненно важной составляющей его замысла: его двигателем» [Rabat, 2004: 9]. Неразрешимая рефлексивность подобных текстов актуализирует вопрос присутствия субъекта высказывания и реализует его «неисчерпаемую» субъективность на грани исчезновения. Неутомимый, хотя и давно утомившийся повествователь в текстах С.Беккета «продолжает продолжать» и поддерживает напряжение «повествовательного голоса»: «Oui, on commence tre bien fatigu, bien fatigu de sa peine, bien fatigu de sa plume, elle tombe, c est not »140 [Beckett, 2003: 152].
Конец фразы («c est not ») кардинальным образом меняет (и частично отменяет) предстоящую ему дискурсивную перспективу, поскольку, даже если падает перо, кто-то, тем не менее, продолжает писать. Как будто «тот, кто говорит» и «тот, кто пишет», будучи внеположными друг другу, за счет постоянной смены позиций (один подхватывает упавшее «перо» другого) обеспечивают динамику повествования.
Вопрос письма — это вопрос парадоксального взаимодействия речи и письма на письме (в письменном дискурсе). «Повествовательный голос» воплощает это противоречие, подразумевая одновременно устное и письменное присутствие. Вопрос письма — это также вопрос субъекта. Р.Барт, комментируя письмо (criture) Флобера, замечает: «On ne sait jamais s il est responsable de ce qu il crit (s il y a un sujet derrire son langage) ; car l tre de l criture (le sens du travail qui la constitue) est d empcher de jamais rpondre cette question : Qui parle?»141 [Barthes, 1999: 461].