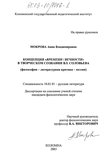Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Вопрос о художественном времени и теория циклических образований 20
1. Художественная категория времени: подступы к пониманию 20
1.1. Время в культурологии: обзор основных концепций времени 20
1.2. Время в философии: категория времени от Античности до наших дней 23
1.3.Время в науке: краткий обзор истории освоения 47
1.4. Время как литературоведческая категория. Понятие хронотопа 52
2. К вопросу теории и истории циклических образований 57
2.1. Определение понятия жанра 57
2.2. История существования и научного изучения явлений циклизации в лирике 60
2.3. Специфика целостности лирического цикла/книги 66
2.4. Жанровое содержание лирического цикла/книги 71
Выводы 73
Глава 2. Эволюция концепций времени в лирических циклах P.M. Рильке и Б. Пастернака 75
1. Концепции времени в первых вершинных поэтических книгах P.M. Рильке и Б. Пастернака 75
1.1. «Часослов» P.M. Рильке: постижение законов мира и времени через путь к Богу 75
1.2. Концепции времени в первых зрелых циклах Б. Пастернака 100
1.2.1. «Сестра моя - жизнь»: исследование законов человеческой субъективности (души) и творчества 100
1.2.2. «Темы и вариации»: в продолжение «Сестры моей - жизни» 113
2. Концепции времени в поэтических книгах P.M. Рильке и Б. Пастернака срединной поры 118
2.1. «Книга образов» и «Новые стихотворения» P.M. Рильке: устремление за время 118
2.2. «Второе рождение» и «На ранних поездах» Б. Пастернака: исследование исторического времени и специфики его циклической основы 127
3. Концепции времени в поздних поэтических циклах P.M. Рильке и Б. Пастернака 140
3.1. Концепции времени в поздних циклах P.M. Рильке 141
3.1.1. «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею»: мифологическая основа мировой и человеческой временности 141
«Дуинские элегии»: исследование человеческой временности 141
«Сонеты к Орфею»: мифологическое время как образец 151
3.1.2. «Валезанские катрены»: миф на земле 160
3.2. Концепции времени в поздних циклах Б. Пастернака 169
3.2.1. «Стихотворения Юрия Живаго»: мифологическое человеческое время 169
3.2.2. «Когда разгуляется»: преодоление линейной историчности природной мифологичностью 176
Выводы 185
Заключение 188
Библиография 195
- Время в философии: категория времени от Античности до наших дней
- «Часослов» P.M. Рильке: постижение законов мира и времени через путь к Богу
- «Книга образов» и «Новые стихотворения» P.M. Рильке: устремление за время
- «Валезанские катрены»: миф на земле
Время в философии: категория времени от Античности до наших дней
Для древних цивилизаций культура была практически синонимична религии и в итоге сводима к ней [Ерасов 1990: 93]. Религиозная задача всегда состояла в «выработке ценностного отношения к миру и целей человеческого бытия», в «утверждении жизненного опыта человека в его соотношении с земным миром и с миром общих законов бытия и конечных смыслов» [там же: 113], тогда как на долю философии выпадало решение проблемы первоначала и единства бытия, не ощущавшейся как настоятельно важная для религиозного мировоззрения. Здесь видится основание для разграничения проблемы времени в культуре (мифе, религии) и в философии, представляющих собой разные способы овладения действительностью: дорефлексивный и рефлексивный .
Как данная категория осмысливалась и репрезентировалась в мировой культуре, мы видели в предыдущем пункте. Далее нам предстоит рассмотреть взгляды философов на природу времени, начиная от самых истоков философии - древнегреческой и заканчивая сегодняшним днем. Поскольку наша задача в итоге заключается в том, чтобы выяснить истину о феномене времени, мы обратимся к осмыслению времени в философии Платона и Аристотеля (как истоков философии вообще - поскольку до них был только миф и попытки построить философскую рефлексию как таковую в трудах досократиков) и далее рассмотрим, насколько сильно эта истина была преобразована в ходе дальнейшего развития философской мысли и были ли возвращения к ней.
Но предварительно сделаем несколько замечаний относительно понятия истины. На протяжении всей истории философии существовали, по словам А.В. Ахутина, «две истины, два понимания истинности истины: самодостоверность субъекта, знающего себя истиной бытия, и несокрытость или самооткрытость бытия сущего» [Ахутин 2007], истина-правильность и истина-правда, являющаяся первоисточником этой правильности. Вся европейская метафизика ориентировалась на истину в первом понимании - как правильность суждения, как тождество понятия и вещи. Место такой истины - суждение судящего, субъекта, что подразумевает разделение на субъекта и воспринимаемую вещь. В XX в. феноменология в своем преодолении метафизики поставила вопрос о начале, задающем истину-правильность и являющемся «основой онтологической архитектоники мира» [там же]. Дав слово греческой «алетейе», этим «шагом назад» Хайдеггер переносит нас в Иное, которое «заключает в себе иной смысл истинности: не установление правильности, а улавливание происшествия, в котором впервые могут открыться какие бы то ни было направления, правила, права, правды. Этот смысл Хайдеггер и улавливает в греческом слове акцв&ш - несокрытость» [там же]: «Мы переводим аХч9еш как несокрытость (die Unverborgenheit) сущего и уже этим указываем, что несокрытость (истина, понятая по-гречески) есть определение самого сущего, а не - как правильность - некая характеристика высказывания о сущем» (М. Хайдеггер, «Основные вопросы философии», лекции 1937/38 гг.). Привативную частицу а- Хайдеггер понимает и как усилительную, и как уподобительную: «Непотаенное - это также и особенным, чрезвычайным образом потаенно, подчеркнуто и явственно скрытое» - пишет о понимании Хайдеггером истины В.В. Бибихин (примечания: [Хайдеггер 1993, с. 436]). «Решающим в истине-алетейе будет пограничная двойственность: бытие, ставшее истиной мира, раскрытое, понятое (пойманное) в качестве окончательного начала (существа сущего), не совпадает с истиной бытия, оставшейся в начинающем начале. Исти-на-не-сокрытость подсказывает: бытие сущего не совпадает с миром сущего, открытым в сущности, онтологически решенным (и, соответственно, не мыслится в логике правящей в нем истины-правильности), но и не помещается над миром, в мета-физическом месте существенно сущего. Это истина бытия, остающегося в начале, что раньше и позже всего начавшегося, наставшего и подначального. Обращая внимание к тому, что в нашем "естественном", т.е. окончательно решенном мире упускается этой окончательностью из внимания, а именно, - к бытию, допускающему "естествование" мира, решающему характер этого "естествования" и не совпадающему с ним, - мы встречаемся с тем, что греческая мысль уловила словом а-летейа. Уловила и тут же упустила, причем по внутренней необходимости. Вдумываясь в логику этого упущения, Хайдеггер развертывает свое понимание греческих начал философии. ... Пограничная двойственность бытия (вспомним онтологическую разность), открывающаяся в истине-алетейе, требует увидеть мир и мысль словно накануне самих себя, на восходе, в начинании. Здесь, в изначальной не-сокрытости царит "впервые": все - впервые, перво-бытно. Поэтому внимание, отвечающее нескорытости бытия (истине), имеет характер изначального удивления. Истина-несокрытость требует особого, даже чрезвычайно проницательного -философски настроенного и устроенного — внимания, но она есть черта сущего, а не характеристика суждения о сущем (выделено нами. - Д.М.-М.), поскольку присутствует в изумлении, охватывающем и захватывающем человека: человек находит несокрытость бытия, находясь в состоянии удивления» [Ахутин 2007].
«Философия, собственно, и есть воспоминание - возобновление - начального удивления начальной странностью простого "есть". ... Быть значит выходить на свет, выступать, сказываться, но быть значит и умалчиваться, таиться во всем своем раскрытии, выводить на свет "темную", загадочную поразительность бытия, что и происходит в слове поэта и мыслителя» [там же]. Истинное в философской речи, по мнению А.Г. Чернякова, - это то не-сокрытое, незабытое, которое отзывается на усилие речи, но остается невысказанным, откладывает свое выявление, выступая как граница (в аристотелевском понимании — указывающая место тела) речи, граница известного смысла [Черняков 2001: 32-34].
Итак, формирование понятия истины как правильности связано с дуалистическим представлением о мире, с противопоставлением материи духу, а феномена - ноумену [Арутюнова 1999: 547]. А этот разрыв мира на противоположности происходит тогда, когда разрушается мифологическая картина мира и появляется рефлексия. Так, для христианства «быть во Христе», приравниваемом к Истине, означает возвращение к целокупности и единству мира, которое для христианина воплощает Бог, и переход из времени в Вечность. «Быть в истине» в этом смысле сходно с «быть в мифологическом времени» - просто быть внутри, а значит, можно предположить, что мифологическое время является истоком, истинным временем, истинностной концепцией времени. С появлением рефлексии человек выходит из мифологического времени, отдаляется от истины, но весь парадокс и вся боль ситуации в том, что вне рефлексии невозможно понимание, постижение этой истины. Но и философская мысль - лишь попытка открыть истину.
«Божественная Истина познается откровением. ... ...Она не говорит, а "показывает" себя», являет в этот мир путем иерофании [там же: 548]. Говорит истина рациональная, та, которая является объектом логики, а не религиозная. Философия же совмещает в себе инструментарий и черты как рационального, так и религиозного мышления, и результат этого - ее сложность как способа познания, ее возможность/способность вплотную приблизиться к истине (совмещая интуицию и логику) и в то же время невозможность озвучить ее ясно и до конца (уже в силу самой природы истины, не поддающейся слову, логосу [Черняков 2001: 34]).
Любая мифология (которая есть основа религии = культуры) со временем превращалась в рефлектированную: таковы, например, суть и происхождение индийской средневековой концепции тримурти [Ерасов 1990: 110-111]. Аналогичное восстановление мифологической картины мира и, в частности, времени происходило в классический период греческой истории, когда ощущалась недостаточность использования только отдельных элементов мифологического времени и требовалось восстановление его в целом - но не буквальное, что было уже невозможно, так как изменился человек, его сознание, а рефлективное, философское, что и было осуществлено в IV в. до н.э. в трудах Платона и Аристотеля [Лосев 1977: 38].
Мифологическая модель мира, как показал А.Ф. Лосев, имеет в своей основе перенос общинно-родовых отношений на весь мир, на всю природу, в результате чего образуется «недифференцированное объединение... родовой... общности с живым существом, вполне реальным и даже материальным» [там же: 32]. Исследования в области психологии подкрепляют эту теорию: открытое Л.С. Выготским «мышление в комплексах» объясняет самоотождествление туземцев бразильского племени бороро с красными попугаями арара как мышление комплексами, и поэтому речь должна идти не об их отождествлении с арара в привычном для нас понимании этого слова, а о том, что арара составляют с бороро один «фамильный» комплекс [Глебкин 2000].
«Часослов» P.M. Рильке: постижение законов мира и времени через путь к Богу
Книга стихов «Часослов» (1899-1905), которую А.В. Карельский определил как «пространную лирическую поэму с единой идеей» [Карельский 1999, с. 69], создавалась Рильке на протяжении нескольких лет. Осенью 1899 г., под впечатлением от первой поездки в Россию, возникла первая часть - «Das Buch vom monchischen Leben» («Книга о монашеской жизни»), первоначально носившая название «Молитвы». Спустя два года, осенью 1901 г. была создана «Das Buch von der Pilgerschaft» («Книга о паломничестве»), а весной 1903 г., уже после знакомства с Роденом, в недели пребывания в итальянском городке Виареджо - «Das Buch von der Armut und vom Tode» («Книга о нищете и смерти»). Окончательная редакция цикла датируется 1905 годом. По утверждению А.Г. Березиной, «внутренний мир "Часослова" складывался в сложной зависимости от "русского опыта" Рильке, налагавшегося на "европейский опыт"», и под большим влиянием личности и творчества Льва Толстого [Березина 1985: 129], с которым поэт встречался во время второй поездки в Россию, летом 1900 г.
Толстой для Рильке значим как некое безусловное воплощение трагизма бытия и сложного, исключительно «русского» по характеру сплава гуманизма с христианством - несмотря на всю его долгую борьбу с последним [Звозников 2001: 150]. И, как показывает А.Г. Березина, основные темы «Часослова» - тема смерти, которая именно с этого цикла начинает входить в художественном мире Рильке в жизнь как ее часть, чтобы в итоге наравне с жизнью сформировать «двойное пространство» поздней его поэзии, и тема бедности, осмысляемой как истинная форма жизни, - это и исконно толстовские темы [Березина 1985: 120-129].
Встреча с Россией в целом, чему посвящено множество работ (достаточно назвать книгу «Рильке и Россия: Письма. Дневники. Воспоминания. Стихи» (СПб., 2003)), и с личностью Толстого в частности стала для Рильке почвой для дальнейшего формирования его мировидения, противопоставляющего современному, искаженному человеком бытию (Европе) возможность жизни иной - естественной, близкой к истокам и пронизанной Богом как истиной и первоначалом. Воплощением, живой реализацией этой возможности для Рильке и явилась Россия, о чем сам он писал даже в поздние годы (см. письмо Альфреду Шэру от 26.02.1924: [Рильке 1971: 298-299]) . «Задачи, которые годом ранее Рильке возлагал на великого итальянца (Микеланджело. - Д.М.-М.), он передоверяет теперь русским людям, созидающим - в глубокой религиозности и непрестанной молитве (выделено нами. -Д.М.-М.) - собственного бога» [Азадовский 2003: 33].
По сути, непрестанная молитва и есть внутреннее состояние лирического героя «Часослова», которого Рильке не зря сделал монахом. Лирический субъект книги словно проделывает путь, аналогичный пути самой православной церкви (и восточного богословия) начиная с момента ее зарождения, еще задолго до Раскола. На протяжении всей книги Рильке обращается к образам монашества, причем тех видов монашеского жития, которые были характерны именно для восточной традиции: отшельнического (прежде всего в теме одиночества, уединения, в теме Первой книги), распространившегося в начале I тыс. в Египте и Палестине и сохранившегося во II тыс. только в восточном христианстве, и общежитийного (те ма соборности особенно сильно звучит в финале Второй книги - в образах паломничества, но и прежде она заявляется - в стихотворении из этой же книги, посвященном осмыслению подвига «отказа от жизни» отшельников Киево-Печерской лавры и синтезирующем идеи отшельничества и общежития). Оба эти типа монашества начали формироваться в III—IV вв., и обоим была присуща практика непрестанной молитвы, имевшей своею целью привести молящегося к постоянному духовному общению с Богом (и даже возникающий в финале Третьей книги образ нищенствующего монаха Франциска Ассизского, явление сугубо западного христианства, находится в русле той же идеи отказа от всего бренного, временного и представляет вариацию способа единения с Богом через единение с миром и пение»-хвалу-молитву). Следует заметить, что во многом под влиянием этой практики и в католицизме, и в православии формировались суточные богослужебные циклы, содержавшие молитвы и иные тексты, закрепленные в богослужебных книгах - Часословах. Часть текстов в них оставалась для каждого дня неизменной, часть могла меняться в зависимости от наполнения дня (обычный день, праздничный, день памяти того или иного святого), но суть этих канонических книг состояла, по словам Е.Л. Ивановой, в том, что они «структурируют время верующего, помогают ему жить в одном ритме со всей Церковью, в соответствии с установленной традицией» [Иванова: 27]). В книге Рильке, по словам исследовательницы, «на место годового богослужебного и природного цикла... заступают личные взаимоотношения "я" с Богом, уникальный "цикл" индивидуального богопознания и переменчивость внутренних состояний субъекта» [там же: 28].
Однако в своем переосмыслении канонического церковного жанра Рильке все же опирается на христианскую традицию. Его лирический герой - монах-иконописец - существует в состоянии непрестанного богопознания, общения с Богом, будь то молитва или живописный либо иной (строительный, земледельче-ский - «ob einer malte oder mahte» (1:42 ) и т.п.) труд. А то священное живописание, к которому он стремится, можно описать словами специалиста в области русской словесности А.В. Моторина как «образное проникновение в духовную сущность бытия и смиренное богоугодное воздействие на ход жизни» [Моторин 2011: 139), проникновение, основанное на смиренном созерцании. Эту близость Рильке христианству отметила и О. Седакова, которая, цитируя эссе Рильке «Об искусстве», пишет: «"У художника нет за спиной прошлого. У других Бог позади, как воспоминание. Для художника Бог - последнее глубочайшее свершение. Если радостные говорят: Он есть, печальные чувствуют: Он был, художник улыбается: Он будет. Это не только вера, но строительство Его сил и имен. Это долг художника" ("Об искусстве"). Если помнить, что это "строительство" у Рильке не имеет ничего общего с пресловутым "богостроительством", а значит у него что-то вроде результативного созерцания (выделено нами. - Д.М.-М.), то "будущий Бог" Рильке, вечно предстоящий смысл всего, не так далек от традиционного "Бога будущего века", Который "будет все во всем" (1 Кор. 15, 28)» [Седакова 1979]. Выделенные в приведенной цитате слова «результативное созерцание» сопоставимы с определением А.В. Моторина и коррелируют с основным методом исихастской практики, которая, в свою очередь, зародилась именно в лоне отшельнического монашества (см.: [Торчинов 1997: 340-348]) и получила широкое развитие в России начиная с середины II тыс. Исихазм (от греч. r\ovxia — покой, безмолвие) изначально представлял собою практику уединения (от мира) и при этом единения (с ним), практику «умной молитвы», «умного делания», где соединялись собственно молитва и внимание при полном контроле сознанием непрерывности молитвы. «Часослов» с этой точки зрения предстает как художественное осмысление исихастской практики непрестанного внутреннего делания.
Но если обобщить все вышеотмеченные генетические связи, то мы увидим суть исканий рилькевского героя - общечеловеческое стремление, задачу познания, постижения как такового, а более точно - постижения бытия, его основ, смысла и законов, которые Рильке «опредметил» (если возможно употребить это слово по отношению к такому «предмету», как Бог) в «Часослове», реализовав как постижение Бога. Поль де Ман, указывая в «Аллегориях чтения», что теоцентри-ческая структура книги составляла и продолжает составлять едва ли решаемый вопрос для исследователей, трактующих теоцентризм книги порой совершенно противоположным образом [Ман 1999: 39-40], описывает это явление так: «Как металлические опилки притягиваются к магниту, так и словесная масса устремляется к одному предмету, порождающему обильный поэтический дискурс» [там же: 40]. Нам, со своей стороны, представляется, что Бог для лирического героя этого цикла выступает прежде всего воплощением смысла и законов бытия, и здесь нам близко суждение Г.Э. Хольтхузена о том, что в «Часослове» Рильке дает «поэтическое учение о жизни на своей ранней стадии», жизни, которая «как чистая невыразимая ощутимость тысячеликого мира устремлена к всеисчерпывающей целостности» и чьим единящим именем может быть только имя Бога [Хольтхузен 1998: 96]. Н.С. Павлова так характеризует книгу: «"Часослов" - это нескончаемый монолог, обращенный к Богу... монахом.
«Книга образов» и «Новые стихотворения» P.M. Рильке: устремление за время
«Книга образов» создавалась P.M. Рильке практически одновременно с «Часословом» (с 1899 г., первая редакция - 1902 г., вторая - 1906 г.). В вошедших в нее стихотворениях поэт интуитивно подходит к тому, что после знакомства с Роденом в 1902 г. получит для него эстетическое обоснование - к мысли о самоценности вещей и осознанию необходимости эту самодостаточность вещей, их внутреннее бытие, сущность зафиксировать словом, в произведении искусства [Лилеев 2010: 86]. В этом смысле «Книга образов» и «Новые стихотворения» действительно могут быть названы взаимодополняющими [там же: 84], поскольку первая из них, равно как и Третья книга «Часослова», что показала Е.Л. Иванова, оказывается «подготовительным» этапом, поиском и разработкой того художественного метода, которой станет основой «Новых стихотворений» и который можно охарактеризовать как пересоздание вещи поэтическим словом, превращение ее в эстетический объект, самим Рильке определенный как Ding-Gedicht - «стихотворение-вещь», «вещное стихотворение».
«Книга образов», будучи переходной, «эклектична»: она продолжает (что отмечал сам Рильке в письме поэту Отто Юлиусу Бирбауму) более ранний сборник «Мне на праздник» (1899) «другими, более зрелыми поэтическими средствами» (определение М. Энгеля, цит. по: [Лилеев 2010: 92], и вместе с тем в ней явственно движение от «интенсивного религиозного переживания и субъективности "Часослова" к возведенной в принцип объективности "Новых стихотворений"» [Горелик: 160]. И, несмотря на то что в стихотворениях «Книги образов» присутствует четко выраженное лирическое я, которое исчезнет, полностью растворится в созерцании вещи в «Новых стихотворениях», специфика художественного изображения в «Книге образов» отчетливо тяготеет к «Новым стихотворениям», ибо в этой книге, по словам Ю.С. Лилеева, «преобладает новое отношение к изображаемым предметам и явлениям: зарождающаяся "вещественность зрения" поэта, которая находит свое выражение в определенной поэтологической единице - "образе", или "картине" (Bild)» [Лилеев 2010: 92]. Именно эта близость двух книг позволяет нам выделить их в отдельный этап поэтического творчества Рильке и попытаться реконструировать общую для них, хотя и эволюционировавшую от книги к книге концепцию времени.
«Книга образов» пронизана музыкальной, звучащей стихией, которая еще в «Часослове» была подавлена стихией «визуализированного» творчества (иконопись, строительство, овеществленно выражающие идею богостроительства) . Так крепнут ростки идеи о творящих слове и песни, переводящих явление/вещь из времени в вечное пространство, - идеи, которая получит свое воплощение на позднем этапе творчества поэта, в «Дуинских элегиях» и «Сонетах к Орфею». Однако в «Книге образов» тема звучания вбирает в себя не только музыку, звук, слово, плач (жалобу), но и их противоположность - тишину (die Stille), и являющийся своеобразным «переходом» от тишины к наполненному смыслом звуку шум (das Rauschen).
Дихотомию «звук - тишина» Рильке находит во всех явлениях и во всех сюжетах из самых разных пластов мира. Это и диалектика звучания и тишины в «Музыке» и других стихотворениях, посвященных феномену музыки, и диалектика Божьего гласа и устрашающей тишины в «Страшном суде», и диалектика тишины-незнания-неполноты и звучания-созревания в стихотворениях начала книги, посвященных феномену-мифологеме (по определению Ю.С. Лилеева [Лилеев 2010, с. 68]) девушек, феномену насквозь временному, потому что основные чувства девушек, страх и надежда, направляют их в будущее. Это и взаимодействие двух стоящих рядом стихотворений «Тишина» и «Музыка», и игра матери на рояле, родившаяся из тишины пространства дома и внутреннего пространства мальчика («Из детства»), и неожиданно парадоксальная фраза «Und es war still, als der Gesang began...», показывающая, что песня и тишина нераздельны («Первое причастие»). Примеры можно множить и множить, особенно ярко эта взаимосвязь звука и беззвучия проявляется в первой части первой книги «Книги образов», но и далее свидетельств немало - так, в «Титульном листе» к циклу «Голоса» из последней части книги автор предваряет составляющие этот цикл «песни» обездоленных людей объяснением, почему именно им он дал право «голоса», а «богатым и счастливым прилично молчать».
С темой звучания связан через всю книгу проходящий образ скрипки, стянувший в себе основные знаковые темы «Книги образов»: бесконечного мирового пространства и связей между его элементами и творящего момента перевода мира из времени во вневременное состояние. В первом из «скрипичных» стихотворений описывается заявленное в заглавии время, скорректированное в первом стихе пространственно - южнонемецкая ночь.
Здесь мы видим, как ночь, вероятно, увиденная поэтом изображенной на картине Ганса Тома, 60-летию которого посвящен этот диптих, действительно предстает как изображенная, спациализированная, ибо видна поэту ganz breit, во всей полноте. Ночь этого стихотворения - действительно безмерное, безграничное пространство «великого единства» противоположностей [Павлова 2010: 18], генетически связанное не только с романтической традицией, но и со ставшей ей опорой традиией легендарно-мифологической - не зря в ночи Рильке видит «всех сказок возвращение». Тяжело падающие в глубины ночи часы, отсчитываемые башенным колоколом, коррелируют со зрелостью луны, в результате чего их падение предстает результатом их зрелости, полноты. Ночь в этом стихотворении - время полноты, мифологическое время, в котором зарождается звук-песнь.
Скрипка, «проснувшаяся» в «Лунной ночи», постепенно превращается в метафору пространства. Так, в стихотворении «Безумие» сошедшей с ума девушке струной скрипки видится ночная улица, а сама она, двигаясь по ней в танце «от края к краю», превращается в мелодию 36. В стихотворении «Сосед» соседом оказывается не столько лирический герой (соседом тех, кого он пугает откровением о главном законе мира - «жизнь тяжелее тяжести вещей»), сколько звучание неотступно следующей за ним «скрипки чужой», в котором слышится голос Бога, воспринимаемого как невидимый сосед лирического героя еще в «Часослове». Но позже, в стихотворении «На краю ночи», струной скрипки становится сам лирический герой, причем в первой строфе функцию «тела» скрипки выполняет весь мир, ночные просторы, а во второй «пустотелыми скрипками», жаждущими звука, оказываются уже вещи, чье внутренне пространство («древние глубины без конца») так же бесконечно, как внешнее пространство мира, бесконечно уже за счет не пространства как такового, а за счет времени, поскольку вмещает в себя все уже бывшие времена: «...и внутри них - стонущая тьма; / жалобы женщин, гнев поколений, / мечта и смятение...» Задача же лирического героя - «дрожать и петь», звучанием давая жизнь вещам и таящемуся в них времени. Наконец, значимой для создания сложного образа скрипки в «Книге образов» становится вторая часть стихотворения «Сын», которая следует за рассказанной историей-легендой и где рассказчик предстает «мечтательным скрипачом».
«Валезанские катрены»: миф на земле
Цикл «Валезанские катрены», написанный Рильке в 1924 г., можно рассматривать, вкупе с другим французским циклом того же времени, «Сады», и отдельными стихотворениями, как следующий этап эволюции художественного мира поэта. В этих циклах, чья форма позволяет охватить и воссоздать целостную картину мира, происходит непосредственный переход самого лирического субъекта в новое пространство, пространство «вне времени», парадоксальным образом вобравшее в себя при этом все возможные проекции времени. И тот факт, что в художественном мире «Валезанских катренов» явственно проглядывают черты реального географического локуса - кантона дю Валэ, где жил тогда Рильке, той Швейцарии, которая многим писателям и поэтам виделась одной из земных проекций рая, - служит словно подтверждением того, что преобразование мира по законам Царства Божия, по законам вечности достижимо на земле.
В «Валезанских катренах» обрисован фрагмент здешнего мира, живущий по законам мифологического пространства. Рильке обозначает его двумя лексемами: pays (фр. страна, земля; родина) / contree (фр. страна, край), вмещающими и природу, и людей. Ландшафт этого пространства сочетает в себе горы и долины, воды и деревья, колокольни и виноградники. Описываемые пейзажи словно вобрали самые важные элементы, издревле организующие космос. «В цикле нет "деревенской экзотики", собственно, нет даже Вале, есть некая южная земля с палящим солнцем и виноградниками. Все явления валезанской жизни даны не в конкретно-ситуативном виде, а в онтологически-обобщенном» [Крашенников, Пинковский 2000: 54]. И человек, живущий в этом природном космосе и тесно связанный с природой по роду деятельности («пастухи и виноградари» (ЗЗ)51, «те, кто работает в поле» (34)), ощущает каждое явление этого мира как иерофанию, как явление сакрального или его символ, и это наполняет его радостью и благодарностью. В аналогичном состоянии находится и сама природа, все ее элементы, которые либо устремлены в небо, где сконцентрирован этот источник благодати - «Местность на полпути к небесам от земли» (2), «И пламенные горы величаво встают одна вслед за другой / в стремленье к благородным небесам...» (14), «Предается с горячностью край / вдохновенье дарящему небу» (30), - либо вбирают ее, рассеянную повсюду, в себя, и тем, и другим способом обеспечивая наполнение мира Богом. И если в первых стихотворениях цикла эта благодать - в форме как света (clarte, lumiere), жара, так и их оборотной стороны, тени (ombre) - избыточна, чрезмерна («...прекрасная, совершенная страна, / горячая, словно хлеб» (2); «И виноградники, теряющие мощь, / в лучах палящих солнца золотятся» (4); «Тень сумрачную понемногу / гроздь виноградная вбирает; /избыточное, попирает / ее сияние дорогу» (3)), ибо мир только зреет и пока не может полностью вобрать ее в себя, то к концу цикла, с приближением осени, и мир и человек в нем находятся в состоянии спокойного счастья, поскольку Бог, растворившись в мире, словно звук, «наполнил чистую / долину своей бездонной сутью» (32). Это состояние похоже на волшебный сон (32), и когда стихает «художник-ветер», кажется, что «вседовольный бог / ко сну свои смыкает веки» (33), становясь метафорой, образом вечности. Благодать, разлитая по земле, уподобляет мир храму, и потому образы языческих богов и христианских святых время от времени просвечивают в природе - в плодах, горах, долинах (3, 11, 13, 19). Однако Рильке развивает идею «мир есть храм» далее, и развивает ее самобытно, в приближении к финалу цикла резюмируя: «Он любит, и он спит. / Лишь силой волшебства / проникнем в плоть его, / в душе его уснем» (32). Человек предстает как содержимое храма-сосуда, совпадая с самим Богом (который есть содержимое мира), что, в свою очередь, позволяет ему совпасть с природой, охватив ее всю. Именно эта идея «равновели-чия» всех уровней бытия вытекает из образа храма. И именно потому, вероятно, сам мир, который раскрывается поэтом в цикле, выглядит герметичным, замкнутым, как сосуд, к образу которого мы вернемся позднее.
Время в этом замкнутом самодостаточном мире также подчинено мифологической модели. Календарное время «Катренов» - лето, во второй половине лирического цикла приближающееся в осени (которая «обречена стать соучастницею лета» (20)), пора созревания и собственно зрелости - как плодов и злаков, так и самого мира. Сутки в этом зреющем мире делятся на две части: день как время «герметизации» мира, наполнения его божественными светом и тенью, и ночь (вечер), чья функция - освобождать землю, вновь превращая ее, «звезду, покинувшую небосвод» (24), в одну из звезд, чей свет привлекает человеческий взор (23, 33). Особенно ярко все атрибуты ночи представлены в 23-м стихотворении цикла.
Сияние, частое определение которого в цикле - серебристое (argente), разомк-нутость пространства и звуки ночи (в этом стихотворении - пение соловья, в следующем - «голос вод») наиболее приближают земной мир к идеалу свободных чистых звезд. Ночь представляет собой иной, чем день, способ приближения к небу - посредством «разгерметизации» пространства земли, обнаружения в нем черт сходства с небом (сияние, божественное звучание). И не последнюю роль в этом играет актуализация образа воды (16, 24), в частности уподобление соловьиной песни 23-го стихотворения «голосу вод» 24-го, который видится здесь принадлежностью небесного мира. Вода как материя, предшествующая всем формам и лежащая в их основе, с одной стороны, а с другой - способная упразднить историю, стерев прошлое и восстановив изначальную целостность и чистоту, возвращает мир к состоянию еще до «первого дня творенья», таящегося, как отправная точка мира, в его настоящем и служащего ориентиром (6, 14, 15). Ночью земля погружается в еще более древнее время, которое сопоставимо с моментом «до рождения», и каждый раз с приходом дня словно создается заново, очистившись, освободившись, став подобной небу. И хотя этот способ приближения земного мира к небесному идеалу разработан Рильке в «Валезанских катренах» в гораздо меньшей степени, чем «дневной» (редкие «ночные» стихотворения равномерно перемежают, «разбавляют» основной, «дневной» корпус стихов - как летняя короткая ночь следует за долгим днем: 9 - 16 - 23, 24 - 33), однако и этих нескольких стихотворений достаточно, чтобы к характеристикам земного мира добавилась еще одна важная - его звездная, небесная природа, объясняющая его устремленность в небо и вместе с тем вселяющая веру в возможность его устроения по законам небесного образца, тем более что небо, «друг этой грубой земли», со своей стороны стремясь уподобить землю себе, «смягчает ее контуры» (37 «Валезанское небо»).
Концепция времени в «Валезанских катренах» предельно близка к мифологической. Стихотворения цикла трудно отнести к традиционной «пейзажной лирике», поскольку каждое стихотворение, выхватывая один фрагмент действительности, при этом устанавливает определенные связи и соответствия между несколькими мирами, которые привык разделять человек. Быт пронизан природой, природа - Богом, храм - повседневностью, и человек, помещенный в это единое пространство, находится сразу во всех измерениях. Время становится одной из скреп между пространствами. Даже природа определяется в первую очередь через вре мя, а затем уж пространственно: «лишь время года / и сама даль» (31). И если пространственная характеристика природного мира («Дороги, которые никуда не ведут, / лежат вблизи друг от друга... ... Дороги, те, которых часто нет») размыкает его в бесконечную даль - в «пространство девственное», то временная, напротив, замыкает в годовой круг - «...и времена года». Человеческое время в этом благословенном краю уподобляется природному циклу, поскольку человек находится в тесном соприкосновении с природой по роду своей деятельности:
Повторяется год, даря постоянство крестьянам;
Дева Мария и Анна приветствуют каждого нужным словом.
Иных - песнями, самыми древними, благославляя их всех плодами земли (13).
В первых катренах 13-го стихотворения цикла присутствуют сразу все миры: крестьянский год совпадает с природным, а святые, эти посредники между человеком и Богом, в помощь человеку заботятся об урожае. Причем две указанные святые в своем единстве, как одно целое, воплощают в христианстве идеал чистого, святого плодородия: Дева Мария, открывшая Новый Завет, связавшая в своем Сыне прошлое с будущим, и благословившая ее Анна (а с ними перекликается античная Прозерпина 3-го стихотворения, как более глубокий слой - от нее ощутим только жест, просвечивающий в колеблющейся розе света, - также присутствующая в мире «Валезанских катренов», связывая пласты античности и христианства, эти параллельно свершавшиеся Истории единого мира). Святые предстают в данном контексте богинями плодородия, воздействующими на мир путем актуализации некоего имманентно присущего ему закона.