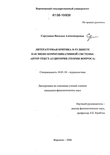Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Трансмедийность сценарного текста и категория автора 34
1. К понятию трансмедийности
1.1. Взаимопроникновение медиа и «медиа-онтологическое сомнение» 39
1.2. Сценарная адаптация и трансмедиинос воображение воспринимающего субъекта 45
2. Категория автора в трапемедийном тексте 52
2.1. Автор как медиатор: между субъектами и между медиа
2.2. Расщепление повествовательной инстанции в тексте сценарной адаптации
Глава II. Сценарная адаптация чужого нарратива: авторские стратегии Пинтсра 66
1. Повествовательные стратегии и инстанции
1.1. Расслоение повествовательной инстанции у Пинтсра: общие замечания
1.2. Камера как вспомогательная повествовательная инстанция 73
1.3. «Self-conscious narrator» и сценарный автокомментарий 81
1.4. «Двойная лояльность» сценариста 86
2. Воспринимающий субъект сценарной адаптации 96
2.1. Расслоение воспринимающего субъекта
2.2. Плодотворное раздвоение внимания читателя 99
2.3. Сценарная адаптация: опыт чтения как опыт письма 105
3. Множественное расщепление текста сценарной адаптации 114
3.1. Цитатность сценарной адаптации
3.2. Игра с оригиналом как утверждение сценаристом собственного авторства... 121
3.3. Сюжет оригинала как основа для сценария: знание VS «пред-знание» 126
3. 4. Временной зазор между оригинальной и сценарной историей 130
3.5. Перефокусировка оригинальной истории в сценарном тексте 137
4. Заключение 141
Глава III. Авто-адаптация в творчестве Пинтера 146
1. Авто-адаптация: диалог с собой как с «другим» 147
2. Авто-адаптация театральной пьесы: опыт Пинтера 152
3. Театральная пьеса и киносценарий; сходство и различие 155
4. Анализ трех авто-адаптац и й Пинтера 160
4.1. Общие замечания
4.2. «ТЕЛ PARTY» 162
4.2.1. Камера как особая повествовательная инстанция 166
4.2.2. Расслоение воспринимающего субъекта в тексте авто-адаптации 168
4.2.3. Литература и кино/ТВ: двойная лояльность сценариста , 169
4.2.4. Перефокусировка оригинальной истории в авто-адаптации 171
4.2.5. Чтение «с двойного экрана» 173
4.2.6. Цитатность в авто-адаптации 174
4.2.7. Игра с оригиналом и сценарный авто-комментарий 175
4.2.8. Сюжет оригинала как основа для сценария: ситуация авто-адаптации 177
4.3. «THE BASEMENT» 179
4.3.1. Литература и кино: двойная лояльность сценариста 185
4.3.2. Чтение «с тройного экрана» ... 187
4.3.3. Цитатность в авто-адаптации 189
4.3.4. Игра с персонажами оригинала и сценарный автокомментарий 191
4.3.5. Цикличность и временной зазор между сюжетами оригинала и сценария 192
4.3.6. Перефокусировка оригинальной истории в авто-адаптации 194
4.4. «PARTY TIME» 195
4.4.1. Роль камеры в авто-адаптации театральной пьесы 199
4.4.2. Чтение «с двойного экрана» 201
4.4.3. Игра с оригиналом и сценарный авто-комментарий 204
5. Заключение 206
Заключение 210
Список использованной и цитируемой литературы 220
- Взаимопроникновение медиа и «медиа-онтологическое сомнение»
- Камера как вспомогательная повествовательная инстанция
- Авто-адаптация: диалог с собой как с «другим»
Введение к работе
Несмотря на то, что литературные произведения адаптировались для экрана с первых лет существования кинематографа1, теория экранизации до сих пор представляет собой маргинальное поле кино- и литературоведческих исследований, Отсутствие внятных концепций экранизации объясняется как неоднородностью самого поля исследований («литературоведческий» и «киноведческий» подходы к феномену экранизации иногда дают противоположные результаты), так и неопределенностью объекта анализа. Не всегда понятно, что следует изучать в качестве кинематографического «коррелята» литературного текста, - сценарий или фильм (а если фильм вышел в прокат в США и Европе, то какую из прокатных версий нужно брать за основу?).
Между тем, сценарии все прочнее входят в культурное поле как художественные тексты, предполагающие не только воплощение на экране, но и чтение. В русской и в англоязычной традиции роль сценария как текста для чтения различается. Российский сценарий в своей форме наследует «советскому сценарию», который писался в виде прозаического повествования («киноповести») с особым вниманием к визуальной образности текста. В англоязычной традиции сценарий представляет собой разделенный на кадры драматический диалог с ремарками, в которых содержатся указания для режиссера и оператора ("shot-for-shot technique") [317: 61]. Если отечественный сценарий, по сути, ничем не отличается от привычных читателю повествовательных текстов, западный сценарий требует специальных навыков чтения. Различная роль западного и отечественного сценария в соответствующем культурном пространстве объясняется отчасти этим, а отчасти - особой государственной политикой, направленной на утверждение советского сценария как литературного произведения, о которой пойдет речь дальше.
Англоязычные сценарии публикуются с 1917 года, когда вышел сборник «Маленькие истории с экрана», составленный Уильямом Эдисоном Лэтропом и содержащий синопсисы поставленных «фотопьес» в том виде, в каком они поступили на студию [295: 175]. С тех пор сценарии публиковались как в тематических сборниках (например, «Идентичность», «Мужчины и женщины» и «Власть», выпущенные в 1974 под редакцией Ричарда Мейнарда3), так и отдельными изданиями (в 1960-х годах издательство «Viking
«Западня» Эмиля Золя считается первым экранизированным романом: 5-минутный фильм по нему был снят в 1902 голу французским кинематографистом» [312: 156].
2 Lathrop, William Addison. "Little Stones from the Screen". New York: Garland, 1978.
3 Maynard, Richard A., ed. "Identity". Scholastic Book Services: 1974; "Men and Women". Scholastic Book
Services: 1974; "Power". Scholastic Book Services: 1974.
Press» выпустило серию сценариев, среди которых были «Ниночка» Чарльза Брэккетта и «Ночь в опере» Джорджа С. Кауфмана5). Клиффорд Маккарти в библиографическом справочнике 1971 года насчитывает уже 388 опубликованных сценариев [297]; впоследствии объемы публикации сценариев выросли еще больше. В 2000 году издательство «Faber & Faber» смогло выпустить собрание сценариев Гарольда Пинтера в трех томах как вполне коммерческий проект, рассчитанный на массового читателя [2;3;4].
Однако несмотря на явный рост внимания к ним издателей и читателей сценарии, а тем более сценарные адаптации, в каком-то смысле остаются «слепым пятном» литературы. Одной из причин этого можно считать неопределенность адресата этих текстов: с одной стороны, они издаются как неспециализированная (и даже порой массовая) литература, а с другой стороны, требуют читателя, обладающего особыми навыками чтения, Еще менее исследованной представляется роль сценариста-адаптатора как автора текста, материалом для которого послужило художественное произведение другого автора, созданное к тому же по законам иного «медиума» (или художественной системы). В книге «Теория Schreiber: радикальный пересмотр истории американского кино» (2005) американский кинокритик Дэвид Кипен отмечает маргинальное положение сценариста вообще: ни один историк кино не изучает карьеру сценариста так, как изучается карьера режиссера, - как «органически связное целое»6 [202: 45]. Снисходительное отношение к экранизации демонстрируют и сами сценаристы-адаптаторы. Уильям Голдман, получивший «Оскара» за экранизацию романа Роберта Пени Уоррена «Вся королевская рать» (1949), писал: «Оригинальный сценарий написать труднее всего, потому что это творчество; легче всего адаптировать чужой текст» [322: 67].
Задача дайной работы - доказать, что эта «легкость» и обусловленная ею недооценка роли сценариста свидетельствует не об отсутствии, а о невидимости проблемы. Автор сценарной адаптации создает специфический художественный текст, ориентированный одновременно на два медиума - литературный и кинематографический - и взаимодействующий с читателем в рамках особого «пакта», посредством особого трансмедийного языка,
В современной мультимедийной культуре «чистая» литература и традиционное литературное чтение постепенно теряет свое центральное положение. Дж. Хиллис Миллер отмечает, что социокультурные процессы, происходящие в современном обществе (переход от печати к иным способам распространения и архивирования текстов, а также
* Bracket!, Charles, Billy Wilder, and Walter Reisch. "Ninotchka". New York: Viking: 1966.
5 Kaufman, George S., Morrie Ryskind, and James Kevin McGuinness. "A Night at the Opera". New York: Viking,
1962.
^десь и далее цитаты из иноязычных изданий даются в моем переводе - Ю.И.
культурная и политическая глобализация), изменяют и роль литературы в создании, укреплении и критике доминирующей идеологии. По Миллеру, в эпоху новых медиа происходит замещение литературы «литературностью», которая характеризуется сочетанием и взаимодействием слова со звуком и изображением. При этом новые формы «литературности» отличаются от привычных нам текстов и требуют иного типа восприятия, нежели привычные нам тексты: «новые формы, использующие гипертекст и гипермедиа, вероятно, будут менее завершенными, менее зависимыми от линейного начала, середины и конца, чем старомодная печатная литература» [305].
06 изменении статуса литературы и литературного текста в современной культуре
свидетельствует, в первую очередь, обилие государственных и частных программ,
направленных на пропаганду чтения среди населения. Их необходимость мотивируется
тем, чго престиж чтения в современном обществе быстро и катастрофически снижается.
Так, начиная с 1980-х годов, в США и Европе особое внимание уделяется проблеме
«вторичной неграмотности», вызванной кризисом чтения. В США пропагандой чтения и
изучения печатной культуры занимается Центр Книги, учрежденный Законом 95-129 от 13
октября 1977 года и имеющим статус и полномочия правительственного агентства при
Библиотеке Конгресса. В Великобритании 1997 год стал началом национальной кампании
в поддержку чтения, получившей название «Национальный год чтения» [298]. В России
по инициативе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 2007 год
объявлен Годом чтения. По статистике, каждый третий россиянин не читает книг, а
литература в последние годы становится одним из второстепенных предметов в школьной
программе [299]. Меры борьбы с кризисом чтения и книжной неграмотностью населения
разрабатываются на правительственном уровне.
Другим знаком того, что в современной культуре литература как «чистый медиум» перестает играть центральную роль, становятся многочисленные культурные акции, направленные на размывание границ между медиа, ставшие частью современного культурного ландшафта7. В этих условиях характеристики и функции автора (и читателя) в литературном тексте также подвергается пересмотру: «медиализация» литературы и изменение ее места в культурном пространстве проблематизируют и роль субъекта в тексте - как творящего, так и воспринимающего.
В данной работе проблема автора в новом мультимедийном пространстве рассматривается на примере экранизации литературных произведений, причем объектом
7 Одной из таких акций стал I Московский международный открытый книжный фестиваль, прошедший в
июне 2006. Его основной задачей стало соединение литературы с другими медиа - кино, музыкой, видео, и
т.д., а также сочетание традиционных и нетрадиционных практик чтения. На фестивале были показаны
видеоролики на стихи современных поэтов, «sound-poetry», комиксы и фильмы по мотивам разных
литературных произведений, перформансы, поводом для которых служили отдельные КНИГИ, и т.д. [304].
исследования является фигура автора сценарной адаптации. Сценарист - как бы не вполне автор своего текста: он не уникален, не оригинален и не несет полной ответственности за свое произведение8, поскольку эстетическая ценность адаптации зависит, с одной стороны, от достоинств оригинала, а с другой стороны, от компетенции читателя сценария, способного заметить и оценить вклад сценариста. Адаптатор уподобляется переводчику: он служит проводником между медиа, текстами и субъектами, участвующими в производстве и воспроизводстве этих текстов. Мы попытаемся определить характерные особенности такой по-новому определяемой авторской функции на примере сценарного творчества Гарольда Пинтера.
Для этого необходимо посмотреть, как разные исследователи определяют медийное соотношение литературы и кинематографа, как решается вопрос об эстетической иерархии оригинала и сценария/фильма по нему и какие подходы существуют к проблеме переводимости/пепереводимости литературного текста на язык кинематографа. Затем следует подробно остановиться на проблеме авторства в кинематографе, чтобы определить роль сценариста среди других «творцов» - продюсера, режиссера и (не в последнюю очередь) автора литературного оригинала. Наконец, существует круг теоретических вопросов, связанных со статусом сценарного текста в культуре (считать ли его самостоятельным произведением или служебным «техническим» текстом), а также с его «гибридной», или траисмедийной, природой, подразумевающей сложное взаимодействие вербального и визуального в рамках перформативного текста.
1. К теории экранизации
В основе большинства теоретических работ, посвященных феномену экранизации, лежит сопоставление литературы и кино как разных художественных систем, а не литературы и «сценарной литературы». Объектом анализа, наряду с текстом оригинала, является фильм, а сценарий появляется в этих исследованиях как своего рода подстрочник, позволяющий точнее цитировать кино-текст. Соответственно, исследователей занимает соотношение языка литературы и кинематографа и роль режиссера в интерпретации первоисточника, тогда как об авторской фигуре сценариста или не пишут совсем, или по умолчанию включают ее в понятие «кинематографист» ("filmmaker") наряду с режиссером и продюсером.
Ср., например, социальное определение понятия «автор», которое предлагает Марта Вудманси в противоположность структуралистским и постструктуралистским концепциям: «В современном понимании «автор» - это индивид, который несет всю полноту ответственности за создание уникального, оригинального произведения» [57: 35].
Одним из первых теоретиков экранизации стал режиссер и киновед Бела Балаш. Он усматривал непреодолимое препятствие на пути экранизации в различии художественных языков литературы и кино, которое делает необходимой стилистическую переработку оригинального материала в фильме [138: 272]. По мысли Балаша, кино развивается в сторону «освобождения» от литературности и поэтому должно опираться на оригинальные сюжеты [137: 86]. Мысль о векторе развития кинематографа (в сторону синтеза с литературой или в сторону «анти-литературности» и поиска собственной художественной специфики) трансформировалась в дискуссию об эстетической иерархии литературного оригинала и экранизации. Так, в книге «Динамика фильма» Джозефа и Гарри Фелдмана (1959) роль первоисточника практически свелась к нулю, поскольку художественная ценность литературного произведения не играет никакой роли при переводе его на экран [164: 31], а сам роман служит всего лишь источником фабулы фильма,
Тем не менее, в Англии первое десятилетие после Второй мировой войны стало «эпохой экранизаций» [177: 198], и в 1960-е годы литературный оригинал был восстановлен в правах. Исследователи стали делать акцент на разнице литературного и кинематографического сюжетов; тем самым утверждалась художественная ценность и самостоятельность как романа, так и фильма по нему. Джордж Блюстоун отмечал, что фильм неизбежно станет другим художественным произведением по отношению к роману, послужившему его источником [183: 64]. Джон Лоусон ставил художественную ценность фильма в прямую зависимость от того, насколько он отличается от литературного оригинала [204: 206]. Наконец, Андре Базен в книге «Что такое кино?» выступил в защиту экранизации, отметив как ее художественную самостоятельность, так и игру смыслов между оригиналом и фильмом по нему, которая значительно обогащает текст экранизации [136:122].
Одной из основных теоретических работ по экранизации является книга Джорджа Блюстоуна «Романы в кино» (1957). В ней исследуются основные оппозиции, с которыми теория экранизаций работает до сих пор: внешнее/внутреннее действие, изображение/повествование, пространство/время. По мнению Блюстоуна, различие художественных языков литературы и кинематографа обусловлено их природой. Литература работает со словом, а кино - с изображением; из этого противопоставления вырастают как бы «области компетенции» обоих медиа, которые частично пересекаются [183:47-48]. Существуют переводимые и непереводимые элементы литературного и кинотекста; Блюстоун выделяет «специфически фильмические» ("peculiarly filmic") и «специфически романные» ("peculiarly novelistic") элементы, которые не могут быть
перенесены из одного медиума в другой [183: 63]. Из этого исследователь делает вывод о непереводимости некоторых литературных произведений - например, романов Джойса и Пруста-на язык кино [183: 63].
Несмотря на то» что этот вывод опровергается существованием экранизаций вышеупомянутых романов (один из сценариев по эпопее «В поисках утраченного времени» принадлежит Пиитеру), вклад Блюстоуна в разработку теории экранизации трудно переоценить. Он одним из первых обратил внимание на сценарий как на возможный объект анализа. Метод сравнения книги и фильма, позаимствованный им из диссертации Лестера Эсхейма9, подразумевает «наложение» сценария на книгу, а затем просмотр фильма со сценарием в руках. Это фактически чтение «с двойного экрана», о котором пойдет речь в данной работе, хотя для Блюстоуна сценарий, очевидно, является не самостоятельным объектом и целью исследования, а всего лишь удобным инструментом, позволяющим сопоставить такие разные произведения, как роман и фильм. Более того, исследователь не делает различий между сценаристом и режиссером в деле интерпретации литературного источника; роль сценариста-ад аптатора как бы растворяется в съемочном процессе. И хотя достижение Блюстоуна заключается в утверждении адаптатора в качестве самостоятельного автора нового художественного произведения - экранизации, - этот автор обозначается как «кинематографист» («filmist»)'0.
Вслед за Блюстоуном многие исследователи экранизации опирались на противопоставление литературы и кино, сводя его к противопоставлению повествовательно ста и изобразительности. Андре Базен писал, что эстетические различия между романной структурой и структурой фильма требуют от кинематографиста особой изобретательности и богатства фантазии, превращая экранизацию в творческий акт [136: 137]. Уильям Джинкс противопоставлял косвенную, «лингвистическую» изобразительность литературы непосредственной визуальной изобразительности кинематографа [198: 4]. На оппозицию внутреннего/внешнего действия опирается в своем исследовании и Эдвард Мюррей. В книге «Кинематографическое воображение: писатели и кинематограф» (1972) он сопоставляет роман и фильм, а также пишет о взаимоотношениях кинематографа с театром. Как и Блюстоун, Мюррей выделяет «области компетенции» литературы (абстракции, мысли, воспоминания) и кино (конкретные вещи, действия). Однако для него существенными являются не структурные, а медийные различия. Разницу между театром и кино он видит в том, «каким образом
9 Asheim, Lester. "From Book to Film". Unpublished Ph.D. dissertation. University of Chicago, 1949.
10 «Кинематографист в самом полном смысле слова становится не переводчиком известного автора, а новым
автором в своем роде» [183:62].
история разыгрывается на сцене, и каким образом действие проектируется на экран» [210: 9; курсив автора - Ю.И.].
Дуглас Гарретт Уинстон в своей книге «Сценарий как литература» (1973) также опирается на медийные различия между литературой и кило. По его мнению, медиум писателя - это «слово, которое служит посредником между физической реальностью, которую описывает литератор, и воображением читателя», тогда как медиум режиссера -«непосредственная физическая реальность»11 [219: 59]. Из этого противопоставления исследователь выводит понятие «тотальной видимости» ("total visibility"), которая отличает фильм от романа: в камеру попадает множество разных объектов помимо важных для развития сюжета, тогда как в поле зрения читателя попадает только то, что романист счел нужным упомянуть . Однако Уинстона интересует, скорее, не различие, а сходство повествовательной техники литературы и кино: он проводит параллели между потоком сознания в романе и бессюжетными сценариями Антониони, отмечая, что роман и фильм развиваются параллельно от изображения простого к изображению сложного [219:58].
О синтезе романной и кинематографической повествовательной техники пишет и Джеффри Вапгер в книге «Роман и кинематограф» (1975), приводя в качестве примера фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941). Кроме того, Вагнер одним из первых предпринимает попытку классифицировать различные типы адаптации по принципу отношения экранизации к оригиналу. Он выделяет «транспозицию» («роман, перенесенный непосредственно на экран»), «комментарий» («если оригинал намеренно или случайно подвергается незначительным изменениям») и «аналогию» (например, когда действие оригинала перенесено в другое время) [218: 222-3]. С этой классификацией легко спорить; каждая экранизация отличается индивидуальным подходом к оригинальному материалу, и нет четких критериев количественной оценки тех изменений, которые сценарист и режиссер внесли в первоначальный сюжет. Однако сам факт классификации говорит о том, что адаптация входит в поле теоретической мысли как полноправный объект исследования,
Надо отметить, что сторонники семиотического подхода к кино придерживались другого мнения. Умберто Эко в книге «Отсутствующая структура» (1968) критиковал представление о кино как о «семиотике реальности», согласно которому «простейшими знаками кинематографического языка являются реальные объекты» [116: 207], и подставлял на место таких объектов нконические знаки, которые «воспроизводят некоторые условия восприятия объекта, но после отбора, осуществленного на основе кода узнавания, и согласования их с имеющимся репертуаром графических конвенций» [116: 160; курсив автора -Ю.И.].
13 В литературе есть аналог «тотальной видимости», о которой пишет Уинстон. Это так называемая преференциальная иллюзия», о которой пишет Ролан Барт в статье «Эффект реальности» [50:400].
Тем не менее сцеиарист-адаптатор как самостоятельная авторская фигура остается на периферии теоретического внимания исследователей. Так, Дональд Чейз в книге «Кинопроизводство: процесс сотрудничества» (1975) наделяет статусом «творца» и «художника» - причем с существенными оговорками - только автора оригинального сценария [189: 31]. Единственным серьезным исследованием творчества сценаристов в 1970-е годы стала книга Ричарда Корлисса «Звуковые картины. Сценаристы в американском кино. 1927-1973» (1974), в которой сценарное творчество рассматривается как самостоятельное искусство, равное (а иногда и превосходящее) искусство режиссера. Однако, наделяя сценаристов статусом полноправных авторов в кино, Корлисс маргинализирует адаптаторов: он выделяет их в особый класс «хамелеонов», не входящий в «пантеон» лучших сценаристов Америки, причем «хамелеонами» называются как авторы экранизаций литературных произведений, так и сценаристы, переписывающие чужие сценарии по заказу студий. Таким образом, Корлисс уравнивает экранизацию с технической адаптацией сценарного текста; по мнению исследователя, только автор оригинальных сценариев, вроде Бена Хекта, может выработать узнаваемый персональный стиль и стать «автором», тогда как стиль «хамелеона», с одной стороны, зависит от стиля его первоисточника, ас другой стороны, подчинен стилю режиссера13 [193: 263-4].
В России проблему авторства применительно к инсценировкам и экранизациям с особым вниманием к трансмедийности полученного текста поставил Кирилл Разлогов. В статье «Проблема трансформации повествований» (1979), опираясь на учение Проппа о морфологии волшебной сказки, он исследует преобразования нарративов в разных медиа при сохранении некоего сюжетного инварианта. Поскольку в результате инсценировки, экранизации или любого другого исполнения форма произведения меняется, неизбежно возникает новое художественное единство с новым автором. Чтобы описать эту ситуацию, Разлогов вводит понятие соавторства «при иллюзорном единстве рассказчика» [161: 125], отмечая, что исполнительство - одна из граней такого соавторства: так, каждое театральное представление уникально, потому что актер всякий раз играет свою роль по-разному.
Особый вклад в теорию экранизаций внес Джой Г. Бойем. В книге «Двойная экспозиция: литература в кино» (1985) он попытался разрешить ряд теоретических противоречий в дискуссии о природе адаптации. Он обратил внимание на то, что звуковое
13 Таким образом, вопреки заявленной самостоятельности сценариста как автора художественного произведения, для Корлисса конечным объектом исследования также является не сценарий, а фильм. Позиция исследователя заключается в стремлении заменить режиссера как автора этого фильма сценаристом. Анализируя творческие пути голливудских сценаристов, Корлисс обращает внимание, главным образом, на сквозные мотивы, сюжетные ходы и диалоги, отсылая читателя не к: текстам соответствующих сценариев, а к фильмам, делая сценариста автором текста, созданного не им.
кино не является чисто визуальным медиумом и в большой степени опирается на слово, как и литература. Соответственно, между литературой и кино есть много общего: двойное время (время действия и время восприятия/производства артефакта), построение характеров, создание целостного художественного мира. Кроме того, Бойем отметил сходство восприятия читателя и зрителя: и тот, и другой вынуждены с помощью воображения достраивать образ, предложенный им автором, на основе неполной информации [186: 25-6]. Он одним из первых положил в основу исследования экранизации реакцию воспринимающего субъекта, т.е. фактически применил рецептивную эстетику Вольфганга Изера к изучению кинематографа. В частности, Бойем писал, что, сравнивая оригинал и фильм, мы сравниваем не два произведения, а собственное читательское впечатление со зрительским [186: 50]; при этом важным фактором является «двойное видение», которое зритель, читавший оригинал, привносит в экранизацию [186: 54-5].
Таким образом, Бойем снимает проблему соответствия литературного произведения кинематографическому и вопрос о верности оригиналу: если экранизация в любом случае является читательской интерпретацией, то важна лишь художественная убедительность этой интерпретации, выделяющая ее среди всех прочих, также имеющих право на существование. На примере анализа нескольких зрительских реакций во время просмотра фильма «Выбор Софи» (1982) Бойем показывает, что «верность оригиналу» фактически определяется изначальным настроем зрителя, его готовностью или неготовностью увидеть в экранизации точный аналог литературного оригинала [186: 49-50].
Кроме того, Бойем описывает явление, крайне важное для данной работы: говоря о «двойной задаче» адаптатора литературных произведений, он фактически формулирует определение «двойной лояльности» сценариста - по отношению к оригиналу и по отношению к медиуму кино. «...Перед кинематограф и стом-адаптатором стоит двойная задача: он должен продемонстрировать определенную верность предыдущему произведению искусства, ...по в то же самое время он должен создать новое произведение искусства на своем особом языке - на языке кино» [186: 70]. Однако у Бойема «двойная лояльность» характеризует не сценариста, а «кинематографиста» («filmmaker»), т.е. режиссера (и/или продюсера), который и рассматривается как «читатель-переводчик» оригинала [186: 70],
Важность читательской интерпретации как творческого стимула, который воздействует на адаптатора, подчеркивали и российские теоретики экранизации. Е. Левин в статье «Экранизация: историзм, мифография, мифология (к типологии общественного сознания и художественного мышления)» (1994) рассматривал экранизацию как частный случаи
интерпретации и отмечал одновременно субъективность и двойную «ориентацию» адаптатора, его опору на оригинал и па будущего зрителя. «Интерпретатор - всегда субъективный толкователь, у него есть определенная личная установка на объект..., включающая дистанцию между субъектом и объектом и контакт первого со вторым. А экранный (равно как и сценический) интерпретатор первоисточника вырабатывает еще и установку на будущего зрителя - на более или менее массовую аудиторию, так или иначе осознанную,.., просчитанную и разнообразии зрительских установок предполагаемых покупателей билетов именно на этот фильм (или спектакль)» [153: 72].
Как видим, в последние десятилетия дискуссия об экранизациях распадается на два направления. В рамках одного из них исследователей занимают медийные (или «языковые») различия между литературой и кинематографом: именно они в какой-то степени ответственны за текст экранизации, тогда как роль автора оказывается несущественной; экранизация, таким образом, предстает как частный случай бартовского текста, который пишет сам себя, «составляясь» из диалога двух медиа, В рамках другого подхода большое внимание уделяется читательско-зрительскому восприятию экранизации, которое также формирует авторскую интенцию сценариста-адаптатора. Оба этих подхода как бы вытесняют фигуру автора сценарной экранизации из фокуса внимания, замещая ее текстовыми (или медийными) конструкциями. Этим отличается и парратологнческии подход к экранизациям, опирающийся на наблюдения, сделанные Роланом Бартом применительно к художественной прозе.
В статье «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» (1966) Барт выделяет «сегменты сюжета», которые оказываются структурными единицами текста, или «функциями» [48: 203]. Существует два больших класса функций: дистрибутивные (за ними закрепляется название «функции») и иитегративные, или «индексы»; при этом первые описываются понятием «делать», а вторые - понятием «быть» [48: 206]. В каждом классе Барт выделяет два подкласса; в частности, «функции» в узком смысле слова он делит на «кардинальные» (или «ядерные») функции и «функции-катализаторы». Сюжетный каркас, по Барту, строится из ядерных функций, которые создают или разрешают «некую ситуативную неопределенность»; между ними расположены «катализаторы», заполняющие повествовательное пространство и важные лишь в той мере, в которой они коррелируют с ядром [48: 207]. Сторонники нарратологического подхода к экранизации позаимствовали это разделение и применили его к сюжетным трансформациям, которые претерпевает литературный текст при переводе на экран; наиболее последовательно этот подход применяется в книге Брайана МакФарлейна «Роман в кино: введение в теорию экранизации» (1996). Сопоставление оригинала и
экранизации сводится к выявлению общих сюжетных эелементов (т.е. ядерных функций, без которых невозможна преемственность между двумя текстами) и «катализаторов», которые не вошли в фильм по причине глубокой укорененности в медиуме литературы, что делает их непереводимыми па язык кино (фактически, здесь нарратологический подход смыкается с «медийным», берущим начало от Блюстоупа) [208].
Сторонники такого подхода отказываются от каких-либо эстетических иерархий, настаивая на безоценочном сопоставлении повествовательных стратегий двух текстов. Так, Имельда Уэлехап в предисловии к сборнику «Адаптации; от текста к экрану, от экрана к тексту» (1999) считает своей задачей уйти от разговора о том, насколько фильм соответствует оригиналу, и вообще от проблемы «верности оригиналу» [171; 3-4]. Вместо этого она и другие участники сборника занимаются исследованием трансформаций сюжета в различных медиа (в сборнике речь идет не только о кипо и литературе, но и о комиксах, телевидении, театре и т.д.). При таком подходе авторская индивидуальность сценариста (и/или режиссера) как бы растворяется в диалоге медиа; в предисловии к первой части сборника Дебора Картмелл вслед за Бартом и Кристевой заменяет автора интертекстом, бесконечно производящим себя. «Вероятно, поиск «оригинала» или единственного автора в постмодернистском мире более не релевантен, поскольку вера в единственное значение оказалась бесплодным предприятием. Вместо того чтобы думать о «верности» фильма оригинальному тексту, ...в экранизациях мы ищем множественность значений. Таким образом, в центре нашего внимания находится интертекстуальность экранизации» [171:28].
С похожих позиций подходит к экранизации и И.А. Мартьянова. Для нее важнейшим аспектом адаптации литературного текста для экрана является трансформация его «жанровой природы» в другом медиуме: «в процессе экранизации в диалог вступают жанрово-родовые сущности экранизируемого произведения и киносценария» [157: 137]. При этом экранизация как текст представляется результатом именно «жанрово-родового диалога» двух текстов, с незначительным участием автора, который является лишь точкой схождения и объективации различий между ними. Мартьянова рассматривает адаптацию как результат «дискурсивно продуманной рефлексии по отношению к тексту другого литературного рода, одной из целей которой является не отражение, а изображение его жанрово-родовых особенностей» [157:135].
Действительно, и диалог двух медиа, и эксплицитная иитертекстуальность адаптации являются существенными факторами как самой природы такого текста, так и читательского интереса к нему, Однако при такой постановке вопроса индивидуальность каждой экранизации теряется. Если экранизация полностью подчинена диалогу медиа и
конституируется только им, почему невозможно вывести четкие правила перевода повествовательных текстов в кинематографические с предсказуемым качественным результатом? Без рассмотрения индивидуальных (иногда даже произвольных) авторских решений сценариста невозможно объяснить, почему адаптации вообще отличаются друг от друга (особенно когда по одному произведению пишется несколько сценариев).
Своеобразная «реабилитация» фигуры автора в сценарной адаптации, созвучная замыслу данной работы, предложена в работе Джеймса Гриффита «Адаптации как имитации: фильмы из романов» (1997). Используя своеобразно воспринятый им опыт Чикагской школы литературной критики, Гриффит объявляет задачей адаптатора «имитировать выборы, сделанные романистом» ("imitate the novelist's choices") [194: 73], т.е. рассматривает экранизацию как диалог двух авторских стратегии. Вопрос о верности оригиналу здесь также снимается, но не за счет переложения ответственности за «приближение» к оригиналу с автора сценария на диалог медиа, а потому, что такое приближение объявляется невозможным. «Если считать, что искусство подразумевает неразрывную связь формы и содержания, и если исходя из этого определять искусство в соответствии с его медиумом, проблема экранизации романа решается очень просто: экранизация не может быть тем же самым произведением» [194: 30],
В основу исследования адаптации Гриффит кладет авторские стратегии «кинематографиста» в их взаимодействии со стратегиями автора оригинала. Текст экранизации оказывается продуктом авторской интенции, а не медиа; вслед за Чикагскими критиками Гриффит пишет о служебной роли языка (и медиума) по отношению к роли автора: «слова не говорят; это писатель использует их для того, чтобы говорить» [194: 38].
Гриффит концентрируется на авторской индивидуальности адаптатора, критикуя подходы к экранизации, в рамках которых своеобразие текста адаптации объяснялось через иные механизмы. В частности, он отмечает, что Бойем переоценил «ответственность аудитории за создание произведения» и вообще роль зрителя как со-автора экранизации. Гриффит также критикует сторонников «медийного» подхода, начиная с Блюстоуна, утверждая, что сравнение медиа не объясняет художественного своеобразия каждой конкретной адаптации [194: 36]. Наконец, как уже отмечалось, он снимает центральный для кино-нарратологов вопрос о верности адаптации оригиналу, т.е. о сохранении максимального количества ядерных функций литературного произведения в фильме. Для Гриффита качество экранизации не выводится из ее верности оригиналу, и наоборот: «...если верность не гарантирует качества, ...отсутствие верности не гарантирует отсутствия качества» [194: 74].
Преемником Гриффита во многих вопросах выступает Томас Лич: в статье «Двенадцать ошибок современной теории экранизации» (2003) он присоединяется к критике существующих подходов к экранизации. В числе «заблуждений» он указывает настойчивое акцентирование медийных различий литературы и кино (отмечая, что многие произведения de facto выходят за рамки собственного медиума, как их очерчивают исследователи), противопоставление литературы и кино как более «сложного» и менее «сложного» медиума, а также верность оригиналу как критерий качества [205: 150-154, 158, 161]. Однако Лич, в отличие от Гриффита, не уделяет большого внимания фигуре автора экранизации; ему важнее показать, что само поле исследований шире тех бинарных оппозиций, в которые его вписывает большинство исследователей.
Подводя итог дискуссии о теории экранизации, стоит отметить, что несмотря на обилие трудов, посвященных различным аспектам этой проблематики, категория автора в тексте адаптации не получила должного освещения: нам не известно ни одной монографии, посвященной непосредственно исследованию специфики авторской функции в тексте сценарной адаптации. Исследователи, за исключением Корлисса, Разлогова и Гриффита, не выделяют авторскую стратегию сценариста-адаптатора в самостоятельный объект изучения, предпочитая описывать экранизацию исключительно в терминах взаимодействия медиа или реакций аудитории. Кроме того, мало исследованной остается сценарная литература как особый вид текстов: для абсолютного большинства исследователей объектом анализа служит все же не сценарий, а фильм. Соответственно, фигуры сценариста и режиссера зачастую сливаются в едином понятии («кинематографист»). Вопрос о соотношении роли сценариста и режиссера - т.е. вопрос о том, кто, как и в какой степени является автором в кино, - до сих пор остается предметом споров; неопределенность в этом вопросе порождает противоречия и в теории экранизации.
2. К вопросу об авторстве в кино
Отношения авторства и «принадлежности» текста в кинематографе, как и в любом коллективном перформативном искусстве, сложные. Иллюстрацией этого может служить многолетняя борьба режиссеров и сценаристов за право фигурировать в титрах как автор фильма (так называемый "possessory credit" - "a film by"). Тот факт, что такой титр может содержать как фамилию режиссера, снявшего фильм, так и фамилию автора сценария, говорит о неопределенности места и роли автора в кино.
В первые десятилетия кинематографа автором фильма считался продюсер, который заказывал сценарий и нанимал режиссера для его постановки. Отголоски такого авторства
в американском кипо можно видеть до сих пор: полнометражный анимационный фильм «Дом-монстр» (2006) рекламируется как «фильм Стивена Спилберга и Роберта Земекиса», которые являются его исполнительными продюсерами, тогда как режиссером значится Гил Кенан.
По мере развития стилистических средств кинематографа позиция режиссера как автора укреплялась. В статье «Метаморфозы авторского начала: режиссер, сценарист, зритель» А. Вартанов отмечает, что если до Гриффита зрителей «вполне устраивали произведения, в которых автор, если он и был, представлялся в виде обезличенного рассказчика, вернее, повествователя-экрана, разворачивающего на полотне в зрительном зале некую историю», то после сюжетного кризиса 1890-х годов «на первый план стала выходить фигура режиссера, умеющего придать кинематографическому повествованию определенное стилистическое единство» [143: 48].
После появления звукового кино на первый план вышел сценарист как автор диалогов, которые надо было воспроизводить на экране. Однако проблема авторства в кинематографе до сих пор не решена; причина этого кроется в природе самого медиума кино, а также в коллективности экранного искусства: фильм состоит из многих «частей», у каждой из которых есть свой «автор» (сценарий, костюмы, декорации, монтаж, актерская игра, и т.д.). Это даст возможность некоторым исследователям говорить об «анонимности созидающего субъекта в кино» [191: 70], Эта анонимность подтверждается даже лингвистически. Так, Джефф Росс в книге «Семантика медиа» (1997) демонстрирует неоднозначность отношений принадлежности в области медиа на примере употребления формы притяжательного падежа ("possessive case") в разговоре о медийных продуктах. «Говоря о фильме Джо ("Joe's film"), что за роль мы приписываем Джо? Автора? Продюсера? Режиссера? Владельца? Наверное, любую из них. „.Фильмы - особенно сложные медиа, но даже в более простых случаях очевидно, что медиа нельзя рассматривать в терминах простой личной принадлежности..., хотя вообще-то люди в них принимают самое разное участие»14 [129: 7].
История проблемы автора в кино во второй половине XX века — это история борьбы между сторонниками «auteur theorie» («авторской теории»), в рамках которой автором провозглашается режиссер, и различных теорий, выдвигающих на первый план сценариста. Сторонники «auteur theorie» считают родоначальником «авторского принципа» в кинематографе Сергея Эйзенштейна, утверждавшего, что режиссер с помощью монтажа выстраивает сюжет, передавая зрителю то же чувство, которое
В понимании Росса «медиум» практически равен «произведению»: так, медиумом для пего является не кино, а каждый отдельный фильм.
заставило его снять фильм [167: 83]. Однако первые попытки теоретизировать авторскую роль режиссера принадлежат Франсуа Трюффо. В 1954 году в журнале «Cahiers du Cinema» вышла его статья «Определенная тенденция французского кинематографа», в которой он на материале французского кино 1950-х годов разделил режиссеров на «постановщиков» (или «metteurs-en-scene») и «авторов» («autcurs»), отличительным признаком которых является «авторская политика» («la politique des auteurs»), или узнаваемый персональный стиль [217].
К американскому кино эту теорию применил Эндрю Саррис, который стал родоначальником настоящего культа голливудских режиссеров. Саррис полемизировал с Базеном, критиковавшим «авторскую политику» как принцип изучения кинематографа; он утверждал, что сюжетный анализ фильмов (то, что впоследствии стало предметом «теории Schreiber») не отражает специфики кино как искусства, в отличие от исследования творческого пути режиссеров-авторов [214: 124]. Саррис выступал против изучения сценария, считая, что это является пережитком литературной критики и противоречит самой природе кино. «Поскольку большинство американских критиков ориентируются на литературу или журналистику, а не на дальнейшую карьеру в кинематографе, большая часть американской кинокритики направлена на сценарий, а не на экран» [214: 129]. Он также сформулировал три постулата «auteur theorie», которые легли в основу кинокритики 1960-х и 1970-х годов:
1) «техническая компетенция режиссера как критерий художественной ценности» [214:
132]
2) демонстрация определенного повторяющегося стиля - своего рода «подписи»
режиссера - в нескольких фильмах15 [214: 132]
3) «внутренний смысл», извлекаемый из напряжения между личностью режиссера и его
материалом [214:133].
Взаимопроникновение медиа и «медиа-онтологическое сомнение»
Во второй половине XX века внимание исследователей культуры все чаще стало обращаться от содержания и формы к технологической стороне существования культурных объектов. В рамках теории медиа этот «технологический» поворот ознаменовался классическим постулатом Маршалла Маклюэна, сделанным в работе 1964 года «Понимание медиа: продолжения человека»: «медиум является сообщением» ("the medium is the message") [124: 15]. Это наблюдение породило массу разных вопросов и теоретических построений в области изучения медиа, приложимых практически ко всем сферам человеческой деятельности.
Говоря о сообщении медиума, Маклюэн имел в виду, прежде всего, его личностно-социальное воздействие: «...личностные и социальные последствия любого медиума... порождаются новой шкалой, которую вводит в нашу жизнь каждое продолжение нас самих, или каждая новая технология» [124: 15]. С этой точки зрения каждая новая технология органична по отношению к человеку, а значит, язык, необходимый для считывания сообщений этой технологии, изначально заложен в человеке.
Однако на практике воспринимающий субъект чаще всего оказывается способен считывать содержание ("content") медиума, но не его сообщение ("message"). Маклюэн отмечает, что человек чаще всего не замечает медиум за его содержанием; состояние погруженности зрителя в художественный мир фильма подразумевает концентрацию его внимания на истории, рассказанной на экране, на поступках и чувствах героев, а не на технике съемки, освещении съемочной площадки, монтажных швах и т.п. Референциальная иллюзия, которую продуцирует художественное произведение, заслоняет от воспринимающего субъекта его медийную природу.
Чтобы снять противоречие между органичностью медиума как продолжения человеческой природы и неспособностью человека воспринять медиум во всей полноте, Маклюэн был вынужден разделить го форму и содержание. Приводя в пример электрический свет как медиум, не передающий никакой собственной информации, если только он не используется в неоновых буквах какой-нибудь вывески, Маклюэн утверждает, что содержанием любого медиума является другой медиум: «содержанием письма является речь, точно так же как письменность является содержанием печати, а печать - содержанием телеграфа» [124; 16].
Однако более удачной моделью, позволяющей объяснить отношения воспринимающего субъекта с медиа, представляется гипотеза Ричарда Аллена. Говоря о воздействии произведения искусства, Аллен выделяет два типа иллюзии: «репродуктивную» ("reproductive") и проекционную ("projective"). Сталкиваясь с репродуктивной иллюзией (например, рассматривая картину или скульптуру), воспринимающий субъект остается чувствительным к медиуму, в котором эта иллюзия создана ("medium aware"): он обращает внимание на фактуру мазков краски, на обработку поверхности скульптуры, и т.д. Проекционная же иллюзия, характерная для кино, не подразумевает видимости медиума: «в рамках проекционной иллюзии я воспринимаю изобразительную или драматическую репрезентацию, как если бы она была не репрезентацией, а полностью реализованным миром опыта» [176: 82]. Этим обусловлены такие особенности киноязыка как использование преимущественно настоящего времени в повествовании и специфическая маркированность «ирреальных наклонений» в кино (воспоминаний, флэш-беков, снов, и т.д.): понимая, что на экране имеет место в некотором смысле ирреальное событие, зритель, тем не менее, «эмоционально... относится к нему, как к подлинному событию» [113: 296].
Однако при наличии соответствующих условий и навыков «сопротивления» проекционной иллюзии воспринимающий субъект может абстрагироваться от медийного содержания, чтобы воспринять медийное сообщение. Опытный кинокритик считывает одновременно и содержательную, и выразительную сторону фильма; он видит и что сделано, и как это сделано. Таким образом, он оказывается в состоянии расщеплять медийный комплекс, отделяя медийное сообщение от медийного содержания, т.е., по логике Маклюэна, отделяя один медиум от другого. Об этой способности воспринимающего субъекта, к которой и апеллирует авангардное искусство и особенно живопись первой половины XX века, пишет Борис Гройс в книге «Под подозрением. Феноменология медиа».
Гройс отмечает, что исторический авангард с самого начала стремился устранить из всякой художественной системы все чужеродное, оставив лишь специфические свойства этой системы. Из живописи изгонялось все сюжетное и миметическое, чтобы выявить чистые комбинации цветов и форм. Из поэзии устранялась нарративность и изобразительность, чтобы показать чистую игру языка. Из музыки нарративность также удалялась, чтобы объективировать собственно звук. «Отказ современного искусства от рефереициальности, от мимесиса не был актом индивидуального произвола, это был результат систематического поиска истины медиального - медиальной откровенности, при которой медиум, обычно скрытый позади заданного (субъектом) сообщения, показал бы свое истинное лицо»38 [110: 95].
Однако такому повышенному вниманию к специфическим характеристикам медиума должен предшествовать поворот в сознании воспринимающего субъекта, который заставил бы его отвлечься от медийного содержания и попытаться взглянуть на медийное сообщение. Чтобы объяснить этот поворот, Маклюэн вводит «художника», который для него является единственным человеком, способным абстрагироваться от медиума в достаточной степени, чтобы воспринять его сообщение, тогда как для воспринимающего субъекта вообще медийная форма заслонена содержанием: «настоящий художник -единственный человек, способный безнаказанно взаимодействовать с технологией просто потому, что он является экспертом, осведомленным об изменениях чувственного восприятия» [124: 27]. При этом у Маклюэна функция художника состоит не в том, чтобы выстроить собственное сообщение, опираясь на вновь открытый медиум, а в том, чтобы объективировать сообщение этого медиума и раствориться в нем, как автор Барта растворяется в бесконечном и безличном «письме».
Камера как вспомогательная повествовательная инстанция
Появление камеры во многом изменило повествовательную технику «текстов» в самом широком смысле этого слова. Об особой функции камеры писал Вальтер Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936), имея в виду, прежде всего, способность камеры опосредовать действие, «отделить» его от наблюдателя: «Аппаратура, представляющая публике игру киноактера, не обязана фиксировать эту игру во всей ее полноте. Под руководством оператора она постоянно оценивает игру актера. Последовательность оценочных взглядов, созданная монтажером из полученного материала, образует готовый смонтированный фильм» [109: 135]. Становясь как бы между зрителем и действием фильма, камера становится явной, обращая внимание зрителя не только на то, что происходит в кадре, но и на то, как показано происходящее, по каким принципам отбираются те или иные кадры и ракурсы в ущерб другим6 , Беньямин пишет; «Он [фильм - Ю.И.] включает определенное количество движений, которые должны бьпь опознаны как движения камеры - не говоря уже об особых ее положениях, как, например, крупный план. Таким образом, действия киноактера проходят через ряд оптических тестов. Это первое следствие того обстоятельства, что работа актера в кино опосредуется аппаратурой» [109: 135].
Однако в сценарном тексте повествовательная функция камеры меняется, поскольку подвергается общему переводу визуальных образов в вербальные. Здесь камера уже не создает тот единственный «фрейм», через который зритель воспринимает происходящее на экране, а является, скорее, маркером особых моментов в повествовании, т.е. служит для структурирования внимания читателя. При этом отношения камеры, повествователя и читателя в тексте сценария могут меняться в зависимости от того, какой степени читательского участия в тексте хочет добиться автор.
Существует целый ряд способов говорить о движениях камеры в сценарии. Выбор того или иного из них свидетельствует об авторском намерении сценариста; в случае с экранизацией этот выбор оказывается особенно важным, поскольку именно то, каким образом камера структурирует уже известную, чужую историю, и определяет вклад, который вносит в нее сценарист как новый автор того же текста .
Так, большинство исследователей отмечает особое устройство повествователя в эпопее Пруста «В поисках утраченного времени»: его анонимность (впервые он называется по имени только в 5-м томе67), его способность фиксировать даже самые мелкие события и детали (т.е. своего рода предрасположенность к «крупным планам»), а также тот факт, что Марсель все происходящее пропускает через себя, т.е., в терминах Беньямина, опосредует. Американский исследователь кино Пол Гудман сближает повествовательную технику Пруста с повествовательной техникой кинематографа и называет Марселя своего рода «камерой». Он называет этот эффект «слежение за объектом» ("the object spied on") и отмечает, что камера в кино - своего рода шпион-наблюдатель, как и Марсель у Пруста: «таково хроникальное качество кинематографа: камера добросовестно копирует события, которые происходят перед ней, без искажений и без пристрастий» [91: 313].
Пинтер в сценарии сохраняет это сближение, но в то же время как бы разделяет Марселя и камеру 8. Его камера появляется вместе с Марселем и буквально «ходит» за ним, копируя его действия; "The camera enters with Marcel, who hesitates" [3; 124]. При этом читатель сценария видит и Марселя, и камеру как двух персонажей, иногда взаимозаменяемых. Например, в романе есть сцепа, когда маленький Марсель подглядывает в окно за дочерью Винтейля и ее подругой. В сценарии весь этот эпизод подан с точки зрения камеры, а не Марселя, о присутствии которого вообще не сказано ни слова; камера как бы подменяет собой героя-повествователя и становится одушевленной: "ЕХТ. М. VINTEUIL/S HOUSE AT MONTJOUVAIN. EARLY EVENING. 1895. The camera, still, looking into the drawing-room window" [3: 149]. В то же время в конце этого довольно длинного эпизода камера отворачивается от окна - и наблюдатель видит наблюдателя; "Camera turns slowly away from the window. Marcel 15, watching" [3; 150].
С другой стороны, в сценарии много сцен, в которых персонажи как бы принимают камеру за Марселя и общаются с пей, как с живым человеком. Многие реплики, по смыслу обращенные к Марселю, на самом деле обращены в камеру [3: 179]. Камеру даже называют Марселем: "Grandmother sitting under lamp with book. She turns to camera, smiles. GRANDMOTHER. Hullo, Marcel." [3: 187].
Авто-адаптация: диалог с собой как с «другим»
Как продукт пристального чтения оригинального текста авто-адаптация, равно как и адаптация чужого текста, является результатом ценностного отношения к этому тексту и к его автору, т.е. к себе же. Согласно концепции Бахтина, ценностное отношение к самому себе невозможно и непродуктивно, поскольку «я для себя эстетически нереален» [51: 207]. Чтобы воспринять свои переживания как эстетический объект, их нужно объективировать, т.е. занять иную ценностную позицию по отношению к самому себе. Бахтин описывает творческий акт как своеобразное расщепление творящего субъекта, разложение его на диалогические инстанции: «я должен стать другим по отношению к себе самому -живущему эту свою жизнь в этом ценностном мире, и этот другой должен занять существенно обоснованную ценностную позицию вне меня» [51:136].
Стать другим по отношению к самому себе - принципиальная задача авто-адаптатора, который ведет диалог с собственным текстом и самим собой, но в другой ипостаси (в том числе в другой «медийной» ипостаси, т.е. как транслятор другого медиума). Авто-адаптатор должен располагать ресурсами, позволяющими ему произвести другого из самого себя, Толкованию этого процесса помогает современное понимание субъекта как раздробленного, конституируемого различными внешними и внутренними инстанциями, с которыми он так или иначе взаимодействует. По мнению Жака Деррида, единого субъекта письма вообще ие существует, как и чистого восприятия: акт письма всегда оказывается отделенным от своего субъекта и не тождествененньш ему. «Мы пишем с помощью некоей инстанции внутри нас, которая всегда и заведомо наблюдает за нашим восприятием, будь оно внутренним или внешним» [61: 372]. Таким образом, субъект письма - это всего лишь «система отношений между различными инстанциями» [61, 372]; в этом смысле в письме всегда наличествует «другой», по отношению к которому проявляется та или иная инстанция. В постструктурализме расщепленный субъект становится вместилищем целой плеяды инстанций с различными системами отношений между ними; такая модель полностью соответствует общей медиализации современной культуры, в которой под вопросом оказывается единственная идентичность не только субъекта, но и самого медиума, глашатаем которого он является. При этом расщепленность одновременно становится для субъекта и стимулом к «говорению»; становясь участником дискурса, субъект становится и своим собственным объектом1 9. Резюмируя постструктуралистские концепции расщепленного субъекта, И. Ильин отмечает, что «индивид может стать говорящим субъектом только при условии вхождения в дискурс, но это он способен лишь в расщепленном состоянии между двумя позициями (строго говоря, между позицией фиксированноста и процессом, следствием которой является эта фиксировашюсть)» [64: 79].
В этом смысле авто-адаптация является своего рода опытом восприятия себя как другого, т.е. опытом нахождения между различными позициями письма-чтения, превращенным, в свою очередь, в письмо. И здесь разделением, существенным для понимания специфики авто-адаптации по сравнению с адаптацией чужого текста, является лакановское разделение на «Другого» (т,с. «абсолютного Другого», истинного субъекта, чей ответ всегда оказывается неожиданным и о котором «мне» ничего не известно) и «другого» (т.е. некоего объективированного «меня»).
Интерпретируя формулу Артгора Рембо «Я - это другой» ("Je est un autre"), Лакан объявляет о «коперниканском перевороте» в понимании субъекта и постулирует децентрацию субъекта по отношению к индивиду: отныне субъект находится вне индивида, поскольку он эксцентричен разуму [71: 15J. «Я» субъекта не совпадает с «я» индивида; то, что человек склонен считать своим «я», таковым не является. Лакан помещает «Я» субъекта вне «круга достоверных вещей, в которых человек узнает себя в качестве собственного Я», - т.е. в бессознательное [71: 66]. Субъект, конституированный таким образом, оказывается полностью расчлененным и разложенным. Единственное, по отношению к чему и в присутствии чего он обретает идентичность, - это «другой»: «он [субъект - Ю.И.] блокируется, он вбирается в себя либо образом другого, либо собственным образом в зеркале. Там, в этом образе, он обретает единство» [71: 81].
Лакановский субъект не может стать единым в себе самом; его полноценный образ всегда оказывается образом «другого», отражением, отделенным от самого субъекта. При этом Лакан различает два типа «других»: