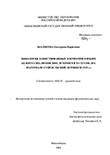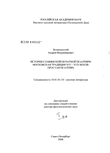Содержание к диссертации
Введение
Часть I Традиция 52
1 Восприятие Петрарки в XIV – первой половине XV века
2 Флорентийский неоплатонизм и возрождение лирической традиции на вольгаре 76
3 Придворная поэзия конца XV века в истории петраркизма 97
4 Первые печатные издания Петрарки: от «Триумфов» к «Книге песен» 108
Часть II Канон 125
1 Исторический контекст 125
2 Петраркизм и проблема национальной идентичности 140
3 Теория и каноническая модель петраркизма 168
4 Поэтический мир петраркизма 211
Лирический герой в структуре поэтического мира 217
Живопись словом: портрет красавицы 231
Торжество искусства: мотив портрета 250
Идеал человека .256
История любви и история жизни .263
5 Эволюция петраркизма в изданиях Петрарки XVI века 285
1500–1510-е годы. Издания Альдо Мануция 271
1520-е годы. Издание Веллутелло .278
1530–1540-е годы 295
Вторая половина XVI века .303
6 Петраркист – читатель Петрарки 337
7 Петраркизм как стиль жизненного поведения 358
Заключение 380
Литература 391
Источники 391
- Флорентийский неоплатонизм и возрождение лирической традиции на вольгаре
- Первые печатные издания Петрарки: от «Триумфов» к «Книге песен»
- Теория и каноническая модель петраркизма
- Торжество искусства: мотив портрета
Введение к работе
Данная работа посвящена истории и эстетической природе итальянского петраркизма. При кажущейся полноте изученности этого вопроса, он по-прежнему приковывает внимание ученых, оставаясь и сегодня — одновременно и увлекательной и непростой — литературоведческой задачей. Прежде всего, это задача, решение которой не может быть ограничено рамками только литературоведения, - изучение петраркизма затрагивает целый комплекс историко-культурных, философских, социальных и собственно литературных проблем эпохи Возрождения. Другим показателем степени ее сложности может служить тот факт, что чем больше расширяется круг наших знаний об этом явлении литературной жизни Италии, тем все меньше удается І ответить на самые очевидные вопросы при осмыслении любого литературного явления: каковы его границы, периодизация, эстетическое своеобразие.
Как любое значительное явление культуры петраркизм отличает напряженная динамика развития. Это особенно заметно, если иметь ввиду не только почти двухсотлетнюю историю- подражания лирике Петрарки в Италии, но и другие национальные варианты петраркизма. Зародившись в Италии, петраркизм оказал большое влияние на поэзию многих стран1. В сфере его влияния в разной степени оказались: Англия, Франция, Испания, Португалия, Голландия, Далмация. В понимании европейской лирики Возрождения петраркизм — ключевая парадигма. Параллельно в Западной и Центральной Европе идет освоение
дидактического наследия Петрарки: помимо стран, уже названных, его трактаты и письма-переводят в Германии, Польше, Чехии, Венгрии. В России, по общему признанию, петраркизма не было, однако история восприятия Петрарки в России — тема, которая давно, со времен академика М. Н. Розанова, привлекает специалистов в области русской литературы". Если же учесть, что созданная Петраркой поэтическая модель любовной лирики в некоторых своих формах остается значимой до сегодняшнего дня, то задача осмысления итальянского петраркизма XV—XVI веков как исторически первого этапа подражания языку и мотивам «Книги песен» Петрарки становится насущной задачей истории литературы.
Будучи искусством подражательным, петраркизм долгое время оставался объектом самых негативных оценок критики. Сегодня эстетическая ценность и специфическая оригинальность подражательного искусства - факт, признанный литературоведением. Однако движение в этом направлении было трудным, и история изучения петраркизма, особенно в XIX - первой половне XX века, стала историей развития самой науки в ее усилиях осознать природу подражательного искусства. Продвижению по этому пути мешала идеология. Неудивительно, что в отечественном литературоведении петраркизм изучался в тех национальных вариантах, где быстро преодолевался (Англия, Франция). Судьба итальянского в этом отношении была предопределена: интерес к нему в отечественной науке был настолько низким, что он не рассматривался как предмет эстетического анализа3.
Все, что до последнего времени было написано у нас об итальянском петраркизме, несло на себе печать неприязненного к нему отношения. Негативное отношение к петраркизму было задано переведенными на рубеже XIX—XX веков историями итальянской литературы, написанными, безусловно, талантливыми итальянистами А. Гаспари [184] и А; Оветтом [241], но с позиций и в оценках позитивистской науки XIX века, и совпало с периодом формирования отечественной итальянистики. Понятно, что на первом этапе своего существования она стремилась познакомить русского читателя, прежде всего, с вершинами итальянской литературы, самым ярким и самобытным в ее национальной истории. Такова была1 ведущая тенденция и в итальянской науке второй половины XIX века, которая видела в литературе один из источников обновления (un risorgjmento) жизни нации в переломный момент ее истории (il Risorgimento). В таких исследованиях петраркисты даже не упоминались. Именно так читал в Санкт-Петербургском университете курс лекций по истории итальянской литературы ее блестящий знаток и основоположник школы российской итальянистики академик А. Н. Веселовский [176].
Задача знакомства отечественного читателя с итальянской литературой в ее историческом развитии оставалась актуальной и в советский период. Советская итальянистика только внесла в ее изучение ясность социально-идеологических оценок. Показательным в этом отношении является почти одновременное появление в середине 1960-х годов перевода «Истории итальянской литературы» Франческо Де Санктиса, написанной за век до того (первое издание в Италии — 1870-1872), как романтическое превознесение «истории идеальных ценностей», явленной в гениях и шедеврах [198]4, и «Итальянской литературы» видного советского историка итальянского театра и литературы С. С. Мокульского [239]5. В той степени, в какой можно говорить об осмыслении петраркизма в нашей стране после выхода в свет этих работ, оно представляло собою набор определений, подтверждавших тезис «о деградации гуманистических идеалов в аристократическом обществе XVI века»: книжный характер, языковой пуризм, аристократическая ограниченность, формализм, подражательность [239, с. 125—127]. Тот же1 информационный минимум с идеологическим подтекстом содержится и в учебнике литературы Средних веков и Возрождения (1947), который выдержал испытание временем и- в силу своей фундаментальности до сих пор является базовым для филологических факультетов вузов [209]. Выход в свет академической «Истории всемирной, литературы» в 1985 году [208], а вслед за ней «Итальянской литературы зрелого и позднего Возрождения» [158] ситуации принципиально не изменил. Признав за петраркизмом стремление «к созданию классических национальных норм языка и стиля» и «определенные художественные завоевания» за счет маньеризации классической поэзии, они в очередной раз подчеркнули: «Пуристское и академическое подражание Петрарке в середине XVI века было не менее бесперспективным, нежели рабское повторение формальных приемов Боккаччо» [158, с. 42; 204, с. 123]. До последнего времени, помимо беглых упоминаний, в нашей науке существовали только две работы, посвященные поэзии итальянского петраркизма: статья И. Н. Голенищева-Кутузова, дающая общую характеристику итальянской поэзии XVI века, и статья Н. Г. Елиной, в которой подробно анализируется одно стихотворение П. Бембо [189, 202].
Ситуация, можно сказать, изменилась, когда появились работы Н. Б. Кардановой [213,215]. Однако диссертация и монография Кардановой
посвящены Бембо и, решая вопрос о специфике его нормы, не касаются вопросов, связанных с восприятием и развитием этой нормы у -поэтов XVI века, с пониманием петраркизма как литературного движения. Эти работы можно рассматривать как первый шаг на пути серьезного изучения петраркизма в нашей стране. Многие ожидания связываются с предстоящим выходом в свет второй книги второго тома новой академической истории итальянской литературы.
Вместе с тем следует подчеркнуть, изучение петраркизма невозможно без учета большого числа глубоких и талантливых исследований отечественных ученых в области исторической поэтики, теории и истории литературы (в том числе по истории английского и французского петраркизма), истории, философии, культурологии. Наиболее значимые из них для данного исследования названы по ходу работы и приведены в библиографическом списке.
В отличие от отечественной итальянистики, на родине петраркизма его изучением занимались много и плодотворно, особенно начиная со второй половины XIX века. За прошедшие полтора столетия библиография по данной проблематике стала столь обширной, что оказывается практически необозримой. Обилие исследований объясняется не только интересом ученых к национальной литературной истории, но и спецификой самого предмета, связанной, с одной стороны, с узловыми проблемами эпохи (вопросом о языке, пониманием принципа подражательности, социальными и политическими изменениями в структуре итальянского общества, развитием книгопечатания, формированием классицистической поэтики), с другой- с многообразием индивидуальных творческих судеб и национальных вариантов петраркизма в Европе. Сразу отметая попытку дать исчерпывающий обзор связанной с петраркизмом литературы, ограничимся только самым существенным, так, чтобы ясной стала динамика осмысления этого явления в западноевропейской научной традиции.
Петраркизм не вызывал интереса критики вплоть до середины XIX века, пока новая, объединенная Италия не обратилась к переосмыслению своего национального наследия. Исключением ,в этом смысле были неизменные, начиная с XVIII века, попытки вписать в историю итальянской литературы Бембо. Внимание привлекали преимущественно два аспекта: биография и роль Бембо в спорах о языке. Бембо-поэт стал объектом критики лишь со второй половины XIX века.
Новые истории итальянской литературы создаются на романтическом пафосе превознесения национального духа. Для того чтобы показать истинную оригинальность итальянской литературы, отбираются фигуры значительные, выдающиеся, такие как -Данте, Петрарка, Макиавелли, Ариосто, Тассо. Писателям второстепенным в ряду титанов места не находится. О них говорят бегло, мимоходом, как бы извиняясь за «слабые места» в национальной истории. Так пишет о петраркистах Де Санктис - вскользь и пренебрежительно в большой и интересной главе о Петрарке [381, с. 67-69], затем в обзоре, посвященном литературе Чинквеченто [198, с. 493-495], то же у И. Шерра [283], М. Пинто [247], А. Оветта [241]. На фоне великих подражатели Петрарки выглядят особенно «мелкими»: у них нет ничего своего - и форма, и содержание полностью заимствованы у Петрарки, не имея что сказать, им ничего не оставалось, как подражать. Их отличают «крайняя легкость и испорченность» [247, с. XV], «манерность и искусственность дурного свойства» [241, с. 171], «пустота души и укоренившийся скептицизм» [381, с. 68]. С ними связывается начало позорного периода в истории Италии - утраты свободы. И политический налет в оценках - еще одна характерная примета сочинений этого периода.
Для названных критиков у поэтов XVI века нет своего лица, их имена даже не упоминаются, они существуют как нечто неразличимое в своей индивидуальности, объединенные одним пренебрежительно-негодующим — «петраркисты». Они — воры, которые «украли у Петрарки все, что только можно украсть у поэта» («lo hanno spogliato, rubatogli tutto cio che ё possible torre ad un poeta» [381, с 67]). По имени называется только Бембо. Он предстает как искусный имитатор, которому недостает оригинальности и содержательности [241?( 427] . Критика XIX века, казалось, была озадачена тем влиянием и популярностью, которыми Бембо пользовался среди своих современников. Не имея возможности проигнорировать «князя литературы» XVI века (Оветт), однако и не пытаясь разобраться в причинах его популярности, критика идет на компромиссы, хорошо заметные в суждениях Оветта: признание определенных заслуг и личностных талантов соседствует с неприятием самого творческого метода Бембо - подражания.
Первая попытка итальянской критики разобраться в- причинах необычайного расцвета петраркизма в эпоху Чинквеченто принадлежит Артуро Графу . Граф усматривает их в специфике самой культуры Возрождения, главной особенностью которой была установка на подражание [432, с. 6]. Верное утверждение, к сожалению, оказалось лишь брошенным вскользь замечанием. В исследовании, построенном исключительно на материале XVI века, оно ограничилось обобщением подражаний Бембо. Не пытаясь разобраться в сущности идеи подражания Бембо, Граф сосредоточился на формах подражания у его последователей. Петраркизму, понятому как деятельность или поведение, избежать отрицательных оценок невозможно. Сущность искусства, которое неспособность, к самостоятельным творческим поискам компенсировало простым подражанием, в глазах автора лучше всего передавала метафора болезни. После А. Графа ее активно обыгрывали на разные лады все исследователи, вплоть до Б. Кроче. Оветт назвал петраркизм «заразой» [241, с. 171], Ф. Фламини писал, что итальянская поэзия «умирала от анемии» [409, с. 235], Кроче напоминал, что в глазах критиков и простых читателей это недуг, который довел итальянскую поэзию до «состояния апатии и анемии» [370, с. 339].
Однако Граф не ограничился одними негативными высказываниями в адрес петраркистов, хотя его суждения порой звучат очень резко. Он собрал огромное количество фактов, литературных анекдотов, отзывов и свидетельств современников, он оперирует именами, признавая за каждым из петраркистов, пусть и с оговорками, право на творческую индивидуальность. Под его пером петраркизм впервые предстал в многообразии своих проявлений — в поэзии и любовных трактатах, музыке, живописи, повседневной жизни - и хронологической протяженности через весь XVI век. Обилие материала заставляло иначе оценить столетие, и Граф представил его как противостояние петраркизма и антипетраркизма, закрепив это в композиционной структуре своей работы. Однако в целом работа Графа - как и все, что он писал8, - получилась скорее эклектичной, чем концептуальной. Исследователю не удалось справиться с обилием материала.
Написанная в духе идей своего времени и с явным пристрастием, книга Графа тем не менее создала основу для изучения петраркизма, причем не только фактографическую. Граф был первым, кто заявил, что петраркизм Чинквеченто представляет собою довольно сложное явление в исторической и литературной жизни Италии [432, с. 6]. Его работа на многие годы определила подходы в оценке этого литературного движения - в глазах современников это было «гениальное исследование» (Фламини). «Литературная история Италии-, написанная содружеством профессоров»,, которая представила свод сведений, добытых наукой-к началу XX века во-многом повторила наблюдения и выводыь Графа. Отношение науки XIX века к петраркизму было определено здесь- одним словом «резким, но выразительным» («con рагоГа brutta ma espressiva»)/—дилетантизм [409, с. 181].
Начало XX века ничего принципиально- нового в изучение петраркизма не привнесло. Лучшее из того, что написано-в эти годы, либо идет вслед за критикой XIX века [551],. либо рассматривает петраркизм: как одну из форм придворного досуга развлечения [59 511]. Сдвиг обозначился только - на рубеже 1920—1930-х годов после ряда работ Дж. Тоффанина [538 540j 541], который, задал новую историческую перспективу в осмыслении, творчества. Бембо? и его последователей, Он интерпретировал их как результат кризисных явлений в: итальянском гуманизме первой половины XVI века. Идеи Тоффанина1 окажутся особенно востребованными в 1 950—1960-е годы. В довоенный-период итальянская критика живет «под знаком» Кроче.
Один из самых- ярких последователей Ф. Де Санктиса; Бенедетто Кроче вошел в историографию петраркизма как автор двух работ: монографии- «Поэзия народа и поэзия искусства», в которой лирике Чинквеченто посвящена специальная, глава [370], и небольшой статьи. «Теория лирической поэзии в поэтике Чинквеченто» [371]. Кроче сосредоточился на наиболее расхожих заблуждениях в оценках критиков и читателей и, опровергнув их, дал толчок дальнейшему изучению петраркизма.
Во-первых, подчеркивает автор, в отличие от трагедии и комедии, итальянская лирика не была простым воспроизведением латинских и греческих образцов. В то-время как: поэзия? античных авторов; воспевала телесную» и чувственную любовь, лирика; Петрарки была обращена к духовной красоте, и заслуга Бембо как его- продолжателя в том и состоит, что, в отличие от петраркистов XV века, он вернул Петрарке духовный облик [370, с. 345]. Опора на теорию платонической любви, которая при соотнесении с жизненной практикой в глазах многих критиков предстает как «пагубный педантизм» или простое лицемерие, несмотря на свою абстрактность, считает Кроче, «содержала элемент правды», поскольку была «актом веры» («atto di fede»), выражением общих идеалов эпохи [370, с. 347].
Рассмотрение петраркизма в рамках концепции, соотносившей народную поэзию как поэзию здравомыслия и простодушия, с одной стороны, и поэзию искусства как продукт, интеллекта и тщательной обработки — с другой, позволяет Кроче высказать парадоксальную, но, в сущности, очень верную и глубокую мысль. В его понимании петраркизм - это образец настоящей поэзии искусства, и поиски идеальной любви, приведшие к возвращению к Петрарке, отвечали также глубинным потребностям художника как деятеля искусства. Поэтому петраркизм оказался явлением, легко перешагнувшим географические пределы Италии и охватившим всю европейскую поэзию. Как стремление к идеалу он заметен и в деятельности тех, кто от Петрарки сознательно дистанцировался. В творчестве романтиков петраркизм оживает с новой силой. Они, Альфьери, Фосколо, Леопарди, Кардуччи, заключает Кроче, и были настоящими петраркистами, а не те, кто в XVI веке пассивно цитировал и повторял Петрарку [370, с. 349].
Во-вторых, продолжает Кроче, петраркизм обычно толкуют как теорию поэзии или философию искусства, сущность которой состояла в следовании примеру. Однако на практике это означало не создание плохой теории, которая привела к расцвету посредственности, а стремление разработать ряд эффективных «педагогических приемов». «Искусство сочинять принадлежит только самой творческой личности» («il poetare appartiene soltanto alia personality creatrice»), настаивает Кроче [370, с. 350]. Так и не объяснив, почему же петраркистам не хватает того, что, по мнению самого теоретика эстетики, делает поэта великим, -«силы, напевности, искренности и красоты» («forza, canto, schietezza є bellezza» [370, с. 354]), Кроче сумел сделать другое. Своими работами он предлагал осмыслить петраркизм как историческое явление, перейти от оценок, высказанных с позиций современности, к пониманию специфики эпохи и, помимо прочего, увидеть в петраркизме проявление общих законов искусства поэзии.
Характеризуя данный период, следует отметить, что итальянская критика еще очень далека от выработки общих подходов в интерпретации петраркизма, более того, сомнения порой вызывает сам предмет исследования. Разноголосица в суждениях довольно сильна. Одни по-прежнему твердят о «внутренней пустоте» петраркіютов и неспособности воспользоваться богатством литературных ресурсов [477], другие вообще отказываются признать петраркизм конкретно-историческим явлением XVI века и доказывают, что это лишь одно из многих обращений нации к своему главному писателю [550]. Л. Олыпки настаивает на том, что лирические поэты Чинквеченто, которые редко демонстрируют проявления индивидуального чувства, явились выразителями «коллективной души». Ключом к разгадке «феномена петраркизма» в Италии XVI века Олыпки в духе времени считает знание социальной структуры общества и его взаимоотношений с литературой, которые были подвержены сильному влиянию средневековой рыцарской традиции. Кроме того, считает ученый, следует учитывать и «переход от рыцарской идеи любви к неоплатоническому Эросу» [482]. Все реже, но встречаются оценки и в резких выражениях XIX века [494]. На этом фоне преимущества работы Кроче особенно очевидны: петраркизм вписывался в концепцию развития лирической поэзии Италии, у него были свое место и роль. Неудивительно, что эти взгляды на долгие годы определят подходы критики в оценках исторического развития итальянской поэзии эпохи Возрождения. На них вырастет целое поколение новых исследователей петраркизма.
Еще с конца XVI века историческое признание петраркизма упиралось в дебаты вокруг теории и принципа подражания. Отрицательное отношение к петраркизму, особенно в романтическую эпоху, объяснялось нежеланием признать за подражательным искусством права на существование, непониманием его природы и исторической обусловленности. Начиная с 1930-х годов принцип подражания - в центре внимания западноевропейской научной мысли. Исследования Э. Каррары [353] и особенно Г. Гмелина [431], а также научная деятельность К. Дионизотти, начавшаяся в конце 1920-х годов с пристального интереса к творчеству и теории подражания Бембо [383, 384], стали не просто заметными страницами в науке этого десятилетия. После них уже не оставалось сомнений в необходимости серьезного изучения петраркизма. Показательна в этом отношении эволюция взглядов Карло Калькатерры, который в 1928 году писал о петраркизме как о литературе попросту бесполезной [347], а двадцатью годами позже посвятил ему большую работу, сопроводив ее впечатляющей по своей полноте библиографией [348].
Для итальянистики послевоенного периода петраркизм — уже «значительное («grande») литературное движение» [58, с. 28]. Освобождаясь от влияния позитивистской и крочеанской критики, определявшей методологические подходы итальянской науки в довоенный период, исследователи переходят к всестороннему изучению петраркизма. Важным условием для такого шага должно было стать наличие серьезной текстовой базы — и новые антологии не замедлили появиться. Их подготовка была сопряжена с целым рядом трудностей. Антологии XIX века, полезные для первичного отбора имен и текстов, оказались совершенно непригодными для воспроизведения самих текстов (см., например, [56, 64]). Кроме того, пересмотра требовал и отбор имен
(например, включать или не включать в список петраркистов Микеланджело и Тассо), немаловажным был и вопрос о принципах организации материала — по именам или по регионам. Множественность подходов нашла отражение в следующих изданиях: [57, 58, 60, 61, 62, 66]. К ним следует добавить отдельные издания стихов Делла Казы [28], ди Тарсиа [32] и Микеланджело [19]. Оригинальным, хотя и трудновыполнимым оказался подход, предложенный Э. Бонорой: проследить взаимосвязи отдельных авторов и произведений с соответствующими произведениями Петрарки. По мнению Боноры, это позволило бы более точно увидеть заимствования и переработки, «разграничивая то, что было взято раболепно, от того, что вошло в память поэтов и было творчески переработано их фантазией» [343, с. 99] .
Одним из наиболее ярких результатов периода 1950-1960-х годов явилось стремление критики открыть и ввести в оборот имена все новых и новых авторов. Впервые были включены в списки петраркистов Челлини, Фиренцуола, Триссино, Пинья, Антонио Венециано [62]. К работам, появившимся на волне увлечения социальной стороной петраркизма [375, 539], прибавляются исследования, посвященные творчеству отдельных поэтов: Микеланджело [23710, 365, 366, 419, 510], Стампы [337, с. 45-68], Делла Казы [327, с. 181-268; 337, с. 17-31; 352] и других. Центральной фигурой для изучения по-прежнему остается Бембо [386, 387, 399, 520]11. Продолжение работы в этом направлении в 1970-1990-е годы приведет к тому, что две поэтессы, Гаспара Стампа и Вероника Гамбара, займут место в ряду оригинальных итальянских поэтов XVI века (см., например, [548]). Бессчетное количество исследований, появившихся в эти годы, заметно расширило и усложнило представления науки о развитии итальянской лирики XVI века.
Петраркизм представал поистине как «новый литературный континент» (Бонора), изучению которого несть конца.
Количественный рост исследований привел к качественному пересмотру самого понятия «петраркизм». Решающая роль в изменении понимания петраркизма в эти годы принадлежит Луиджи Балдаччи. Он доказал, что «Книга песен» была воспринята петраркистами не только как поэтическая антология об извечной внутренней войне христианина, но и как документ жизни поэта: «как отражение настоящей любви и потому настоящего раскаяния» [327, с. 56]. Построив свое исследование на анализе комментариев к «Книге песен», ученый утверждал: критико-риторический интерес здесь почти полностью отсутствует. Лирику Петрарки интерпретируют в XVI веке либо в биографическом и любовно-приключенческом ключе, либо как науку о любви, рассмотренную с точки зрения тех психологических ситуаций, которые мог содержать в себе поэтический текст. Это позволило Балдаччи сделать принципиальный вывод: петраркизм заимствовал не только форму («imitatio stili»), но и психологическое наполнение этой формы. Кстати, здесь, в интересе эпохи к психологии Петрарки-влюбленного, открытой в его лирике, по мнению ученого, кроется и разгадка широкого распространения петраркизма: подражание в жизни для петраркиста означало прежде всего подражание в стихотворчестве, но дальше утверждения этого тезиса Балдаччи, к сожалению, не пошел.
Психологический аспект петраркизма, который ученый назвал «imitatio vitae», обычно никем не учитывался, хотя наблюдений в этой области уже было накоплено немало. Обоснование Балдаччи второй составляющей петраркизма XVI века окажет большое влияние на дальнейшее развитие науки . После работы Балдаччи сомнений не оставалось: «imitatio stili» существует в петраркизме наряду с «imitatio vitae». Однако историкам литературы пришлось предпринять ряд усилий, прежде чем осознать еще одно, сегодня уже очевидное: внутренний мир петраркистов не схож с жизнью чувств лирического героя «Книги песен» и отражает атмосферу другого века [464]. Для движения в этом направлении важными оказались изыскания историков, изменение общих подходов, в трактовке проблем Возрождения и гуманизма (см. работы Э. Гарэна [423, 424, 426], П. О. Кристеллера [449, 450], Ч. Вазоли [546, 547], А. Тененти [533]). г В 1967 году вышла книга Карло Дионизотти, которая на долгие годы определила методологические основы развития итальянской науки. Это был, по выражению С. Гульельмино, «очерк, который составил эпоху» («un saggio che ha fatto epoca» [448, с 49]). Дионизотти сформулировал и продемонстрировал на примере собственной работы эффективность обозначившегося на рубеже 1950-1960-х годов подхода при создании истории итальянской литературы — стремления удерживать равновесие между проблематикой имен и текстов и осмыслением историко-географической специфики страны так, чтобы конкретность первой приобретала значение в контексте второй и наоборот. Вместе с тем ученый предлагал наметить и разработать направление некой «единой линии, которой следовали бы сообща в обрисовке исторического развития итальянской литературы» [391, с. 35].
Книгу Дионизотти нельзя отнести к жанру истории литературы, но написанные им очерки-главы о развитии итальянской литературы, итальянского языка, социальной принадлежности итальянских писателей, интерпретации исторических событий в литературе и другие затрагивали многие вопросы социально-исторического и культурного развития Италии в XVI веке. Размышления о социальном статусе гуманистов и его изменении на протяжении Возрождения итальянская критика 1970-х и даже начала 1980-х годов восприняла как методологическую основу для построения новых концепций. Яркий пример тому - концепция Джулио Феррони [407].
Для Феррони петраркизм — это язык, обладающий/" всеми признаками настоящей языковой системы («una vera е propria lingua»), который доминировал в итальянской литературе по меньшей мере до конца XIX века и который придал ей единство облика и способность к сопротивлению разрушительным силам. Особое внимание Феррони уделяет характеру взаимоотношений петраркизма и социума. Подчеркнув небывалое взаимопроникновение и единство лирики и общества, исследователь развивает наблюдение Дионизотти о том, что в начале XVI века тип светского интеллектуала вытесняется фигурой интеллектуала, живущего на церковные бенефиции и служащего церкви,- процесс, наиболее ярко воплотившийся в период правления Папы Льва X. Однако абсолютизация идей Дионизотти приводит исследователя к парадоксальным выводам. Во-первых, «петраркизм, — заключает Феррони, - это поэзия по своему происхождению явно церковная и клерикальная» [407, с. XV]. Во-вторых, язык итальянской любовной поэзии, особенно в том, что касается выражения любовного чувства и описания женщины, несет на себе печать этого церковного происхождения [407, с. XV]. Еще один парадокс состоит в том, что эта церковная по своему происхождению модель постепенно захватывает весь сектор грамотного населения и отдаляется от своего изначально церковного окружения [407, с. XVI]. Масштабность обобщений и далеко идущая последовательность логических шагов, предпринятых исследователем, фактически перечеркивают то рациональное начало, которое они в себе изначально содержали. Нельзя не согласиться с исследователем, когда он указывает на изначальную связь итальянской любовной лирики с церковной традицией и ее опосредованное присутствие в петраркизме. Нельзя отрицать и то, что многие петраркисты, тот же Бембо, состояли на церковной службе. Однако установление прямой связи между этими фактами представляется по меньшей мере необоснованным. Что же касается размышлений Дионизотти о влиянии социального фактора на деятельность гуманистов XVI века, то они в том или ином виде присутствуют во всех современных историях итальянской литературы.
Начиная с 1950-х годов круг проблем, которыми зани?лаются исследователи петраркизма,. значительно расширился. Предметом изучения становится связь петраркизма с философией неоплатонизма [387, 473], с лингвистическими дискуссиями [31, 500, 501, 516, 544], с художественными стилями эпохи: маньеризмом [504, 525, 532], барокко [329], классицизмом [342, 411, 476]. Не ослабевает интерес и к проблеме подражания [377, 434, 520, 545]. Решение этих вопросов было в центре внимания исследователей вплоть до конца 1970-х годов, представая в современных работах в виде отголосков прежних дискуссий. Назовем некоторые. f
Связь петраркизма с классицизмом очевидна. Она прослеживается не только в ряде любопытных фактов , но и в общности идейно-эстетических платформ петраркизма и раннего итальянского классицизма. Она видна в опоре на культурные приоритеты Возрождения, такие как чувство меры и красоты, соразмерности и гармонии, в практике систематизации и классификации культурного наследия предшествующих эпох, в установке на подражание избранным образцам, в признании наслаждения целью поэзии. Общей была и неразрывная связь с questione della lingua (споры о языке), вызванная стремлением сформировать литературный язык, единый для современной культуры. Национальная устремленность ярко ощутима в деятельности и тех, и других. Были и разногласия, например, в вопросах выбора языка или толковании принципа наслаждения. Однако точек соприкосновения было выявлено так много, что некоторые современные итальянские историки литературы включают главы о петраркизме в разделы, посвященные классицистическому искусству [465, 505]. Собственно эта «мелочь» и вызывает возражения. Связь петраркизма с возрожденческим классицизмом неоспорима и, кстати, не раз подчеркивалась в работах наших исследователей [158, 221]. Однако итальянцы ищут его истоки если не у первых гуманистов, то в творчестве Полициано. С этих позиций петраркизм Бембо оказывается-не началом или предвестием-классицизма [158, с. 40-41], а одним из его серединных этапов, сам лидер петраркизма — «лидером возрожденческого классицизма» [471, с. 25]. Рассмотрение петраркизма в контексте истории классицизма в определенном смысле усложняет наше представление о развитии последнего. Следует лишь иметь в виду, что, став.на этот путь, можно легко прийти к подмене понятий. Именно это и происходит в книге А. Маркезе, где сделана попытка разделить всех писателей по принципу классицист/ антиклассицист, а проблема петраркизма, оборачиваясь проблемой классицизма, становится псевдопроблемой [471].
Вопрос о связи петраркизма с маньеризмом и барокко возник в русле общей дискуссии в науке о границах и эстетической сущности этих явлений. В зависимости от позиции ее участников, в петраркизме усматривали проявление особенностей то одного, то другого стиля. Дискуссия, так и не внеся определенность в их теорию, с течением времени утратила свою остроту, но вопросы, затронутые в ходе ее, о взаимоотношениях петраркизма и маньеризма, петраркизма и барокко остались. В последние- три десятилетия к ним практически не возвращаются, возможно, потому, что их разрешение по-прежнему зависит от того, где проводится граница между маньеризмом и барокко. Мы разделяем позицию тех, кто относит барокко к художественным явлениям Нового времени, в то время как маньеризм рассмагривает органической частьюкультуры Возрождения. С этой точки зрения, связь петраркизма с маньеризмом действительно представляет интересную научную проблему, которая не ограничивается"сходством ряда стилевых приемов. Родство петраркизма и маньеризма глубже и коренится в их общем превознесении искусства над реальностью материального мира, в желании «улучшать природу искусством». Однако, как показал К. А. Чекалові на примере творчества Марино, маньерист, начиная, как петраркист, идет значительно дальше: «прилежное следование заветам Петрарки» завершается «явным стремлением переключить внимание на остроумный финальный эффект», а традиционный петраркистский мотив «становится» поводом к чисто вербальной игре» [275, с. 47].
Проблема на самом деле не ограничивается установлением сходств и различий петраркизма с разными стилевыми системами. Она связана с пониманием общих закономерностей развития позднеренессансной культуры, специфики XVI века как особого периода в развитии эпохи Возрождения. Глубоко справедливым кажется замечание Н. Т. Пахсарьян о том, что «"гармонизация напряжений" - неотъемлемое свойство ренессансной поэтики и в ее классицистическом, и в ее маньеристическом стилевых воплощениях» [203, с. 48]. Присуще это свойство и петраркизму, ибо все три художественные явления -петраркизм, классицизм, маньеризм — развились от одного корня, позднеренессансного гуманизма, и формировались как реакция на одни культурно-исторические условия. Общность не формально-стилистических приемов и даже не идейно-эстетических платформ, но ренессансного мироощущения, обнаружившего первые приметы своего кризиса, вызвала к жизни и обусловила-естественное сосуществование и переплетение петраркизма, классицизма и маньеризма.
Стремление разграничить понятия? «петраркизм» и «лирика. XVI века» обозначилось как тенденция в итальянском литературоведении где-то в 1970-е годы. Страсть предшествующих поколений исследователей рассматривать всех писателей с. точки зрения влияния «патриарха новой поэзии» и заимствований у него, о чем писан еще в начале 1950-х годов В1Бранка[172, с. 334], в середине 1970-х выглядит явным- преувеличением. Сопоставляя «Любовное видение» Боккаччо и «Триумфы» Петрарки, Джузеппе . Билланович и Витторе Бранка попробовали перевести проблему в область типологического сходства. На, этом; пути им удалось сделать ряд интересных наблюдений и текстологических открытий, [172, гл: XI] . Однако-вывод исследователей; о единстве мироощущения! эпохи,. которое и обусловило единство тем и сходство решении; не: снимал проблемы, петраркизма: Потребовалось/ определить характер рецепции Петрарки на более ранних этапах. [420]. Тем не менее вопрос: остается открытым до- сих пор; и: мнения ученых разделились. Одни утверждают, что «петраркизм представлял почти всю лирику XVI" века» [465, с. 201], другие возражают, что «картина литературной жизни была столь неоднозначна и противоречива;.что не-может быть сведена к чему-то одному» [471, с. 35-36]. При этом вывести за пределы влияния петраркизма удается очень ограниченное число поэтов. Среди них Аретино, Берни, Микеланджело.
Середина 1970-х годов может быть обозначена как начало нового этапа в изучении петраркизма. Он был вызван интересом к стилистике петраркизма и совпал с осмыслением в европейской науке специфики литературных топосов и клише (см. библиографию в: [497, с. 5]). Приоритетную роль среди исследований в, данном направлении получают работы Джованни Поцци, посвященные изучению канона женской красоты в итальянской лирике XIL-XVEP веков [496; 497, 498]. Общетеоретические выводы Поцци, связанные, с выявлением: границ и особенностей проявления: творческой свободы в рамках нормативной заданности канона, совпадают с результатами в изучении принципа подражания, которое никогда не уходило из поля зрения- итальянской науки. В обоих случаях речыидет о принципе варьирования.
Наука XX века сделала многое для того, чтобы доказать, что установка на подражание в традиционном искусстве не является признаком его несовершенства. Для эпохи Возрождения подражание — это фундаментальный принцип всей культуры, а не только петраркизма, который совсем не означал отсутствие творческого начала. Другое дело, что проявлялось оно иначе, чем в новое время, и заключалось не в оригинальности, а в возможности варьирования общепризнанного образца - процессе, в котором и раскрывалось индивидуальное авторское начало. Но есть еще вопросы, которые волнуют исследователей. Например, каким образом реализуется в-подражательном искусстве духовная жизнь, отдельного субъекта, еслИі она неповторима по самой своей природе? Какой смысл выражают и передают похожие друг на друга и заимствованные у Петрарки тексты петраркистов? «Когда поэт X, - размышляет А. Квондам, — который передает переживания лирического героя Y по отношению к некой женщине Z, у которой, возможно, есть прототип W, и описывает ее красоту в терминах уже хорошо известных и заимствованных у Петрарки, какую правду он намеревается изобразить и передать?» [505, с. 306]. «Для нас сегодня, - отвечает на свой вопрос исследователь, — вся проблема петраркизма сосредоточена здесь: мы должны понять, какой максимальный смысл передается при максимальной стереотипизации» [505, с. 308]14.
Возникновение вопроса о коммуникативной природе петраркизма не случайно и во многом обусловлено общим интересом науки к проблемам коммуникации, возникшим в связи с вступлением человечества в информационную эру. Следствием этого интереса стало появление многочисленных исследований по проблемам печати и ее влиянию на формирование и развитие читательской аудитории [321, 339; 438, гл. «Societa е comunicazione letteraria nell eta della stampa»; 459, 488, 489, 505, 537]. Отсюда и новый взгляд на петраркизм XVI века, который демонстрируют истории итальянской литературы, изданные в 1990-х годах. Так, в «Учебнике итальянской литературы» [469] феномен петраркизма осмысляется как результат, порожденный началом «эпохи типографий». Рост числа читателей, ослабление признака однородности читательской аудитории, ориентация издателей на требования рынка, учет социальной психологии и первые признаки маркетинговой политики в их поведении — это пусть и чересчур модернизированная, с нашей точки зрения, но в целомверная попытка рассмотреть петраркизм в русле проблемы массовой литературы [469, с. 185-191]. Сегодня в Италии петраркизм все чаще называют «явлением со всеми атрибутами массовой культуры» [505, с. 306], однако его исследование под этим углом зрения еще впереди.
Для науки второй половины XX века определяющим стал тезис о том, что петраркизм формируется на пересечении основных процессов итальянской культуры. Это создает предпосылки для возникновения новых подходов, в которых литературоведческий анализ отступает под давлением других научных дисциплин. Изучение петраркизма как результата развития печатного дела в Италии — только один тому пример. Другой- включение петраркизма в орбиту тендерных исследований. Социологический подход в осмыслении петраркизма, заметно проявившийся в начале XX века, оказался востребованным и в наше время. Роль и место женщины в итальянском обществе XVI века, социальный статус куртизанки, женская поэзия как особый феномен культуры этого столетия — вот далеко не полный перечень проблем, который поднимается в таких исследованиях [358, 382, 445, 523, 555]. Полтора века интенсивных исследований не- способствовали единообразию в оценках петраркизма. Множественность подходов и интерпретаций приводит к тому, что любому историку литературы, выбравшему петраркизм в качестве предмета своего исследования, приходится, по сути дела, заново определять свою позицию по вопросам,, которые уже не раз" анализировались в науке: о принципе подражания, о языковой реформе Бембо, о социальной востребованности петраркизма и другим. Для российского исследователя задача усугубляется еще и тем, что нескончаемые споры о петраркизме в западноевропейской науке остались практически незамеченными в нашей стране. Как следствие - автоматически сохраняются уже упоминавшиеся оценки, с идеологическим подтекстом, что оказывает воздействие и на общую концепцию развития литературного процесса в Италии. Однако актуальность данной темы не исчерпывается отсутствием в России специальной работы, посвященной итальянскому петраркизму, необходимость которой действительно давно назрела. Исследование этого явления итальянской культуры XV-XVI веков обусловлено, в первую очередь, актуальностью разрешения самих научных проблем, связанных с его развитием и содержанием.
Любому исследователю, задумывающемуся о сущности петраркизма, приходится отвечать на вопрос, что такое петраркизм. Вопрос этот не случаен, т. к. причина, определяющая все еще существующие разногласия по этому поводу, скрыта в самом понятии «петраркизм». Взятый как термин, он предполагает наличие некоего движения (-изм), которое связано с именем Петрарки. Однако это простое и очевидное умозаключение не только не отвечает на интересующий нас вопрос, но порождает новые: о каком движении идет речь? Что в Петрарке — его творчестве, судьбе, личности — стало толчком для возникновения этого движения? Когда оно началось? Когда закончилось?
Еще в середине XX века, история литературы пришла к выводу, который, казалось, отвечал на главный из поставленных вопросов. Петраркизм - это литературное движение, связанное с обращением к идеалистической философии платонизма и попыткой создать идеальный язык поэзии на основе творчества, Петрарки. Его наиболее характерной особенностью является соединение литературно-эстетического аспекта подражания Петрарке с психолого-поведенческим. Однако в исследованиях последних десятилетий можно найти и другие определения, которые, если и не отменяют данный вывод, то переводят решение вопроса о петраркизме совсем в иную плоскость. Так, для известного итальянского литературоведа Альберто Азор Розы петраркизм является «особым типом кодификации» в лирике, который означал следование в качестве исключительного образца лирике Петрарки в соответствии с теоретическими указаниями Бембо [325, с. 105]. А для Амедео Квондама, не менее известного благодаря изучению типографской продукции петраркизма, он предстает уже как «первая современная феноменология того типа культуры, который со всеми своими атрибутами может считаться культурой масс» [505, с. 305]. Терминологические разночтения, отражающие споры в науке о петраркизме, лишний раз указывают на важность выбора методологии исследования. Очевидно, что для ответа на вопрос о петраркизме такой выбор оказывается принципиальным. Неудивительно, что столь трудным оказался вопрос об определении границ и периодизации.
Различное понимание петраркизма заставляет специалистов по-разному представлять его динамику, определять ключевые пункты. Для тех, кто сводит петраркизм XVI века теории подражания-Бембо и его школе — тому, что еще со времен Фламини называют бембизмом, начало истории петраркизма связывается либо с выходом из печати «Рассуждений в прозе о народном языке» Бембо (1525), либо с публикацией его «Rime» (1530) и характеризуется необычайным влиянием Бембо в обществе. Завершение— смерть поэта в 1547 -году, за которой следует новый период: вторая половина 1540-х — конец 1560-х. Он интересен увеличением числа индивидуальных экспериментов в поэзии и как следствие — бумом в издании антологий. Разработанный Бембо канон постепенно модифицируется и превращается- в игру, в которой преобладают искусственность и техницизм ([508], в общем виде та же схема периодизации присутствует и в [531]).
Для тех, кто понимает петраркизм как подражание Петрарке, петраркизм XVI века - только один из этапов. Он начинается в 1501 году с публикации «Canzoniere» в типографии Альдо Мануция; переживает расцвет в Л 530-е годы и завершается где-то на излете веках творчеством Тассо [469]. С. Гульельмино и Г. Гроссер представляют историю петраркизма как смену трех больших этапов: «еретического», то есть опирающегося на многие образцы (перваяі половина XV века), «придворного» (вторая половина XV века) и» «ортодоксального», ориентирующегося на одного Петрарку [438]. Можно встретить и традиционное деление XVI века на две половины (граница — Тридентский собор), которое проецируется- и на развитие литературных процессов этого столетия [471].
Несмотря на очевидные разногласия, наука XX столетия давно отвергла любые попытки распространить использование термина «петраркизм» дальше XVI века. Позиция исследователей едина: увлечение Петраркой, пережив свой пик - в период Чинквеченто, в последующие столетия пошло на убыль, однако разработанные поэтом способы выражения любовного чувства сохранились, как сохранились его образы и приемы описания женской красоты, природы, внутреннего мира1 человека. Будучи растиражированными и закрепленными в период формирования национальной языковой и литературной нормы, они именно благодаря петраркизму XVI века в дальнейшем выступали как часть национальной, а не индивидуальной творческой традиции. Обращение к ним стало таким же естественным, как обращение к итальянскому языку. Однако за границами XVI века это была уже та часть исторического опыта, которая в ценностном отношении настолько слабо взаимодействовала с настоящим, что говорить о ней" как о сохраняющейся традиции подражания Петрарке не приходится.
Движение в обратную сторону - вглубь XV и XIV веков — потребовало ограничения понятия «петраркизм» не только хронологически, но и текстуально. До этого момента, говоря о петраркизме, мы не уточняли, о подражании какому произведению идет речь. Между тем, если в отношении XVI века можно утверждать, что подражали практически одному произведению — «Книге песен», как мы называем его сегодня15, то для периода середины XIV- XV веков такой однозначности не существует. На этом этапе подражают разным произведениям поэта - и итальянским, и латинским, и выделение «Книги песен» из ряда других заметно лишь к концу XV века после продолжительного «соперничества» с «Триумфами».
За разрешение этой проблемы взялся еще в 1950 году американский исследователь Эрнест Уилкинз. Он, понимая петраркизм как «творческую активность в литературе, искусстве и музыке, возникшую под прямым и непрямым влиянием произведений Петрарки, как выражение восхищения поэтом и изучение его произведений и его влияния», указал на три источника этого влияния: латинские сочинения поэта, «Триумфы» и «Книга песен» [553, с. 327]. Каждая группа произведений или отдельное произведение породили свою собственную традицию, «волну влияния» («wave of influence»), по выражению исследователя. Возникнув одновременно, еще при жизни самого Петрарки, эти волны оказались разной силы и длительности.
Заменив термин «подражание» термином «влияние», Уилкинз фактически перевел изучение проблемы петраркизма в новую плоскость. Он первым правильно указал на наличие нескольких традиций, порожденных различными петрарковскими произведениями, а выявление амплитуд этих традиций подняло вопрос о причинах востребованности того или иного1 произведения в разные периоды. После его исследования стало понятно: нельзя изучать петраркизм вообще, есть смысл заниматься «петраркизмом» конкретного произведения (или группы произведений), ведь каждый из них имел свою историю.
Колоссальное по объему наследие Петрарки на латинском языке впечатляет богатством жанрового и тематического состава: письма, трактаты, диалоги, инвективы, биографии, исторические сочинения, речи, поэма, эклоги, в которых освещаются, различные проблемы философии, морали, науки, литературы, истории, человеческой природы, а также история собственной жизни и любви. В XIV- начале XV веков его активно используют гуманисты, находя здесь пример нового идейного наполнения старых жанровых форм. Самые красноречивые примеры в этом смысле— жанры эпистолярного послания и диалога, благодаря Петрарке получившие необычайную популярность в XV веке. Латинские произведения с многочисленными автобиографическими отступлениями поэта служат источником для создания его биографий16, «Африка» и «Буколическая песня» - для немногочисленных и слабых попыток в области литературного подражания. Со второй половины XV и до начала XVII века латинские сочинения востребованы преимущественно как тексты для чтения» и
цитирования. Особенно ценными становятся размышления поэта на этические и религиозные темы, а самыми востребованными-«Старческие письма», трактаты «Об уединенной жизни» и «О средствах против счастья и несчастья».
«Триумфы» вызывали желание подражать вплоть до второй половины XV века. Их популяризация, помимо литературы, отозвалась и в живописи . В период, когда начинается активное подражание «Книге песен», «Триумфы» востребованы мало и уже в другом качестве. Они становятся предметом для изучения— биографического и философско-критического. В XVI веке, печатаясь, как правило, вместе с «Canzoniere» и всегда после книги стихов, они воспринимаются, по-видимому, как продолжение и сюжетное завершение любовного романа поэта. Вместе с «Canzoniere» они составляют корпус итальянских сочинений Петрарки, которые становятся предметом всестороннего лингвистического и стилистического анализа.
Но ни одно- из произведений Петрарки не может сравниться с «Canzoniere». Этой книге поэта подражали в итальянской литературе на протяжении двух с половиной веков: первые примеры можно найти уже во второй половине XIV- начале XV веков, к середине столетия эта тенденция обретает очертания традиции, которая становится все более динамичной к концу XV века; в XVI веке о ней можно говорить как о беспрецедентной по своему размаху и общеевропейскому резонансу. Только эта традиция обретает характер нормы или, если рассматривать ее с точки зрения законов развития традиции, переходит в каноническую фазу. На этом этапе она сопровождается всеми формами почитания: массовыми литературными подражаниями, теоретическим осмыслением, всесторонним комментированием, биографическим изучением, переложениями на музыку18, изображением петраркино19 на живописных портретах, подражанием в жизни, неимоверными по численности изданиями и даже паломничеством по местам «Книги песен». Сегодня подобные проявления характерны для того, что обычно называется «массовая культура».
Особенности подражания Петрарке в XVI веке, ограниченные «Canzoniere» в интерпретации П. Бембо и сопровождаемые перечисленными выше социокультурными проявлениями, мы.привычно именуем петраркизмом. Но вот вопрос: значит ли это, что и подражания» на более ранних этапах также могут быть определены как- петраркизм? Любое ли подражание Петрарке является петраркизмом?
Ответ напрашивается сам собою: по-видимому, имеет смысл различать, петраркизм в широком смысле — как подражание Петрарке вообще и узком— как подражание конкретному произведению или группе произведений. Однако в итальянской научной литературе, то есть там,, где сложилось, само понятие петраркизма, такое различение изначально не играет определяющей роли. В итальянской культуре петраркизм как явление литературной и общественной жизни оформляется как подражание «Книге песен». Подражания латинским произведениям Петрарки на этот процесс заметного воздействия не оказали. Поэтому современные истории итальянской литературы решают возникшую проблему иначе. Здесь петраркизм в широком значении понимается как вся история подражаний «Canzoniere» от времени Петрарки и до конца XVI века, в узком - как следование норме Бембо на протяжении XVI века" . Понятно, что при таком компромиссе в рамках одной национальной культуры различение «настоящего» и «ненастоящего» петраркизма зависит от историко-культурных и научных особенностей конкретного подхода. Тем не менее общим ориентиром в итальянистике сегодня является то, что петраркизм как норма подражания языку и стилистике Петрарки полагается относящимся к формированию традиции итальянской лирики.
Петраркизм как норма и петраркизм как часть лирической традиции, — это полюса, определившие методологические и предметные акценты исследований второй половины XX века. Если поначалу изыскания ученых были сосредоточены, на принципе подражания, то в последние несколько десятилетий они обращены, к выяснению специфики формирования итальянской лирической традиции, в которой петраркизму отводится немаловажная роль.
Мы видим другой путь разрешения данной дилеммы. Ошибочной представляется-попытка изучать петраркизм XVI века изолированно, вне его связи с процессом развития- итальянской лирики и предшествующей традицией подражания-Петрарке в особенности. Бембо не был первым, кто обратился к наследию поэта, и его норма оформляется как обобщение долговременного и неоднозначного освоения поэтического языка Петрарки. В нашем представлении петраркистский канон — это определенный этап развития петраркисткой традиции.
Вместе с тем вызывает возражения и тенденция «расстворить» петраркизм в истории итальянской лирики. Это путь, открытый еще в XIX веке академиком А. Н: Веселовским и известный отечественному исследователю в его парадоксальной формулировке: «петраркизм древнее Петрарки» [178, с. 215]21. Движение в этом направлении обладает рядом несомненных преимуществ: дает понимание законов; развития, литературы древних эпох, демонстрирует процесс эволюции стиля как поэтического приема, — но замыкает конкретное литературное явление в ряд неизменных формул, уходящих вглубь веков. С последним спорить трудно: петраркизм действительно соткан из поэтических формул предшествующих столетий, однако это не должно отменять вопроса о его своеобразии и границах как исторического явления. Очевидно, что истоки петраркизма надо искать не в. глубине веков, а в истории подражаний Петрарке.
Наличие разных пониманий петраркизма привело к тому, что сам термин остается таким, каков он есть,— неоднозначным в научном, и расплывчатым в своем ненаучном толковании;- Неудивительно,. что так актуально зазвучал вопрос о периодизации: до тех пор,- пока мы не определимся; что называть петраркизмом, мы- не сможем, установить и. границы искомого явления. В данной ситуации; представляется логичным разграничение понятий «канон» и «традиция» применительно к петраркизму. Такой подход позволяет не только сосредоточиться на норме Бембо, но и проследить пути движения к ней, понять причины ее утверждения в итальянской литературе и культуре XVI века.
Флорентийский неоплатонизм и возрождение лирической традиции на вольгаре
Для выяснения вопроса о формировании традиции подражания любовной лирике Петрарки, пожалуй, нет необходимости шаг за шагом прослеживать историю культуры XV века. Достаточно будет отметить наиболее существенное. И первым в этой связи для второй половины XV века является поворот в развитии гуманистической мысли. Бегство греков в Италию после падения Константинополя в 1453 году привело к заметному оживлению на полуострове интереса к греческой культуре . Вместе с греками в Италию приходит Платон. Не тот, которого итальянцы знали со времен Средневековья, – Платон «Государства» и еще нескольких диалогов («Тимей», «Федон», «Меном») , а Платон в неоплатонической традиции позднеэллинской философии и раннего христианства. Центром изучения и поклонения «божественному Платону» становится Платоновская академия во Флоренции, а наиболее заметным в ее деятельности – возрождение платоновской теории любви и красоты в переводах и своеобразной интерпретации Марсилио Фичино, идеи которого развивал в своих трудах Джованни Пико делла Мирандола.
Сразу следует подчеркнуть: теория любви не существовала для Фичино как нечто самостоятельное. Она вписывалась в общую концепцию божественного и прекрасного космоса, поэтому в понимании Фичино любовь – это движущая универсальная сила, которая подчиняет себе и божественный миропорядок, и человека. Фичино говорит о мироздании как иерархически построенном единстве, где Бог – высшая ступень бытия, а материя – низшая, и представляет его не как вертикальную, а как круговую взаимосвязь. Это «духовное круговращение», начинающееся от Бога, нисходящее в мир и опять восходящее к Богу, и есть любовь. Такая любовь, пронизывающая и связующая всю иерархию бытия и выражающая внутреннюю гармонию Вселенной, есть красота, а самое существование мира в этом постоянном круговращении есть наслаждение. Это «единое постоянное влечение», идущее от Бога к миру и от мира к Богу, философ называет тремя именами: понятие любви смыкается и раскрывается у него через понятия красоты и наслаждения. Вслед за Платоном Фичино сольет их в звучащее как лейтмотив определение: «любовь есть наслаждение красотой».
Стремясь преодолеть разрыв между Богом и миром, Фичино рассуждает об Эросе как о силе, которая приводит в соприкосновение два мира – чувственный и зримый мир материи и невидимый мир божественного. Точкой их соприкосновения становится телесная красота, которая понимается как зримый образ Бога, его видимый свет. На вопрос: «Что ищут любящие?», Фичино отвечает однозначно: «Они ищут красоту». Ибо любовь есть желание наслаждаться красотой, а красота тела есть не что иное, как само божественное сияние [153, т. 1, с. 160]. В зримой красоте тела, в привлекательности его красок и линий душе открывается красота невидимого и пробуждается стремление к нему. Таким образом, функция красоты состоит в том, чтобы подтолкнуть душу к порогу духовного перелома: зрительно воспринимаемая красота зажигает огонь любви, и душа из состояния покоя переходит в круговращение. Она вступает на трудный путь восхождения от низших форм красоты к высшему мистическому созерцанию. Фичино видит смысл человеческой жизни во внутренней устремленности к Богу – и платоновская идея любви-восхождения сливается у него с христианской мистикой.
Отправной точкой этого восхождения является созерцание. «Свет тела не воспринимает ни слух, ни обоняние, ни вкус, ни осязание, но только зрение», – утверждает Фичино [153, т. 1, с. 159–160]. Отсюда колоссальная роль зрения и глаз как его инструмента. Глаза у Фичино становятся главным органом тела, или, как у Платона, тело становится вместилищем глаз, созерцающих красоту. (Из других органов чувств упоминается еще слух, которым мы познаем красоту звуков. Остальное в человеческой природе не имеет отношения к любви.) Однако остановиться только на внешних формах земного мира, не стремиться проникнуть в их скрытое духовное содержание – самое опасное заблуждение. Любовь неотделима от познания, поэтому не менее важная роль отводится интеллекту. Лишь когда любовью руководит интеллект, с помощью которого человека охватывает желание постичь скрытый смысл всех форм бытия, он движется к высшей цели. Познавать – это значит рассматривать каждое явление реальности как ступень единого общего ряда, осознавать несовершенство вещей, чтобы приблизиться к Богу. Поэтому каждая ступень бытия есть «зеркало» Бога, но каждая ступень являет нам несовершенство и ведет к следующей ступени: от вещей – к нам, от нас – к Богу. «Нельзя увидеть солнце без солнечного света и услышать музыку без звуков, – пишет Фичино, – но глаз, наполненный светом, видит свет, и ухо, наполненное музыкой, слышит звучащую мелодию; так Создатель непознаваем без Создателя, но душа, напоенная богом, поднимается тем выше к богу, чем больше, освещенная божественным светом, она распознает бога и, зажегшись от божественного огня, испытывает жажду в нем самом. Поэтому она не может подняться к Тому, кто выше ее и бесконечен, без усилия того, кто возвышается над ней и бесконечен. Тогда душа становится храмом бога» (цит. по: [183, с. 126]. Так теория любви у Фичино соединяется с теорией познания, а философия становится неотделимой от религии.
«Вся философия Фичино, – сошлемся в качестве обобщения на авторитет А. Ф. Лосева, – вращается вокруг идеи любви, в которой он объединяет платоновский эрос и христианскую caritas, почти не делая между ними различия. „Амор“ – это у Фичино просто другое название духовного кругового тока, исходящего от бога во Вселенную и возвращающегося к богу. Любить – значит занять место в этом мистическом круговращении» [233, с. 323].
Большинство идей, высказанных в сочинениях Фичино, не отличается оригинальностью. Помимо учения Платона, он опирается на идеи Аристотеля и стоиков, учение о космической любви Прокла, идею о возвращении души к своему первоначалу Плотина, христианскую идею «каритас», представления древнейших поэтов и даже некоторые положения куртуазной любви. Синкретизм Фичино не случаен, ибо он ищет единую истину во множестве откровений. Только философии или только поэзии (она под покровом образов также скрывает божественные тайны) или, как выразился Э. Гарэн, «философии философов и поэзии поэтов» он противопоставляет свою «ученую религию», в которой философия и поэзия соединены. Фичино верит, что во всех проявлениях красоты земного мира, во всех религиозных откровениях, во всех песнях поэтов и математических гармониях заключено вечное откровение божественного Слова, которое есть и в человеческой душе. Поэтому целью человеческой жизни является поворот от внешнего к внутреннему, познание Бога и единение с ним в круговороте любви.
Первые печатные издания Петрарки: от «Триумфов» к «Книге песен»
Изучение многих явлений культуры в XV веке останется неполным без учета одного важного обстоятельства – появления книгопечатания. Событие поистине революционное по степени своего влияния на европейскую цивилизацию, изобретение Гутенберга сыграло немаловажную роль и в истории петраркизма. Именно книгопечатание как общедоступный способ тиражирования идей и текстов в больших масштабах способствовало быстрому и повсеместному распространению петраркизма в XVI веке. В этой связи изучение изданий Петрарки на самом начальном этапе существования печатной книги в Италии становится принципиально важным. Отбор имен и названий, принципы издания и оформления, характер циркулирования книги в социуме могут не только существенно дополнить наши представления о духовной жизни итальянского общества в этот период, но и являются уникальными сведениями о характере его отношения к Петрарке. Конечно, не на все интересующие нас вопросы современная наука может дать исчерпывающие ответы. И все же некоторые факты даже при неполноте информации побуждают к размышлению.
Начнем со статистики. Печатный станок появился в Италии в 1465 году. Первые отпечатанные на нем книги – латинские: грамматика Доната, «О граде Божием» Августина Блаженного, сочинения Цицерона и Лактанция. Книги на народном языке, как и в остальных странах Европы, появились несколько позже и по своему количеству вплоть до начала XVI века значительно уступали латинским . Тем значительнее то обстоятельство, что едва ли не первая печатная итальянская книга – сочинения Петрарки (Sonetti, Canzoni et Trionphi. – Venetiis: Vindelinus de Spira, 1470), и появилась она раньше, чем итальянский перевод Библии в 1471 году [530, с. 73] .
До конца XV века в Италии в общей сложности было предпринято 48 изданий итальянских сочинений поэта [455, т. 2, с. 583]. Количество латинских изданий несравнимо меньше – менее десяти. Латинский Петрарка чаще издавался в Германии, чем на родине. Отдельные издания увенчались созданием первых собраний сочинений, которые включали только латинские сочинения поэта. В Италии первое подобное издание появилось в 1501 году (см.: [113, 120]). Преимущественный интерес к латинскому Петрарке на территории Германии вряд ли можно объяснить только сосредоточенностью здесь в XV веке центров европейского книгопечатания. Судя по отбору текстов: «De remedies utrisque fortunae», «Secretum», «Psalmi poenitentiales», «De vita solitaria», «Bucolicum сarmen», компиляций из «De viris illustribus», пяти изданий «Historia Griseldi», фрагмента «Старческих писем», в котором дается латинское переложение новеллы о Гризельде Боккаччо, такой Петрарка прежде всего соответствовал характеру формирующегося немецкого гуманизма. Петрарка «Книги песен» европейцами еще не востребован – там он появится только в середине следующего столетия. Что касается других национальных классиков, то следует отметить, что и Боккаччо, который также впервые был напечатан в Италии в 1470 году, и особенно Данте по численности своих итальянских изданий Петрарке уступают. В XV веке насчитывается 16 изданий Данте (из них 15 приходится на «Божественную комедию» [109, с. 258–275]), и 38 – Боккаччо. Несмотря на то что Боккаччо опубликован практически полностью, ни один из его текстов не может соперничать по степени своей популярности с «Триумфами» и «Книгой песен» Петрарки . Не будем забывать, что в книге воплощаются общественные потребности, поэтому первое, о чем свидетельствуют приведенные данные, – это возрастание интереса к литературе на вольгаре, который формируется как преимущественное увлечение Петраркой .
Но есть еще один небезынтересный факт. Исследователи уже давно обратили внимание на то, что, судя по количеству изданий, в XV веке читатели отдавали предпочтение «Триумфам», а не «Книге песен» [390]. Из 48 изданий итальянских сочинений поэта почти половина (22) приходится на долю «Триумфов», еще чуть больше четверти составляют совместные издания «Триумфов» и «Книги песен», и только последняя четверть (12) – это отдельные издания «Canzoniere» [441, с. 31; 455, т. 2, с. 598]. В совместных изданиях соблюдался принцип самостоятельности частей. Каждая часть или том часто имели свою пагинацию, сигнатуру, дату или год издания, и только оглавление (tavola) указывало на то, что обе части задумывались в рамках одного издания. (Неудивительно, что библиографы и библиофилы сетуют, что их трудно найти вместе [103, с. 562]). Установленной последовательности между частями не было, хотя чаще не «Книга песен», а «Триумфы» составляли первый том.
Большинство изданий были комментированными: «Canzoniere» печатаются с комментариями Франческо Филельфо, Джироламо Скварчафико или Антонио Да Темпо, «Триумфы» – с комментариями Бернардо Илличино. Часто печатники делали компиляции из разных комментариев, в таких случаях имена авторов обычно не указывались. Обязательной составляющей комментариев было жизнеописание Петрарки, которое со временем, уже в XVI веке, выделится в самостоятельную структурную единицу всех изданий.
Теория и каноническая модель петраркизма
В «Рассуждениях в прозе о народном языке» Пьетро Бембо дал теоретическое обоснование петраркизму и на основе итальянской лирики Петрарки разработал его языковую и стилистическую норму. Впервые за долгую историю традиции подражания Петрарке принципы его поэтики предстали независимо от самих стихотворных текстов. Появилось то, что применительно к истории художественной культуры Б. М. Бернштейн определил как «информация о художественной информации или художественная метаинформация». Отдельное существование художественной метаинформации, по мнению ученого, с одной стороны, выделяет каноническую культуру из лона традиционной, а с другой – объединяет ее с иными, более сложными типами художественной культуры [168, с. 128].
В петраркисткой традиции рефлексия над лирикой Петрарки хотя и существовала до Бембо, но не принимала форму теории. Стихи переходили от поколения к поколению, но правил, по которым они строятся, никто не формулировал. Правила могли соблюдаться, однако «знание о том, как делать», не существовало отдельно. С приходом Бембо такое знание, вычлененное из текста поэтической книги Петрарки, стало существовать наряду с самим текстом, в форме его теории. У петраркистской традиции появился специфический регулирующий механизм, ее метаинформация – «Рассуждения» Бембо. Однако специфика канона как феномена культуры заключается в том, что, создавая теорию, он не может ею ограничиться, ему нужна еще модель.
С выходом в свет «Рассуждений» Бембо утвердился в глазах современников как «вождь и учитель тосканского языка» [387, с. 48]. К нему обращались за советом, его оценками дорожили, его воспевали и делали героем литературных произведений, поэты почитали за честь посвятить ему свои произведения. В 1529 году на церемонию венчания нового императора в Болонье, где присутствовали многие знатные и выдающиеся люди Италии, Бембо был приглашен в качестве главного литератора страны. Однако «Рассуждения», несмотря на свою литературность, не могли рассчитывать на широкую аудиторию. Для этого сочинения нужен был «читатель хорошо осведомленный и внимательный», от которого требовался особый труд или «доблесть», чтобы, как писал в конце XVI века сиенский академик Орацио Ломбарделли, «извлечь все те сокровища, которые будто затонули в этом „Диалоге“». Он был адресован ученой аудитории, способной оценить не только авторскую установку на подражание Боккаччо и Цицерону, но и вовлеченную в тонкости чисто лингвистических проблем [256, с. 250, 402–405]. Для того чтобы теория обернулась практикой бесчисленных повторений, одних «Рассуждений» было недостаточно. Нужен был еще образец: не сам Петрарка и не отвлеченные от текста законы его поэтики, но некая модель, демонстрирующая сформулированные законы в практике нового текста. Не теория имеет решающее значение в каноне. Специфическое свойство канона заключается в том, что созданная теория должна еще «отлиться в форму образцовых, инструктивных моделей» [168, с. 128]. Создатель канона Поликлет не только сочинил трактат о ваянии и назвал его «Каноном», но и в соответствии с указаниями своего учения изваял саму статую Канона. Согласно Плинию, именно статуя имела решающее значение для последователей: «Ее художники зовут каноном и получают от нее, словно из какого-нибудь закона, основания своего искусства и Поликлета считают единственным человеком, который из произведения искусства сделал его теорию» (цит. по: [231, с. 354]).
В отличие от традиции, канон опирается уже не на идеальное первичное произведение. Возникая в критические для культуры моменты, канон выступает в качестве охранительного по отношению к традиции механизма; он стремится как бы законсервировать ее – и теория берет на себя функцию консерванта. Она вычленяет из первоисточника наиболее существенное для данной культуры знание и предлагает его современникам в качестве новой модели для подражания. Применительно к нашему материалу – это уже не сам Петрарка, но Петрарка в интерпретации и ограничениях Бембо. Таким образом, теория, будучи даже не всегда востребованной в каноне, играет необычайно важную роль для его формирования и функционирования. Она задает взгляд на идеальный первичный образец, определяет характер его восприятия в культуре и тем самым способствует сохранению актуальной традиции и консолидации общества на ее базе. Однако еще раз подчеркнем вслед за Б. М. Бернштейном: собственно канон заключен не в теоретических или эстетических обоснованиях, а в иконографических образцах и технических рецептах, воплощенных в форме моделей. В петраркизме роль такой модели сыграли «Rime».
Через пять лет после появления трактата, в 1530 году вышла в свет книга стихов Бембо (в 1535 году последовало второе, расширенное, издание, а в 1548-м, уже после смерти поэта, отредактированное в очередной раз третье). «Стихотворения» представляли собою сборник текстов разных лет. Помимо ранних, написанных до 1500 года и заново отредактированных, в книгу вошли и часть стихотворений из первого издания «Азоланских бесед» (1505), и стихи зрелого периода, и написанные специально. Многие тексты были уже хорошо известны, т. к. имели хождение в рукописных списках или были опубликованы. Однако, объединенные все вместе в книгу, они предстали теперь в новом качестве. Бембо предлагал своим современникам наглядный образец: и реализации выдвинутого им ранее принципа подражания, и нового поэтического стиля, и – что не менее значимо для петраркизма и что мы постараемся показать особо – нового, жизненного прочтения «Книги песен» .
Сборник открывал вводный сонет, который Бембо начал характерным петрарковским «piansi e cantai» – плакал и пел, сразу и недвусмысленно указывая на верность главной лирической теме RVF: любовь в единстве с поэзией.
Торжество искусства: мотив портрета
Кульминационной с этой точки зрения и принципиально важной для поэтического мира петраркизма становится разработка мотива портрета возлюбленной. Мотив, навеянный двумя сонетами Петрарки, в которых тот упоминает о заказанном (но не сохранившемся) у Симоне Мартини портрете Лауры (LXXVII–LXXVIII), встречается и в XV веке. Однако в XVI веке его необычайная популярность стимулировалась не столько литературной традицией, которая, кстати, начинается задолго до Петрарки, сколько факторами внешнего характера: популярностью неоплатонической идеи о художнике-творце, расхожим представлением о превосходстве живописи над другими видами изобразительного искусства, модой на портреты в придворной среде, наконец.
Переосмысление мотива идет по путям, обозначенным у Петрарки. В 77-м сонете он связывался с образом художника, его создавшего. Важным компонентом образа являлась античная ассоциация. Образ Мартини возникал «на фоне» Поликлета и других мастеров целого тысячелетия, что помогало поэту подчеркнуть дистанцию между ним и всей предшествующей традицией изображения человека в искусстве: Мартини удалось запечатлеть на своем портрете не земную, а божественную красоту. В 78-м сонете Петрарка вводит мотив «ожившего» изображения, в очередной раз отталкиваясь от античных реминисценций, в этом случае они были связаны с мифом о Пигмалионе. У петраркистов неоплатонические ассоциации вытеснили античные.
Яркий, ни с чем не сравнимый расцвет изобразительных искусств на рубеже XV–XVI веков во многом был стимулирован философией неоплатонизма, под влиянием которой в обществе стало распространяться мнение об исключительности художника и его деятельности. Мысль о художнике как о творце, способном явить идеальную сущность в земной материи, требовавшая от Петрарки специальных усилий (использование античного фона), в XVI веке выглядит уже банальной. В петраркизме она присутствует как распространенный мотив, идейная основа которого ни у кого не вызывает сомнений. Из поэтов XVI века, пожалуй, только Микеланджело переживает ее драматично, как глубоко личную проблему. Поэтому используемые вслед за Петраркой и прямое обращение к художнику, и превознесение его мастерства, и признание неземного происхождения красоты, запечатленной на портрете, у петраркистов не более чем штампы с усиленным неоплатоническим подтекстом. Они нужны как своеобразный фон для того, чтобы развернуть другой мотив – ожившее изображение. Он собственно и определяет своеобразие разработки портрета красавицы в петраркизме.
Выбор этого направления был обозначен уже в письмах Бембо к Марии Саворньян, где 20 марта 1500 года, подчеркивая цитаты из 78-го сонета Петрарки, Бембо пишет: «Я целовал его (ваш портрет. – Т. Я.) тысячи раз вместо Вас, и прошу его о том, о чем охотно просил бы Вас, и вижу, что он, похоже, благосклонно меня слушает, гораздо благосклоннее, чем Вы, которая этого не делала, если бы он еще мог ответить на мои слова» [45, с. 142]. В сонете, написанном примерно в это же время и впервые опубликованном в издании 1530 года, Бембо уже прямо обращается к портрету:
О, образ мой, небесный и чистый,/ ослепи своим сиянием мои глаза сильнее, чем солнце,/ и напомни мне облик той,/ что с такой заботой храню высеченным в моем сердце;/ верю, что мой Беллин (Джамбеллино, автор портрета. – Т. Я.), сумев изобразить тебя,/ придал тебе также и ее привычки,/ потому что я горю огнем, когда тобой любуюсь, а ты остаешься/ холодным кусочком смальты, которому выпала высокая участь./ И, как сама донна со взором сладостным и кротким, ты являешь жалость к моим мучениям,/ а потом, если продолжаю просить о милости, не отвечаешь./ В одном ты менее жесток, чем она [досл.: в этом твой стиль оказывается менее жестоким, чем ее],/ и не так развеиваешь по ветру мои надежды –/ когда я тебя ищу, ты, по крайней мере, не прячешься»).
Образ женщины на портрете строится на выявлении таких черт, которые не столько устанавливают внешнее сходство с живым оригиналом, сколько подчеркивают тождество или расхождение между ними в отношении к лирическому герою. Возникающее за счет такого приема ощущение самостоятельной жизни изображения не может затушевать даже выдерживаемый Бембо принцип сравнения. Есть и еще один немаловажный момент. У Петрарки мотивы ожившего изображения (слушает, не отвечает) вырастали из античного мифа о Пигмалионе. Наличие такого мифологического основания хотя и сокращало расстояние между изображением и реальностью, в то же время помогало удерживать грань между ними. Бембо петрарковские мотивы от античных одежд освободил. Роль мифологического скульптора он попытался передать современному художнику. Это значительно повысило статус художника и его мастерства – прием выглядел как высшая похвала его искусству. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать границу между искусством и реальностью. В петраркизме портрет зажил самостоятельной жизнью.