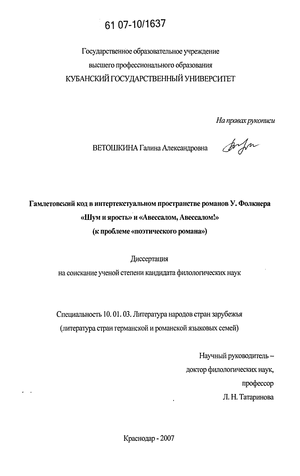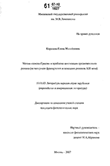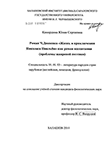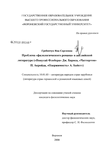Содержание к диссертации
Введение
1 Интертекстуальность как литературоведческая проблема 9
1.1 Интертекстуальность как философия текста 13
1.2 Интертекст как художественный прием 21
1.2.1 Способы текстовой реализации приема интертекста 27
1.3 Метод интертекстуального анализа 31
Выводы 1 главы 36
2 Гамлетовский код в историко-культурном пространстве к. XIX- в. XX в 39
2.1 Литературный код и способы его реализации 39
2.2 «Поэтический роман» как жанровая разновидность эпоса к. ХГХ - н. XX века..43
2.2.1 Мотив как структурная единица «поэтического романа» 48
2.3 «Гамлет» Шекспира как культурный код литературы к. XIX - н.ХХ века 54
Выводы 2 главы 61
3 «Гамлет» как прототекст фолкнеровского художественного пространства 63
3.1 Интерпретация архетипического образа Гамлета в романном пространстве У.Фолкнера 68
3. 1.1 Квентин Компсон-Гамлет XX века 68
3. 1.2 Генри Сатпен. Становление Гамлета 80
3. 1.3 Чарлз Бон. «В плену у своего рожденья» 84
3.2 Гамлетовские мотивы в романном пространстве У.Фолкнера 92
3.2.1 Мотив смерти и способы его реализации в пространстве романов У. Фолкнера и трагедии У. Шекспира «Гамлет» 92
3. 2. 1. 1 Репрезентация мотива смерти на сюжетно-фабульном уровне трагедии Шекспира «Гамлет» и романа Фолкнера «Шум и ярость» 92
3.2.1.2 Мотивы гниения, разложения и болезни как способы репрезентации мотива смерти (сюжетный, образный и лексический уровень) в трагедии Шекспира «Гамлет» 99
3. 2. 1.3 Репрезентация мотива смерти (в том числе и через вариативные мотивы гниения и болезни) в романном пространстве У. Фолкнера (сюжетно- фабульный, образный и лексический уровень) 104
3.2.2 Мотив борьбы со временем 130
3.2.3 Мотив познания и мотив греха 146
3.2.4 Мотив одиночества и мотив холода 154
Выводы 3 главы 167
Заключение 174
Библиография 180
- Интертекстуальность как философия текста
- Литературный код и способы его реализации
- Квентин Компсон-Гамлет XX века
Введение к работе
Литературоведение конца XX века немыслимо без обращения к проблеме интертекста. Проблема кодирования литературных текстов, насьщения их цитатами, аллюзиями на тексты, получившие статус литературных мифов, интерпретация ставших ар-хетипическими для литературы и культуры сюжетов стала одной из самых актуальных проблем в работах современных исследователей. Произведения, созданные в XX веке, который ознаменовался бурными процессами зарождения новых художественных тенденций, возникновением новых художественных направлений и школ, новых методов изображения действительности, особенно стимулируют исследователей к поиску про-тотекстов - текстов прошлого, организующих их форму и содержание. Обращение к <<золотому фонду» культуры, к наиболее востребованным в XX веке пластам культуры -Античность, Библия, Данте, Шекспир, Сервантес, Гете - способствует созданию произведений онтологического уровня, затрагивающих глубокие философские проблемы, касающиеся основных вопросов существования личности, текстов, «выходящих из истории» в область «большого времени» (М. Бахтин).
Особую роль в XX веке играет шекспировская трагедия «Гамлет». Для многих авторов она становится своеобразным эстетическим и философским каноном, а её рефлексирующий, сомневающийся герой - символом времени, эпохи. Именно Гамлет в контексте трагического XX века задает модель поведения, намечает траекторию движения духа. Многие тексты XX века используют философский и эстетический потенциал шекспировского героя. Гамлетовская геройная парадигма прослеживается во многих романах: «Улисс» Дж. Джойса (Стивен Дедалус), «Боги жаждут» А. Франса (Гамлен), «Вся королевская рать» РЛ Уоррена (Джек Бёрден), «Доктор Живаго» Б. Пастернака (Юрий Живаго) и др. Однако в этот период авторы не только используют образ Гамлета для создания типологических параллелей между своим и шекспировским героем, но и пронизывают свои тексты тончайшей сетью шекспировских образов и мотивов, что позволяет говорить о присутствии в них особого, гамлетовского кода (системы образов-мотивов, активно участвующих в создании смыслового поля текста). По такому принципу строятся и тексты У. Фолкнера - одного из последних трагических писателей XX
века, автора, давшего миру прекрасные образцы поэтического романа, получившего особое распространение в модернистской литературной традиции.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в контексте современной теории литературы любой текст воспринимается как интертекст. В рамках явления интертекстуальности особенно актуальной представляется проблема литературного кода-системы символов, аккумулирующей в себе смысловой потенциал текста. Приоритетным при этом является выделение кодирующей системы образов в пространстве «поэтического романа», образцы которого дает нам У. Фолкнер.
Новизна исследования. Конкретизируя теорию интертекста, систематизируя исследования в области архетипического образа и мотива, диссертационная работа не только определяет основные признаки архетипического образа (литературного архетипа), но и предлагает ввести новое жанровое определение - «поэтический роман». Исследование реализации гамлетовского кода (на героином, образном и сюжетно-фабульном уровнях) в текстовом пространстве У. Фолкнера доказывает факт интертекстуальной связи между фолкнеровским романным пространством и трагедией У. Шекспира «Гамлет», позиционируя его не только как южанина-почвенника (как об этом в основном пишут исследователи его творчества), но и как наследника европейской эстетико-философской культурной традиции.
Цель исследования - изучение интертекстуального романного пространства У. Фолкнера в контексте теории литературного кода (конкретизируя код данного текстового пространства как «гамлетовский») с выявлением способов и форм его репрезентации.
Данная цель предполагает решение следующих научных задач:
Систематизация исследований по проблеме лирического романа и обоснование необходимости замены жанрового обозначения «лирический» на определение <<поэтический» (мотив при этом признается ведущей структурной единицей «поэтического романа»),
Рассмотрение образа Гамлета как архетипического в историко-философском контексте к. XIX- н. XX века.
Исследование фолкнеровского текстового пространства и решение проблемы присутствия гамлетовского кода на уровне геройных парадигм.
4. Интерпретация элементов мотивной структуры трагедии У. Шекспира «Гамлет»
в произведениях У. Фолкнера «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!» (на
лексическом, образном, сюжетно-фабульном уровнях).
Объектом исследования явились тексты романов У. Фолкнера «Шум и ярость» и
«Авессалом, Авессалом!», объединенные по признаку единства хронотопа (роман
«Авессалом, Авессалом!» является прологом ко второй части романа «Шум и ярость») и
одного из повествователей - Квентина Компсона.
Предмет исследования - геройные парадигмы, образная и мотивная структура трагедии Шекспира «Гамлет» в романах Фолкнера «Шум и ярость», и «Авессалом, Авессалом!».
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют: 1) труды М. Бахтина по проблеме диалогизма, Ю. Кристевой и Р. Барта по проблеме интертекста; 2) работы в области текстовых структур и семиотики Ю. М. Лот-мана; 3) исследования в области интертексгуального анализа текста И. П. Смирнова, А. К. Жолковского, Г. К. Косикова, Г. И. Лушниковой, Н. А. Фатеевой и др.; 4) исследования У. Эко в области знаковых систем; 5) труды по теории лирического романа В. Днепрова, Д Затонского, Н. Рымаря и др.; 6) теоретические разработки в области теории мотива А. Н. Веселовского, методика мотивного анализа Б. М. Гаспарова, труды по поэтике мотива И. В. Силантьева, Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпы и др.; 7) религиозно-философские труды М. де Унамуно, С. Роуза, А. Ф. Лосева, П. А. Флоренского, Л. Шестова. Научно-праюическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при теоретическом изучении проблемы интертекста, проблемы поэтического романа, литературного кода, способов интерпретации архетипических сюжетов и образов, при изучении теории мотива и мотивной структуры текста, а также в лекционных курсах и спецкурсах по изучению литературы перюй половины XX века и творчества У. Фолкнера
Апробация работы. Результаты исследований, выполненных по теме диссертации, были представлены на международных научных конференциях «Культура и литература США: Проблемы поэтики и эстетики» (Москва, 1997), «Литература в контексте
культуры» (Москва, 1998), «Антропоцентрическая парадигма в филологии» (Ставрополь, 2003), «Литература в диалоге культур» (Ростов-на-Дону, 2004, 2006); на Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи» (Соликамск, 2004). По теме исследования опубликовано 7 работ.
Основные положения, выносимые на защиту
Шекспировская трагедия «Гамлет» становится одним из литературных кодов и репрезентируется в литературе к. ХГХ - н. XX в. посредством отдельных образов, образных систем, геройных парадигм и сюжетных ситуаций. С их помощью текст-реципиент приобретает философский, общечеловеческий масштаб, происходит преодоление его пространственно-временной привязанности. Вследствие этого образ Гамлета становится архетипическим, т.е., преодолевая историческую конкретность, являет собой определенного рода матрицу, поведенческую и эстетическую модель, которая становится особенно востребованной в кризисные эпохи, переломные периоды развития человечества, реализует трагическое начало, трагический пафос, катарсис.
В «Гамлете», восходящем к античному мифу об Оресте, Шекспир христианизирует миф (актуализируя новые нравственно-религиозные смыслы), закладывает основание новой литературной традиции - христианского осмысления античности. Той же традиции придерживается и У. Фолкнер (отсюда явное сближение образа Гамлета и Христа в его текстах).
В начале XX века появляется новый тип организации романной структуры -«поэтический роман» (данный термин нам представляется более полно отражающим суть явления, поскольку в нем делается акцент не на лирическом герое-повествователе, а на особой текстовой организации), в котором не «рассказывается история», а репрезентируется поток впечатлений, ассоциаций, поэтических образов, составляющих содержание образа героя, рассказчика. Структурообразующую роль в подобного типа романах играет мотивный каркас - система мотивов - мельчайших сюжетных элементов, выделяемых по признаку частотности.
Романная структура текстов У. Фолкнера являет собой ярчайший пример поэтического романа Романы «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!», являясь единым текстовым пространством (объединенным общим хронотопом, общими героями), содержат в себе явные признаки наличия гамлетовского кода - системы шекспировских образов-аллюзий, геройных парадигм, нескольких видов интерпретаций архетипического образа Гамлета, сюжетных ситуаций трагедии и т.п., образующих основу мотивного каркаса исследуемых нами текстов, создающих особую атмосферу синтеза поэтического и трагического начал.
У. Фолкнер, традиционно рассматриваемый в критической литературе как почвенник, южанин, является наследником европейской литературной традиции. Опираясь на достижения европейской культуры (библейская поэтика, античность, Шекспир, Сервантес, рыцарство, романтическая традиция, Бодлер, Диккенс), Фолкнер создает особого рода тексты, в которых синтезируются поэзия и философия, реализуются как черты национальной американской традиции, так и всемирность, Безвременность, космизм.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из трех глав, введения, заключения и библиографического списка, включающего 250 наименований. Первые две главы носят теоретический характер, они вводят и поясняют основные терминологические понятия, которыми оперирует работа. Третья глава представляет собой анализ образной и мотивной структуры текстового поля романов У. Фолкнера «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!» на предмет наличия и роли в нем гамлетовского кода.
1 Интертекстуальность как литературоведческая проблема
Данный раздел посвящен анализу такого неоднозначного понятия современного литературоведения как «интертекстуальность» (в его общем, философском и «прикладном» значении), разграничению таких феноменов как интертекстуальность и сравнительное литературоведение, уделяется особое внимание соотношению бахтинского понимания «текстового диалога» и того «диалога текстов», о котором пишет Ю. Кристева.
Проблема интертекстуальности является, пожалуй, одной из самых актуальных в современной филологии. Такие термины, как «интертекст», «интертекстуальность», «диалогичность» на страницах работ, посвященных исследованию художественного текста, можно встретить довольно часто [см. работы Ю. Кристеюй, Р. Барта, Ж. Деррида, Г. Блума, М. Риффатера, И. Смирнова, А. К. Жолковского, И. И. Ильина, Г. Косикова, В.А. Миловидова, Н. А. Фатеевой, М. Н. Макеевой, Г. А. Лушниковой, В. Е. Чернявской, С. Т. Золян, И. В. Арнольд, М. Ю. Колокольнико-вой, Л. П. Ржанской и др.].
Получившая столь широкое распространение в конце XX века теория интертекста возникла в 60-х годах прошлого столетия. Термин «интертекстуальность» впервые появился в 1967 году в статье Ю. Кристеюй «Бахтин, слою, диалог и роман», а затем концепция интертекстуальности получила своё развитие как в других статьях Кристеюй, так и в работах Р. Барта, Ж. Деррида и др.
Генетически теория интертекстуальности Ю. Кристеюй восходит к трудам М. Бахтина, идеи которого о диалогическом взаимодействии текстов и о «чужом» слове были подхвачены французскими постструктуралистами. Высказывания Бахтина о том, что литература вообще и каждый конкретный текст в частности возникает не в вакууме, а лишь на базе всей предшествующей культурной традиции, оказались необычайно созвучны тому пониманию текста, которое возникло во 2-й половине XX века. Точкой отсчёта многих как лингвистических, так и литературоведческих исследований этого периода стали работы Ж. Деррида, утверждающие в качестве основополагающего тождество «мир - текст». Понятие «текст» теряет сюю независимость, границы его становятся предельно размытыми. Каждый сущест-
вующий текст, вне зависимости от времени его возникновения, утверждает Р. Барт, является «эхокамерой». М. Риффатер придерживается того же мнения: «Сама идея текстуальности неотделима от интертекстуальности и основана на ней» [Riffaterre, 1978,125]. Многие современные исследователи считают интертекстуальность категорией, присущей каждому тексту, независимо от того, хочет этого автор или нет. Цитирование, по их мнению, явление неизбежное, т.к. культура «опутывает» каждого автора своей сетью - паутиной, спастись от её власти невозможно [Gresset, 1985,7].
Аксиоматические утверждения о взаимообусловленности текста и интертекста в филологической науке последней трети XX века привели к тому, что теория интертекста приобрела необычайную популярность в наши дни. Однако почти все исследователи, касающиеся этой проблемы, в том числе и автор учебного пособия «Теория литературы» В. Е. Хализев [Хализев, 1999,259-262], совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечают, что на сегодняшний день единого определения интертекстуальности не существует. Каждый автор, имеющий дело с явлением интертекста, интерпретирует его по-своему, используя в своих интересах для доказательства той или иной собственной концепции.
Чаще всего упоминания о теории интертекста возникают при характеристике так называемого постмодернистского мироощущения. Так, например, И. Ильин отмечает, что термин «интертекст» сегодня используется прежде всего «для характеристики не столько особого способа анализа художественного произведения или для описания специфического существования литературы, хотя именно в этой области он впервые и появился, сколько для определения того миро- и самоощущения современного человека, его стиля жизни, которое «получило название постмодернистской чувствительности» [Ильин, 1989,186].
Однако нам представляется, что феномен интертекстуальности нельзя толковать однозначно, это довольно сложное, многоаспектное явление. Об этом свидетельствует достаточно широкий спектр мнений о нем. Так, например, Н. А. Фатеева указывает прежде всего на прикладной характер интертекстуальности. «Говоря об «интертекстуальности», - пишет она, - кажется, вполне обоснованным различать две
11 её стороны - читательскую (исследовательскую) и авторскую. С точки зрения читателя интертекстуальность - это установка на (1) более углублённое понимание текста или (2) разрешение непонимания текста (текстовых аномалий) за счёт установления многомерных связей с другими текстами» [Фатеева, 2000,16].
В.Е. Чернявская также выявляет существование двух моделей интертекстуальности: широкую, радикальную, и более узкую. Согласно её схеме, интертекстуальность рассматривается либо как универсальное свойство текста вообще, т.е. предполагается понимание всякого текста как интертекста, либо как специфическое качество определённых текстов (классов текстов) [Чернявская, 2000, 14]. По мнению Чернявской, Ю. Кристева, выдвинув радикальную концепцию интертекста, предельно обострив концепцию М.М. Бахтина, заменяет понятие «диалогичности» на понятие «интертекстуальности» и связывает последнее с понятием «текстуальности» в целом. Таким образом, отмечает Чернявская, текст, по Ю. Кристевой, предстал как историко-культурная парадигма, «транссемиотический универсум», вбирающий в себя все смысловые системы и культурные коды, как в синхронном, так и в диахроническом аспекте. В этом смысле каждый текст выступает как интертекст, а претекстом каждого произведения является не только совокупность всех предшествующих текстов, но и сумма лежащих в их основе общих кодов и смысловых систем» [Чернявская, 2000,14].
Подобного широкого толкования интертекста придерживаются в основном представители «коммуникативно-дискурсивного» (И. Ильин) анализа (Р. Барт, Ж. Деррида, М. Риффатер и др.). Согласно более узкой концепции (которой придерживаются, в основном, филологи-практики, анализирующие конкретный текстовый материал), интертекстуальность предстает не свойством текстов вообще, но особым качеством некоторых из них.
Один из ведущих специалистов в области интертекстуальности, Рената Лахмани, предлагает различать также два аспекта этой проблемы: «(1) - диалогичность как всеобщее измерение текста, его... имманентную структуру и (2) диалогичность как особый способ построения смысла, как диалог с определенной чужой смысловой позицией, т.е. собственно интертекстуальность. В этом случае интертекстуаль-
ность ограничивается такими диалогическими отношениями, при которых один текст содержит конкретные и явные отсылки к отдельным предтекстам (группам текстов) и/или лежащим в их основе смысловым кодам» [Чернявская, 2000,14-15].
Подобного взгляда на феномен интертекста придерживаются и редакторы сборника «Интертекстуальность: формы, функции (на материале произведений английской литературы)», которых не удовлетворяет слишком расплывчатая трактовка понятия. Авторы сборника различают: 1) интертекстуальность как один из основополагающих принципов пскжлруктуралистской философии и 2) интертекстуальность как художественный приём [Intertexualitat, 1985]. Такое понимание проблемы интертекстуальности нам представляется наиболее объективным.
На наш взгляд, понятие интертекста, действительно, следовало бы истолковать двояко: 1) как особая философия («текстуализация» мира и восприятие каждой знаковой системы как текста, находящегося с другими текстами в состоянии интертекстуального общения); 2) как особый способ создания и прочтения текстов (со стороны автора, это приём текстопорождения, со стороны читателя - особый метод анализа, особый подход к прочтению текста, к его интерпретации).
Как особый метод анализа текста интертекстуальный анализ восходит к сравнительному литературоведению, однако отождествлять их (как это сделано, например, в работе В. А. Миловидова [Миловидов, 1998]), на наш взгляд, неправомерно, поскольку интертекстуальный анализ текста исходит из других целей и задач и предусматривает другие результаты. В то время как цель сравнительного литературоведения - найти следы (заимствования и влияния) одного текста в другом и на основе этого установить общие закономерности развития той или иной национальной литературы (в её обусловленности общественными процессами) на фоне литературы мировой (см. работы Жирмунского, Конрада, Неупокоевой и др.), цель интертекстуального анализа- исследование конкретных, находящихся в отношениях диалога, текстов, не предусматривающее разгоюров о типологии явлений, об их связи с общественными проблемами и с историческим процессом. Однако, учитывая этот факт, следует отметить, что в русском литературоведении ярко выражена тенденция синтеза приёмов интертекстуального анализа и приёмов сравнительного
литературоведения.
Интертекстуальность как философия текста
В данном разделе интертекстуальность рассматривается как одна из современных концепций видения мира, как одна из составляющих постструктуралистской философии (в одной парадигме с новым отношением к слову, к проблеме субъекта, к тексту, к истории). Уделяется особое внимание разграничению бахтин-ского понимания «текстового диалога» и «диалога текстов» Ю. Кристевой. Не будем углубляться в философскую проблему текстуализации мира, ограничившись лишь частичным освещением новой философии текста.
Новое отношение к литературе вообще и к литературно-художественному тексту в частности связано (это отмечают почти все исследователи философии и литературы XX в.) с изменениями в науке и культурном сознании второй половины XX века. Ю. Кристева в статье «Бахтин, слою, диалог и роман» пишет, что «эффективность научных методов в сфере гуманитарного знания всегда ставилась под сомнение» [Кристева, 2000, с. 427]. В подобных условиях назрела насущная необходимость пересмотра гуманитарной методологии вообще и методологии литературоведения в частности. Именно такие задачи (по-новому взглянуть на проблему языка и литературного текста) ставил перед собой постструктурализм.
Необходимо отметить, что еще в конце XIX - начале XX в. изменилось соотношения языка и реальности. Если раньше, в реалистической эстетической системе координат, литературное произведение было призвано к правдивому отображению реальности (и чем «правдивее» было отражение, тем выше была оценка), то теперь каждый художественный текст стал ценностью сам по себе, вне зависимости от того, как он соотносится с действительностью. Более того, сама способность литературы отражать реальность была поставлена под сомнение (впрочем, как и существование самой объективной реальности). Литературный текст был объявлен особым типом высказывания, реализующим не потенциал автора, но самое себя. Было заявлено, что текст отражает не реальность, а речевую деятельность конкретной культуры. Как пишет Р. Барт, «с того момента (1850 г.), как писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор формы: он принимает на себя обязательство, ангажируется, приемля, либо отвергая письмо, принадлежащее его прошлому. Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся литература - от Флобера до наших дней -превратилась в одну сплошную проблематику слова» [Барт, 2000,51].
Изменение соотношения «язык - реальность», «литературное произведение -реальность» повлекло за собой изменение соотношений «язык - история», «текст -история». «.. .У Бальзака, - пишет Р.Барт, - царит история, зрелище которой хотя и сурово, но зато отличается внутренней последовательностью; это само торжество упорядоченности; у Флобера же царит искусство, которое, дабы обмануть сюю собственную нечистую совесть, либо нарочно утрирует условные приемы литературного письма, либо же стремится к их безудержному разрушению» [Там же, 70].
Философия постструктурализма довольно критически относилась к истории. Согласно глубокому убеждению Ю. Кристевой, «вульгарному социологизму и вульгарному историзму здесь... нет места: знаковые системы не отражают социально-исторические структуры; у них - собственная история (курсив Ю. Кристевой - Г.В.), проходящая сквозь историю различных способов производства и откликающаяся на них со своего собственного места, где встречаются "формообразующие идеологии", "эпохи Сократа", средневекового карнавала... и капитализма...» [Кристева, 2000,465].
Наряду с особым отношением к истории, философы-филологи второй половины XX века имели особое отношение и к слову, которое приобрело в их работах особый статус. Слою, по мнению Ю. Кристевой, престает быть «точкой» (ему отказано в способности иметь постоянный «устойчивый смысл»), становится «местом пересечения текстовых плоскостей». Его рассматривают «как диалог различных видов письма, образованного нынешним или предшествующим культурным контекстом» [Кристева, 2000,428].
С новым отношением к слову связано, на наш взгляд, и появление теории интертекста. Так Ю. Кристева пишет: «Понять статус слова, значит понять способы сочленения этого слова (как семного комплекса) с другими словами предложения, а затем выявить те же самые функции (отношения) на уровне более крупных синтагматических единиц. В свете такой - пространственной - концепции поэтического функционирования языка необходимо, прежде всего, определить все три измерения текстового пространства, в которых происходит оперирование различными семны-ми комплексами и поэтическими синтагмами. Эти измерения таковы: субъект письма, получатель и внеположные им тексты (три инстанции, пребывающие в состоянии диалога). В этом случае статус слова определяется а) горизонтально (слово в тексте одновременно принадлежит и субъекту письма и его получателю) и б) вертикально (слою в тексте ориентировано по отношению к совокупности других литературных текстов - более ранних или современных)» (курсив Ю. Кристевой - Г. В.) [Кристева, 2000,429].
Литературный код и способы его реализации
Объясняя в своей книге «Отсутствующая структура» механизм действия любой знаковой системы, У. Эко называет кодом «некую систему ожиданий, действительную в знаковом универсуме» [Эко, 1998,30]. И действительно, код есть некий условный сигнал, несущий информацию. Чтобы его разгадать, необходим ключ. В случае с литературным кодом, ключом служит сумма знаний в области литературы и культуры, умение ориентироваться в их семиотическом пространстве. Всем этим должен обладать реципиент.
Как мы уже упоминали, главная задача интертекстуального анализа текста (выше см. об этом мнение Р. Барта) - это обнаружение тех форм и кодов, через которые идет возникновение текстовых смыслов. Что же имеется в виду под дефиницией «литературный код»? Представляя данное понятие, Р. Барт пишет: «Мы называем кодами.. .ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые навязывают представление об определенной структуре; код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры: коды - это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое письмо» [Барт, 1989, 455-456]. Ниже Барт отмечает, что «коды важны...как отправные точки «уже читанного», как трамплины интертекстуальности» [Там же, 459].
Отмечая интертекстуальную природу каждого текста, Г. Косиков также указывает на взаимосвязь проблемы интертекста и проблемы литературного кода. Он пишет, что «интертекстуальность надо понимать не как создание точечных цитат из различных авторов (центон или попурри есть не что иное, как банальный продукт ножниц и клея), но как пространство схождения всевозможных цитации (выделено Г. Косиковым - Г.В.). Конкретная цитата, реминисценция, аллюзия и т.п. - это частный случай цитации, эллиптический знак, симптом чужих языков, кодов и дискурсов, которые как бы в свернутом виде заключены в данном произведении и, будучи развернуты, позволяют реконструировать эти коды и дискурсы» [Косиков, 2000,36].
Таким образом, культурный код - квинтэссенция смысла того или иного культурно значимого текста, имеющая конкретную реализацию в структуре символов, образов, мотивов того или иного более позднего текста и оставляющая отпечаток в сознании реципиента. Поскольку код предполагает «наличие репертуара символов» [Эко, 1998,37], репрезентирующих его в том или ином семиотическом пространстве, в их роли часто выступают названные нами текстовые реализации приема интертекста (цитата, аллюзия и др.).
Еще одним репрезентом кода может являться литературный архетип (или ар-хетипический образ). По причине недостаточной терминологической устойчиюсти понятия «архетип» в современной науке (ср. слишком, на наш взгляд, широкое понимание архетипа в книге М.Н. Макеевой [Макеева, 2000, 81]), считаем необходимым несколько уточнить его литературоведческий аспект. Впервые появившись в трудах швейцарского психолога К. Юнга, термин архетип получил очень широкое распространение во многих областях гуманитарных наук. Под архетипом К. Юнг понимал основной элемент коллективного бессознательного (в одной из лекции по аналитической психологии архетип описывается как «определенное образование архаического характера, включающего равно как по форме, так и по содержанию мифологические мотивы» [Юнг, 1994, 53]), содержащий в себе наиболее полный и глубинный человеческий опыт, который «постигается и реализуется... в художественном творчестве посредством «первоначальных образов» или «архетипов» [Ильин, 1999, 184]. В статье «Цивилизация в пути» Юнг называет архетип «непредставимым бессознательным, пресуществующей формой, являющейся частью наследованной структуры психического бытия» [Юнг, 1994,123].
Как нами уже отмечалось, понятие архетипа прочно вошло в число базовых понятий многих наук - психологии, философии, филологии, культурологии и т. д. Так, М. Элиаде отмечает, что «в мире не происходит ничего нового, ибо все есть лишь повторение все тех же изначальных архетипов; это повторение, актуализируя мифический момент, в который было явлено архетипическое действие, бесконечно удерживает мир в одном и том же рассветном мгновении Начал» [Элиаде, 2000, 80]. Н. Фрай, оценивая литературное наследие цивилизации, считает, что «первобытные формулы», иначе «архетипы», постоянно встречаются в произведениях классиков, и, более того, «существует общая тенденция к воспроизведению этих формул» [Frye, 1957,17].
Однако в связи с тем, что «архетип» - термин из области психологии, а также с тем, что он обозначает явление, характеризующее феномен коллективного бессознательного, служащего лишь фундаментом для сознательного художественного творчества, употребление термина «архетип» для характеристики текстов культуры нам представляется не совсем корректным. Для анализа литературных текстов мы считаем более уместным термин «литературный архетип» или «архетипический образ», предложенный В. В. Зеленским в его словаре «Аналитическая психология». По мнению ученого, «архетипический образ» - конкретное проявление архетипа в конкретном человеческом сознании [Зеленский, 1996, 44], в культурном сознании человечества.
Квентин Компсон-Гамлет XX века
В данном разделе нашего исследования нам хотелось бы остановиться на том, как и с какой целью использует У. Фолкнер литературный архетип Гамлета в двух своих романах: «Авессалом, Авессалом!» и «Шум и ярость». 3.1.1 Квентин Компсон- Гамлет XXвека
Квентин Компсон является не только одним из четырех рассказчиков в романе «Шум и ярость». С ним связана, на наш взгляд, и центральная сюжетная линия романа «Авессалом, Авессалом!», в котором он также является одним из повествователей. История же Томаса Сатпена в данном романе - это только история, позволяющая глубже раскрыть трагедию Квентина. В том же ключе решает проблему Квентина и Э. Шонберг, которая пишет: «Sutpen s is not unquestionably primary story. It is at least as easy.. .to see the story of Quentin Compson in the foreground of Absalom, Absalom! And to hear in the book title Jason Richmond Compson s grief for his son Quentin. ... Quentin s working out the story of Sutpen s children in the novel is Faulkner s means of retelling Quentins story and explaining Quentin s suicide» [Schoenberg, 1977,4].
Действительно, в процессе чтения романа «Авессалом, Авессалом!» возникает масса вопросов: почему именно Квентину доверил Фолкнер быть рассказчиком в этом романе? Почему история Генри Сатпена, Джудит Сатпен и Чарлза Бона так похожа на треугольник Квентин - Кэдди - Долгой Эймс? Не потому ли, что образ Квентина очень важен для Фолкнера, важен как центральная фигура его творческого мира, выступающая, по словам Э. Шонберг, и под своим, и под чужим именем и фигурирующая во многих произведениях У. Фолкнера, даже если действие их имеет место после самоубийства Квентина. По утверждению исследовательницы, даже герои очерка «Миссисипи» (1954) и последнего романа Фолкнера «Грабители» (1962) (центральные герои этих произведений) смотрят на мир в равной мере глазами Квентина [Schoenberg, 1977,25].
Более того, именно рассказывая историю Сатпена, а точнее, знакомя читателей с особенностями взаимоотношений Генри, Джудит и Чарлза Бона, Фолкнер упоминает о Гамлете. Какова функция этой связи, для чего изображает ее писатель? Почему убивает Чарлза Бона Генри Сатпен? Нам представляется, что ответив на эти вопросы, мы сможем лучше понять Квентина Компсона, ведь именно ради него, своего современника, пытающегося распутать сложный клубок взаимоотношений героев, а не ради мифических фигур Сатпена и его детей, пишет свой роман У. Фолкнер.
Таким образом, нас будет интересовать, прежде всего, образ, объединяющий два указанных выше романа Фолкнера и одну из самых знаменитых шекспировских трагедий, а также те персонажи текстов Фолкнера, которые помогают раскрытию образа Квентина- фолкнеровского Гамлета XX века.
Кто же такой Квентин Компсон? В дополнении к роману, написанном как родословная семейства Компсонов, У. Фолкнер характеризует своего героя как того, кто «loved not his sister s body but some concept of Compson honor.. .Who loved not idea of the incest which he would not commit, but some Presbyterian concept of its eternal punishment... who loved death above all, who loved only death, loved and lived in a deliberate and almost perverted anticipation of death, as a lover loves...» [Faulkner, 1977, 709-710]. В беседе со студентами Виргинского университета Фолкнер говорит о нем как о человеке с «больным» зрением. Фолкнер пишет: «возможно, он вообще ничего ясно не видит..., по-прежнему вопрошает Бога: «Почему это случилось?» [Фолкнер, 1985,355-356]. А вот мнение автора о своем герое из письма к Малколь-му Каули от ноября 1944 года: «Он /Квентин - В.ГУ сожалел и горевал о гибели того порядка, распад которого у него не хватило мужества пережить» [Там же, 417].
Много раз пытались дать характеристику Квентину Компсону и критики. Так Г. Злобин, представляя его читателям журнала «Иностранная литература» (в предисловии к впервые опубликованному переводу романа «Шум и ярость»), пишет об этом герое Фолкнера так: «Старший сын Компсонов, Квентин, надежда семьи, посланный в Гарвард совестливый и рефлектирующий юноша, безуспешно пытающийся уберечь от посягательств любимую сестру, чья невинность - призрачный символ родовой чести» [Злобин, 1973, 123]. Э. Шонберг характеризует его как «отчаявшегося, потерявшего надежду юношу, противопоставленного собранию рассказов старых призраков» [Schoenberg, 1977,3].