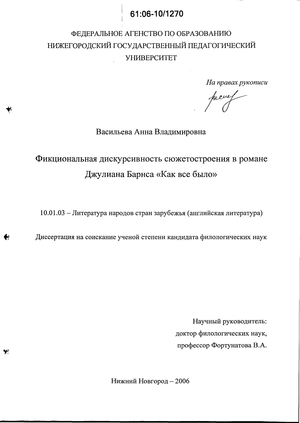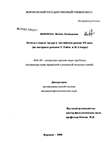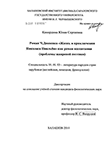Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Фикционализм как эмоционально-образная интерпретация действительности с. 14
1.1 Истоки, многоликость и эволюция фикционализма с. 15
1.2 Метафикциональность как основополагающая характеристика современной прозы с. 21
1.3 Игра как форма концептуального мышления с. 34
1.4 Семантическое поле фикциональной иронии с. 40
Глава вторая. Роман «Как все было» в ракурсе типологической модели реалистической прозы с.46
2.1 Полижанровость и основная сюжетная коллизия с. 49
2.2 Традиционные свойства молодёжной прозы с. 63
2.3 Полицентрические функции женского образа с. 91
2.4 Аксиологическая направленность пространственно-временного единства с. ПО
Глава третья. Постмодернистская концепция мира в романе «Как все было» с. 136
3.1 Словоцентризм как метажанровая категория с. 136
3.2 Интертекстуальность как пространство культурных формул с. 152
3.3 Взаимоактуализация и новый тип художественной диалектики с. 172
Заключение с. 193
Библиография
- Истоки, многоликость и эволюция фикционализма
- Полижанровость и основная сюжетная коллизия
- Словоцентризм как метажанровая категория
Введение к работе
В современный период развития англоязычной прозы особое место принадлежит Джулиану Барнсу (Julian Barnes, год рождения - 1946). Множество романов, принадлежащих перу писателя, завоевали признание публики и критики всего мира - произведения: «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того, как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1983), «История мира в 10 с Уг главах» («А History of the World in 10 Уг Chapters», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986), «Минотавр» («The Porcupine», 1992), «Через Ла-Манш» («Cross Chanel», 1995), «Англия, Англия» («England, England», 1998), «Любовь и так далее» («Love, etc», 2000), «In the Land of Pain» (2002), «Arthur and George» (2005), причем последний был номинирован на букеровскую премию в 2005 году. Многочисленные рассказы Джулиана Барнса хорошо знакомы англоязычному и русскоязычному читателю. Известность этого автора вызвана не только оригинальностью сюжетов, способностью писателя сочетать в своих произведениях прославленный иронический стиль английской литературы с новейшими приемами подачи материала, но и тем, что его произведения способствуют обогащению романной формы, выделяются сочетанием традиционализма и постмодернизма под «одной оболочкой», отличаются динамическим построением, своеобразной повествовательной структурой, выраженностью точки зрения и тона голоса рассказчика. Романная энергия Джулиана Барнса особенно концентрированно отразилась на страницах романа «Как все было» («Talking it Over», 1991).
В этом романе Джулиан Барнс утверждает идею невозможности существования неоспоримой истины. Но если в предыдущих своих произведениях: «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1984), «История мира в 10 с '/г главах»(«А History of the World in 10 Chapters», 1985) -писатель играет с мифом объективности истории, закрепленной в
4 письменном виде, то в романе «Как все было» во главу угла ставится уже не мировая история, а частная история жизни обыкновенных людей, на примере которой и демонстрируется предельная относительность объективной реальности. Причем каждый из героев уверен, что именно его интерпретация произошедшей с ними истории является истинной.
Творчество Барнса приходится на так называемую «переходную эпоху» -
,л последние десятилетия XX века. Это обстоятельство накладывает сильный
отпечаток на его художественный мир. В истории можно фиксировать устойчивые эпохи - с относительно регламентированным действием художественной фантазии, регламентированным художественным опытом и традициями прошлых поколений деятелей искусства и эпохи переходные - с максимально экспериментирующим творческим воображением.
Роман Джулиана Барнса «Как все было» представляет события,
происходившие в начале 80-х годов: интереснейшее время, ознаменовавшее
собой критический, переломный момент как в политических отношениях
между Западом и Востоком, так и в культурном развитии человеческой
цивилизации, когда относительно стабильный период культурного развития
Ч> сменился периодом неустойчивости, изменчивости, поиском новых форм
самовыражения художника.
В каждый подобный период пересмотра устоявшегося писательского
инструментария можно наблюдать прежде всего интенсивное генерирование
новых творческих приемов, способных выразить новое чувство жизни.
Именно этот момент, по мнению исследователя О. Кривцуна, является
временем, наиболее отображающим истинную сущность творческого акта:
«Свойства переходности отличают саму природу художнического сознания.
Истолкование процесса творчества как акта самопревышения позволяет
х увидеть в деятельности художника любой исторической эпохи умение выйти
за пределы себя, выйти за границы данного мира. В таком аспекте любой творческий акт по праву может быть оценен как приращение бытия, создание принципиально новой реальности, превышающей в своей выразительности
5 содержательность уже адаптированного мира. Переходность художнического сознания проявляется в желании заглянуть за границы уже освоенного, превзойти в каждом новом творческом жесте не только устоявшиеся матрицы и коды культуры, но и себя вчерашнего. Переходность сознания обнаруживается в усилии изобретать новый говорящий язык искусства, способный быть камертоном, выразителем важных состояний культуры, в том числе еще не вполне осознанных»1.
Подобные приметы переходного художественного сознания особенно дают о себе знать в последние десятилетия XX века. Стремление понять изменения, происходящие в важнейших ориентирах человека, нащупать главные точки концентрации его переживаний и рефлексий объясняет сегодня выраженную антропоцентрическую ориентацию всех гуманитарных наук. В этой связи искусствознание вновь и вновь обсуждает вопрос о предназначении, возможностях и роли художественного творчества в духовном бытии человека. Дискуссии по этой проблеме не прекращались с самого начала XX века. Революционные новации, противоречия, болезненные процессы в искусстве минувшего столетия только усилили желание понять смысл новейших тенденций художественного творчества, меру его участия в духовном самоопределении современного человека.
Изучение творчества самого Джулиана Барнса представляется актуальным в силу того, что Джулиан Барнс, воссоздавая сложную, критическую ситуацию в жизни отдельно взятых личностей, стремится изобразить современное общество во всем его многообразии, всей противоречивости мировосприятия, детерминированной потерей моральных и нравственных устоев. Внимание писателя сфокусировано на отдельно взятой личности, на трудности поисков самотождественности каждого из индивидов. Произведения писателя — это попытки определения путей человека к самому себе, к познанию человеческой сущности, естественной и
1 Кривцун, О.А. Художник XX века: поиски смысла творчества [Текст] / О.А. Кривцун // Журнал "Человек". -2002.-№2-3.
6 определяющей его социальную позицию по отношению к обществу и окружающему миру, это пути преодоления современного мира, построенного на ложных образах, представлениях, симулякрах и фикциях.
Своеобразная «презентация» этого автора русскоязычной публике состоялась в журнале «Иностранная литература», 2002, № 7, где в связи с публикацией романа «Как все было» состоялся круглый стол под характерным заголовком «Феномен Джулиана Барнса». Особое внимание исследователя творчества Барнса Екатерины Тарасовой привлекает знаменитая барнсовская ирония , возникающая в результате остранения в силу абстрагирования писателя от общепринятой интерпретации того или иного факта, что позволяет писателю представить привычное и давно уже получившее стереотипную трактовку в необычном свете. Исследователь отмечает, что и в романе «Попугай Флобера», и в произведении «История мира в 10 с 1Л главах» писатель, предлагая вариант, переводит существующую истину в разряд вымысла, поскольку «общепринятая интерпретация событий является в романе лишь одной из возможных версий, но... ни один из предложенных вариантов не становится приоритетным»3. Подобная повествовательная техника, по мнению исследователя, получает еще большее развитие на страницах романа «Как все было», где «Барнс предложил читателю еще большую свободу, вообще отказавшись от авторского слова и предоставив, таким образом, читателю и персонажам возможность общаться напрямую, без посредника»4, что побуждает читателя самого домысливать повествование, возможно даже создавать собственную версию описываемых событий. В качестве одной из причин возникновения подобной техники повествования Мария Табак в статье «Франция — моя вторая родина»5 указывает стремление писателя исследовать причины
Тарасова, Е. Хамелеон британской литературы [Текст] / Е. Тарасова // Иностранная литература. — 2002. — №7.-С. 267.
3 там же - С. 268.
4 Тарасова, Е. Хамелеон британской литературы [Текст] / Е. Тарасова // Иностранная литература. - 2002. -
№ 7. - С.268.
5 Табак, М. Франция - моя вторая родина [Текст] / М. Табак // Иностранная литература. - 2002. - № 7. -
С. 269-272.
7 возникновения штампов, в данном случае в определении французского национального характера, и создать опровержение подобных заблуждений. Дарья Бондарчук, продолжая тему исследования писателем проблемы англофранцузских отношений и взаимного восприятия этих двух наций, отмечает, что наилучший прием воссоздания портрета нации — это создание особого стереоскопического эффекта, возникающего в пространстве художественного текста посредством соотношения и сопоставления французской и английской точки зрения, что позволяет выявить «многочисленные грани культурно-исторических взаимосвязей Англии и Франции»6. Софья Фрумкина разбирает в своем исследовании повествовательную технологию реализации еще более глобального замысла писателя, осуществленного на страницах романа «История мира в 10 с '/2 главах» - «переосмысление традиционного подхода к историческому повествованию, когда ключевой проблемой становится именно вопрос «Как мы осознаем прошлое?» . Повествовательной основой каждой части в книге является какой-либо эпизод из истории западного мира, увиденный в определенном ракурсе, раскрывающий идею повторяемости ошибок, которые ведут человека к самым корням его, во времена Великого потопа. На страницах романа, по мнению исследователя, автор пытается продемонстрировать то, что «объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин»8, но при этом автору удается «создать в сознании читателя многообразную, но по своему завершенную картину действительности»9. Исследователь А.Гашиорек в работе, посвященной романам Джулиана Барнса «Попугай Флобера» и «История мира в 10 с ХА главах», отмечает метафикциональный характер текстов, отражающий «доверчивое отношение людей к познавательным
6 Бондарчук, Д. Через Ла-Манш и обратно [Текст] / Д. Бондарчук // Иностранная литература. - 2002. - № 7.
- С. 273.
7 Фрумкина, С. История, увиденная Барнсом [Текст] / С. Фрумкина // Иностранная литература. - 2002. -
№ 7. - с. 275.
8 там же - С. 276.
9 Фрумкина, С. История, увиденная Барнсом [Текст] / С. Фрумкина // Иностранная литература. - 2002. -
№7.-С. 277.
8 парадигмам и генерирование на базе подобных парадигм разнообразных вариантов знаний. Оба романа концентрируются на роли посредничества, не только анализируя альтернативные стратегии для чтения, интерпретации и описания прошлого, но и демонстрации того, как эти все стратегии создают параллельные, нередко несовместимые версии»10 (перевод А.В.).
Тема рецепции исторического прошлого в произведениях Барнса получила освещение в диссертационных исследованиях Я.Ю. Муратовой «Мифопоэтика в современном английском романе: Д. Барнс, А. Байетт, Д. Фаулз»11, 1999 и Е.В. Колодинской «Историческое прошлое как предмет высказывания: современная англоязычная проза и постмодернистская
историография: Г. Свифт, Дж. Барнс», 2004 .
Мария Горбачева в статье «Разные тропинки через лес» определяет роман «Как все было» очередной попыткой автора продемонстрировать «идею предельной относительности любой объективной реальности» , хотя в этом романе автор отказывается от глобальности, присущей предыдущему произведению, в пользу тривиальной камерной истории, которая в силу своей узнаваемости получает глобальное, общечеловеческое звучание. Свобода взаимообнаружения персонажей способствует более ясному обозначению авторского замысла продемонстрировать, что «никакой окончательной правды, единственной истины не существует; в нашей жизни, в мире, в истории все предельно субъективно и истин может быть столько, сколько версий нам представлено. Решающим становится не событийный ряд, но перспектива, в которой эти события воспринимаются»14. Полифония версий, представленных на страницах романа Джулиана Барнса «Как все было», вызвала разнообразные трактовки и самого сюжета произведения.
,0 Garsiorek, A. Postmodernism and the Problem of History: Julian Barnes [Text] I A. Gasiorek II Post-war British Fiction: Realism and Fiction IE. Arnold. - L.: Mackmillan, 1995. - P. 158.
11 Муратова, Я.Ю. Мифопоэтика в современном английском романе: Д. Барнс, А. Байетт, Д. Фаулз :
Автореф. дис.... канд. фнлол. наук [Текст] I Я.Ю. Муратова. - М., 1999 - 27 с.
12 Колодинская, Е. В. Историческое прошлое как предмет высказывания: современная англоязычная проза и
постмодернистская историография: Г. Свифт, Дж. Барнс : Автореф. дис. ... канд. филол. наук [Текст] /
Е.В.Колодинская. - М., 2004. - 24 с.
13 Горбачева, М. Разные тропинки через лес [Текст] / М. Гобачева // Иностранная литература. - 2002. - № 7.
-С. 278.
14 там же - С. 280.
9 Множество актуальных проблем, актуальных для современного общества, отраженных на страницах романа, и побудило в 2003 году английских кинематографистов создать фильм по мотивам романа «Как все было» и второй его части «Любовь и так далее», воссоздающий не только фабульную сторону романа, но и весь комплекс проблем человеческих взаимоотношений, функции семьи в современном обществе.
В целом же творчество Дж. Барнса в отечественном литературоведении исследовано недостаточно полно, а проблема фикционального дискурса не являлась ранее предметом серьезного научного исследования, что позволяет говорить об актуальности и новизне диссертационного исследования.
Метод писательского воздействия Джулиана Барнса на своего читателя требует особой методики анализа его произведений. Исследовательская модель романа «Как все было» построена нами с учетом несходства сознаний у разных индивидов и изменчивости событий в зависимости от ракурса интерпретации. Каждая точка зрения имеет свою структуру высказывания и позволяет рассмотреть фабулу, сюжет и характер как связующие структуры повествования, соединяющие события в тексте на горизонтальном, казуальном и вертикальном, ассоциативно-смысловом уровнях.
Методологической основой диссертационного анализа стала философская концепция Ганса Файхингера (1852 - 1933), получившая широкое распространение в XX веке под названием «фикционализм». Превращение догм в гипотезы, а затем в фикции стало глобальным процессом, затронувшим все сферы современного бытия. Позже в середине XX века основные положения концепции были усвоены философией деконструктивизма, что ознаменовало собой пришествие нового понимания не только человеческого познания, но и мировосприятия мира вообще, при котором возникает осознание относительности определенности центра познания, ориентирующего и организующего связность системы, допускающего свободную игру элементов внутри целостной формы. На данный момент осознание фиктивности, иллюзии пронизывает все уровни
10 человеческого существования, причем не только его культурный и общественный слои, но и интимную, личностную сферу жизни. Фиктивность, таким образом, становится неотъемлемой частью миропонимания и мировосприятия современного человека, что так точно улавливает и отображает Джулиан Барнс на страницах своих произведений, вот почему для исследования романа необходимо ввести понятие «фикциональный дискурс», способное передать особенность сознания нашего современника.
Для исследования важное значение имеет история эволюции понятия «фикциональность» в философии. Трудность при рассмотрении данного понятия объясняется тем, что в современной науке оно практически не изучается в связи с его соотнесенностью с художественным текстом в современном отечественном литературоведении15, поэтому мы в основном опираемся на исследования зарубежных авторов, активно использующих -применимость этой категории в своих рассуждениях. В силу того, что произведение по сути формально представляет собой три версии участников одних и тех же событий, противоречащих, опровергающих друг друга, представляется необходимым ввести понятие фикционального фискурса. Фикциональный дискурс — высказывание, несущее яркую окраску $ субъективности точки зрения говорящего. Здесь фикция и реальность образуют неразрывное единство. Роман Дж.Барнса оказывается одним из ярчайших примеров так называемой метафикциональной прозы, построенной на принципе неразличения фикции и реальности, на игре с понятием истинности.
Актуальность работы определяется интересом к произведениям Джулиана Барнса, проявляемым в равной степени как отечественными, так и зарубежными исследователями, а также широкой читательской аудиторией. Избранный аспект прочтения романа Джулиана Барнса «Как все было»
15 Амусин, М. Ваш роман вам принесет еще сюрпризы" (О специфике фантастического в "Мастере и Маргарите") [Текст] / М. Амусин // Вопросы литературы. - 2005. - №2. - С.63.; Амусин, М. Братья Стругацкие: очерк творчества [Текст] / Марк Амусин. - Иерусалим: Бесэдер, 1996. - 187 с.
11 позволяет продолжить исследования особенностей метафикциональной прозы.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что художественное творчество Джулиана Барнса недостаточно изучено в теоретических работах отечественных исследователей литературы, а также спецификой исследовательского ракурса — анализом особенностей произведения с точки зрения закономерностей фикционального дискурса.
Роман Джулиана Барнса рассматривается в совокупности как литературных, так и экстралитературных факторов, обусловивших возникновение особой повествовательной формы. Последнее обстоятельство способствовало проведению исследования на стыке таких наук, как философия, психология, социология, лингвистика, активного применения понятий соответствующих сфер знаний.
В ходе исследования была произведена попытка определения места произведения писателя в общем культурном фоне современной Англии, произведения, которое в равной степени является не только отражением современной действительности, но и выражением современных тенденций типологической модели реалистической прозы.
Предмет исследования - роман современного английского писателя Джулиана Барнса «Как все было» («Talking it Over», 1991).
Объект исследования - художественно-семантические свойства фикционального дискурса в романе Джулиана Барнса «Как все было» в аспекте сюжетостроения, создания характеров, своеобразия идей.
Цель диссертационного исследования: дать литературоведческий анализ фикционального дискурса в романе, раскрыть его функционально-эстетическую природу и семантический характер.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- проследить эволюцию понятия «фикциональность» в свете основных тенденций современной культуры и ввести понятия, необходимые для
12 анализа произведения в ракурсе фикциональности - фикциональный дискурс, игра, фикциональная ирония и др.;
- показать выразительность и многообразие проявлений фикционального
дискурса в тексте романа Джулиана Барнса «Как все было» на разных
уровнях: в сюжетостроении, в типологии характеров героев;
- выявить связь названных образований с историческим контекстом
эпохи, рассмотреть значение мотивирующего контекста в определении жанра ті
произведения Джулиана Барнса «Как все было»;
- исследовать специфику категорий художественного времени и
пространства в ходе развития сюжета, раскрытого посредством
фикционального дискурса;
- определить и охарактеризовать современную постмодернистскую
концепцию мира в романе «Как все было».
Методологической основой исследования стала совокупность ряда аналитических приемов и подходов:
- эволюционного подхода, рассматривающего явление фикционального
дискурса на разных этапах развития культуры;
Щ - функционального анализа, выявляющего основные функции
фикционального дискурса в произведении;
структурно-семантического направления, рассматривающего знаковую природу фикционального дискурса;
сравнительно-исторического подхода, способствующего проведению параллелей между изучаемым произведением и произведениями других эпох, построенными на основе устойчивых фабульных компонентов.
Теоретическая значимость работы заключается в дополнении литературоведческих методик, помогающих ориентироваться в произведениях современных авторов. Работа позволяет углубить существующие эстетические и литературоведческие знания о творчестве Дж.Барнса, а кроме того расширить представление о некоторых общих тенденциях современного культурного процесса.
13 Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы могут быть использованы при подготовке спецкурсов, спецсеминаров, положены в основу лекций по истории современной западной литературы.
Истоки, многоликость и эволюция фикционализма
Фикционализм представляет собой одну из современных версий субъективной философии, именно ту, «которая философским языком выражает сомнение в достоверности и объективно-детерминированной общезначимости духовных начал знания и культуры, предпочитая представлять их, особенно в таких формах, как наука, искусство, религия, этико-эстетические ценности жизни, порождением абсолютно свободного творческого акта человека» 7. При развитии этой предпосылки в поле суждений включались проблемы воли, жизненного усилия, творческого воображения, мира как средства утверждения индивидуального героизма и т.д. Таким образом, фикционализм оказывается генетически и структурно связан с тем явлением или фазой европейской культурной истории, которые известны под именем декаданса и модернизма.
Современное состояние философии было в известном смысле определено возникшей в начале XX века концепцией фикционализма. Фикционализм - идеалистическая философская концепция, считающая человеческое познание системой фикций, практически оправданных, но не имеющих теоретического значения18. Законченное выражение эта концепция получила у Ганса Файхингера, в его труде «Философия «Как-если-бы», ознаменовавшим собой возникновение нового воззрения, закрепившегося в истории под названием «фикционализм». Основными позиционными установками Г.Файхингера являлись установки о познании и мышлении как инструменте приспособления человека к действительности. Здесь прозвучала критика принципа объективности знания, причем знание понимается как продукт интеллектуального изобретения человека в процессе приспособления к жизни и решения практических задач выживания, в свете чего научная гипотеза трактуется как полуфикция. Соответственно культурный мир предстает как система фикций, таким образом, развитие культуры и знания трактуется как процесс создания полезных фикций и устранения бесполезных. Нельзя не заметить связь фикционализма Г.Файхингера с философией И. Канта, которая манифестируется даже терминологическим образом. Сам Файхингер называл свою точку зрения, или позицию, именно «философией Как-Если-Бы», используя термин кантовской гносеологии «als-ob»19.
Для Файхингера открытое им учение о фикциях представлялось как широкое основание для критического пересмотра и перетолкования всей конструкции культуры и создания нового понимания ее сущности. Публичное восприятие «философии фикционализма» отчасти соответствовало авторским ожиданиям: действительно, возникло довольно мощное движение по пересмотру теоретических оснований и концептуального каркаса основных фрагментов культуры: морали, религии, искусства, науки. Притязания новой программы распространялись вплоть до перестройки религиозных оснований культуры XX века, затрагивая вопросы воспитания и педагогики, медицины и психиатрии, искусства и морали, собственно науки.
Нередко Файхингера и его философскую теорию относят к второстепенным и, казалось бы, забытым явлениям философской жизни XX века. Однако выведенная немецким кантоведом теория в огромной степени, так или иначе, оказала огромное влияние на современное состояние как философии, так и культурологии и общей гуманитаристики.
Фикциональный бум продолжался до начала 30-х годов, после которых фикционализм покинул страницы философских изданий и был предан забвению. Ю.Солонин, Ю. Аркан видят причины этого в том, что фикционализм исчерпал свой эвристический потенциал, а его радикальная установка на понимание всего духовного и особенно интеллектуального состава культуры как совокупность фикций и условностей казалась лишенной продуктивной конструктивности.
И тем не менее, исчезнув как самостоятельное течение, фикционализм сохранился, растворившись в методологических программах близких ему по духу и принципам гносеологических учений. Философия, феноменология и многие другие науки переняли у фикционализма тенденцию философствовать и понимать мир, которая предполагает «универсальность и примат конструирующей способности продуктивного воображения» . На эту особенность обращают особое внимание, когда рассматривают вопрос о сущности культуры, все чаще интерпретируя ее онтологический статус как порожденный воображением мир опредмеченностей, как пространство развертывания смыслопродуцирующей силы интеллекта, в которой творчески самореализуется человек.
Полижанровость и основная сюжетная коллизия
Роман Барнса не обладает такой привычной для произведений, принадлежащих этому жанру, характеристикой как большой объем, хотя такие исследователи, как М. Бахтин, В. Шкловский, Г. Поспелов, склонны считать объем одной из характерных черт жанра.
«Литературные жанры, - как определяет В.Е. Хализев, - это группы произведений, выделяемые в рамках родов литературы. Каждый из них обладает определенным комплексом устойчивых свойств»56. Литературовед отмечает, что жанры с трудом поддаются систематизации и классификации (в отличие от родов литературы), упорно сопротивляются им. Прежде всего потому, что их очень много, жанры имеют разный исторический объем. Одни бытуют на протяжении всей истории словесного искусства (какова, например, вечно живая от Эзопа до СВ. Михалкова - басня); другие же соотнесены с определенными эпохами (такова, к примеру, литургическая драма в составе европейского средневековья), то есть жанры являются либо универсальными, либо исторически локальными. Кроме того, Ю.Н. Тынянов справедливо утверждал, что «жанр - понятие текучее»57, подразумевая способность жанров эволюционировать.
Рассмотрение жанров непредставимо без обращения к организации, структуре, форме литературных произведений. Об этом настойчиво говорили теоретики формальной школы. Так, Б.В. Томашевский назвал жанры специфическими «группировками приемов», которые сочетаемы друг с другом, обладают устойчивостью и зависят «от обстановки возникновения, назначения и условий восприятия произведений, от подражания старым произведениям и возникающей отсюда литературной традиции». Признаки жанра ученый характеризует как доминирующие в произведении и определяющие его организацию.
М. Бахтин характеризовал жанр романа как становящийся, «неготовый», объясняя эту особенность тем, что роман отображает современную действительность, «стихию незавершенного настоящего», «текущее и преходящее». Отсюда и многоязычие, и стилистическое разнообразие, господствующие в этом жанре60. Важнейшей чертой, характерной для романа, является, по мнению М. Бахтина, то, что: «... одной из основных внутренних тем романа является тема неадекватности герою его судьбы и положения»61, то есть собственно романное содержание заключается во внимании к судьбе одного или нескольких персонажей. Но уже в тот момент осознается невозможность однозначного отражения человеческой природы, что в современный период проявляется в метафикциональности жанра романа.
Жанр произведения Джулиана Барнса «Как все было» можно определить как роман, и не только потому, что его именно так определяет сам автор в одном из интервью , но и в силу того, что этот роман подобно классическому примеру жанра романа показывает «судьбы и внутренний мир героев в их многосторонних связях с внешним миром - обществом, средой. Роман воссоздает это все целостно в многосюжетном, многогеройном, подчас многоголосом (полифоническом) повествовании, в котором органично сочетаются различные органические пласты».
Английский критик М. Ричард Браун характеризует этот роман как «возвращение в девяностые, возвращение к реалистическому, искусно насыщенному документальными тенденциями, к стилю, характерному для общества современной любви: отсюда и откровенно капиталистические и коммерческие метафоры; и укрепление романтической привязанности в момент, когда разводы стали почти нормой; а так же такие фоновые детали действительности, как секс по телефону и СПИД»64 (перевод А.В.).
Роман «Как все было» отражает типовые кризисные моменты в истории современных людей: ломку человеческого сознания, стремление молодежи найти собственный путь в жизни, отыскать и определить идеалы, которые смогли бы помочь в самоопределении и жизненной самореализации представителей своего поколения. На страницах романа предстают 80-е годы, ознаменовавшие собой прекращение холодной войны и разрушение Берлинской стены, что символизировало собой не только новую веху в мировой политике, но и новый этап в мировой культуре, когда процессы мировой американизации и глобализации начинают набирать свою силу и определяют мировые культурные тенденции. В этот момент во всем мире возникает ощущение мозаичности, калейдоскопичности культуры, которая начинает развиваться уже на базе синтеза разнообразных тенденций, человеческого сознания, переполненного множеством образов, идей, представлений, создается многоликость представлений о добре и зле, но никак не догматическую иерархию ценностей. Роман Джулиана Барнса представляет читателю поколение молодых людей, взращенных в подобном хаосе, уставших от него и потому ищущих устойчивости и стабильности жизни. Совершенно не случайно подобные поиски оканчиваются счастливо для Джилиан и Оливера именно тогда, когда они находят любовь, поскольку только сила этого чувства, его ценность оказывается действительно неоспоримой.
В фокус внимания говорящих попадают такие проблемы, как взаимоотношения родителей и детей, комплексы, возникающие в детстве и преследующие человека уже в зрелом возрасте, проблема самореализации молодого человека в жизни, любовные взаимоотношения. Кроме того, поднимается проблема культурного нивелирования большинства молодых людей 80-х годов, их ориентация на американский образ жизни и множество других вопросов, не потерявших свою важность и по сей день. Естественно, что такой широкий диапазон тем требует особой формы, способной вместить в себя все эти сложные проблемы. Вот почему жанр данного произведения можно определить как синтетический жанр, включающий в себе элементы любовного романа, молодежного, психологического, а также интеллектуального романа.
Словоцентризм как метажанровая категория
Постмодернизм воспринимает литературное творчество как лингвистическую трансакцию, утверждая, что только через «речеизвержение», через лингвистические категории, с помощью «человека говорящего» можно придти к истине. Критикуя одного из мэтров постмодернистской философии Ж. Лакана, современный американский исследователь М. Саруп отмечает: «Он заявляет: «Именно мир слов создает мир вещей». Эта аксиома является фундаментальной для его мысли, поскольку она отдает приоритет языку перед социальной структурой»156.
Название романа «Talking it Over» не случайно в русском переводе звучит - «Как все было». Это роман-диспут, роман-дискуссия, роман-столкновение, хотя, в действительности собеседники не видят друг друга, они обращаются к читателю. Выражение «Talking it Over» в переводе с английского на русский звучит не иначе как: «горячо обсуждать, дискутировать», и в то же время его возможно перевести как «убеждать кого-либо в своей правоте». В совокупности всех этих смыслов это заглавие отражает не только сюжет книги, но и способ его преподнесения.
В данном романе, как и во многих других своих произведениях, Дж.Барнс утверждает идею невозможности существования неоспоримой истины. Но если в предыдущих своих произведениях, таких, как «Попугай Флобера» {Flaubert s Parrot 1984), «История мира в 10 с х/г главах»(Л History of the World in lOVi Chapters, 1985) писатель экспериментирует с понятием истории, играет с мифом объективности истории, закрепленной в письменном виде, то в романе «Как все было» во главу угла ставится уже не мировая история, а история из жизни обыкновенных людей, на примере которой и демонстрируется предельная относительность объективной реальности. Причем каждый из героев уверен: именно его интерпретация произошедшей с ними истории является истинной. Это обусловлено тем, что разность восприятия действительности предопределена разностью мировосприятия, психологических и, в конце концов, тендерных характеристик. Так, перед читателем предстает жизненная история, пережитая, осмысленная разными людьми, а потому и версии ее представляют уже демонстрацию разных систем ценностей, идей.
Необходимо отметить, что роман Барнса в свою очередь построен в форме триалога: одна версия одних и тех же событий сменяет другую, затем возникает третья, потому он и может быть определен многими критиками как «роман-пьеса», «роман-сценарий», «роман-ток-шоу» и даже «интерактивный роман»157. Сюжетная линия развивается достаточно медленно, поскольку повествование здесь — процесс поступания, выявления ситуации, процесс ее видения в силу того, что внимание сфокусировано отнюдь не на развитии действия, но на особенностях восприятия одних и тех же событий разными персонажами, оно сосредоточено не на внешней стороне событий, а на психологическом состоянии действующих лиц. Таким образом, разворачивается полифония не только образов, идей, но и различных настроений.
Перед читателем предстает, конечно, одна история, но показанная глазами совершенно разных людей: непосредственных участников событий и случайных наблюдателей, однако даже это множество версий неспособно составить целостную картину, поскольку уже сам эпиграф произведения заявляет о невозможности установить искомую истину: «Врет как очевидец», следовательно, попытки найти истину, изобразить произошедшее во всей полноте заканчивается лишь созданием пестрой, разноликой картины мнений.
Подобное понимание относительности истины вообще характерно для эстетики деконструктивизма. Последователи Дерриды предполагали, что каждая система, основанная на определенных мировоззренческих предпосылках, т. е., по деконструктивистским понятиям, на метафизике, якобы является исключительно «идеологической стратегией», «риторикой убеждения», направленной на читателя. Кроме того, утверждается, что эта риторика всегда претендует на то, чтобы быть основанной на целостной системе самоочевидных истин-аксиом. «Деконструкция, - пишет И.П. Ильин, - призвана не разрушить эти системы аксиом, специфичные для каждого исторического периода и зафиксированные в любом художественном тексте данной эпохи, но выявить внутреннюю противоречивость любых аксиоматических систем, понимаемую в языковом плане как столкновение различных «модусов обозначения» . Сопоставление различных точек зрения в этом произведении являет собой подобное столкновение различных иерархий ценностей, несущих различные аксиомы, таким образом, происходит разрушение истинности этих аксиом, поскольку каждой из них предлагается «альтернативная истина», а, следовательно, исчезает и возможность определения единственной трактовки происходящего.