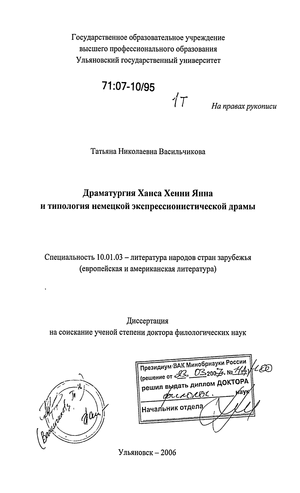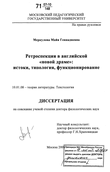Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Поэтика драмы немецкого экспрессионизма 45
1.1 Предтечи драматургии экспрессионизма. Формирование основ экспрессионистической поэтики в драматургии А. Стриндберга и Ф. Ведекинда 45
1.2 Становление экспрессионистической «драмы состояния»: «Нищий» («Bettler») Р.Й. Зорге, «Сын» («Der Sohn») В. Хазенклевера 60
1.3 Антипсихологизм и деперсонификация - ведущие принципы создания художественного образа в драме экспрессионизма 76
1.4 Протагонист и антагонист в драме экспрессионизма. Модель личности 83
1.5 Субстациональный характер конфликта в драме экспрессионизма 96
1.6 Модель мира в драме экспрессионизма: утопия и антиутопия 104
Глава 2. В поисках абсолюта и бессмертия: модель мироустройства и антропологическая концепция в экспрессионистической драматургии Х.Х. Янна первого периода творчества (1917-1929) 123
2.1. Ранняя юношеская драматургия Х.Х. Янна (до публикации пьесы «Пастор Эфраим Магнус» в 1919 году) 123
2.2 Художественная утопия. Поиски и обретение абсолютных величин: драма Х.Х. Янна «Пастор Эфраим Магнус» («Pastor Ephraim Magnus») 131
2.3 Генетическая утопия Х.Х. Янна: драма «Врач, его жена, его сын» («Der Arzt, sein Weib, sein Sohn») 146
2.4 Художественная реализация антропологической концепции Х.Х. Янна в экспрессионистических драмах. «Новый человек» -избранник и его варианты: демонологическая фигура, божественный мальчик, «возлюбленные близнецы» 160
2.5 Модель мира и человека в мифологической драме Х.Х. Янна «Медея» («Medea») 198
Глава 3. Драматургия Ханса Хенни Янна второго периода творчества (1929-1959 гг.). Проблема эволюции формы и содержания 228
3.1 Поиски новых форм театрального искусства 228
3.1.1 Приемы «эпического театра» в драме Х.Х. Янна «StraBenecke» («Перекресток») 228
3.1.2 «Тотальный театр» Ханса Хенни Янна: драма «Новый Любекский танец смерти» («Neuer Lubecker Totentanz») 249
3.2 Обретение гармонии бытия: драма Х.Х. Янна «Armut, Reichtum, Mensch und Tier» («Бедность, богатство, человек и зверь» 267
3.3 Театральный синтез музыки и слова в драме «Spur des dunklen Engels» («След темного ангела») 298
3.4 Апогей трагизма бытия: драмаХ.Х. Янна «Thomas Chatterton» («Томас Чаттертон») 332
3.5 Последняя экспрессионистическая антиутопия: драма Х.Х. Янна «Пыльная радуга» («Staubige Regenbogen») 361
Заключение 395
Библиографический список 404
- Предтечи драматургии экспрессионизма. Формирование основ экспрессионистической поэтики в драматургии А. Стриндберга и Ф. Ведекинда
- Ранняя юношеская драматургия Х.Х. Янна (до публикации пьесы «Пастор Эфраим Магнус» в 1919 году)
- Приемы «эпического театра» в драме Х.Х. Янна «StraBenecke» («Перекресток»)
Введение к работе
Литературное творчество каждого крупного писателя рождается на пересечении двух основных составляющих величин - его исторической эпохи и его творческой индивидуальности, иными словами, - его времени и его личности. Ханс Хенни Янн (1894-1959) - немецкий прозаик и драматург, эссеист, теоретик искусства, литературный критик, специалист в области музыки (реставратор старинных органов, владелец музыкального издательства Угри-но), известный культурный и общественный деятель, член Академии наук и литературы в Майнце, один из создателей и первый бессменный президент Гамбургской свободной Академии искусств, один из самых бескомпромиссных борцов за мир в послевоенной Германии, участник движения «Борьба против атомной смерти», лауреат литературных премий: имени Клейста, Нижней Саксонии, имени Лессинга, - подлежит этой общей истине. Начало эпохи, с которой связана творческая деятельность этой одаренной и весьма неординарной личности, получило определение «эпоха экспрессионизма», как и поколение, к которому генетически относится данный человек, часто называют «экспрессионистическим». Обозначение единым термином явления исторического (периода времени, эпохи), генетического (поколения) и художественного (литературного направления) - само по себе удивительно и совсем не обычно в истории мирового искусства. В истории немецкой литературы аналогию можно, пожалуй, провести только с романтизмом, когда единым термином определяется и эпоха, и поколение и направление в искусстве. Против такого сопоставления не возражали и сами участники движения экспрессионизма, при всей их программной установке на революционное ниспровержение всех авторитетов и отрыв от художественной традиции.
Исследователь, обратившийся к творчеству того или иного представителя литературного экспрессионизма, неизбежно оказывается перед проблемой обоснования таких ключевых теоретических понятий, как «искусство экспрессионизма», «литературный экспрессионизм», «проблема экспрессионизма». Различные варианты их дефиниции предпринималась еще «при жизни» экспрессионизма, с начала 20-х годов, продолжаются они вплоть до
5 последнего времени, то есть уже третьим и четвертым «постэкспрессионистическим» поколением. При этом суть вопроса со временем не проясняется, но усложняет, поскольку между исследователями не было и нет единства мнений. И хотя, как сказано в одной из последних работ, «теперь экспрессионизм изучен, осмыслен, классифицирован»1, - это совсем не означает, что различные точки зрения и споры помогли обрести об этом явлении объективное и исчерпывающе полное представление. Экспрессионизм, как и другие нереалистические направления в искусстве начала XX века, стал одним из пробных камней современного литературоведения как науки достаточно молодой, с еще не сложившимся окончательно понятийным аппаратом. «Проблема экспрессионизма» имеет как чисто литературный, так и литературоведческий аспект, поскольку речь идет об определении круга имен и произведений, с одной стороны, и дефиниции теоретического понятия «экспрессионизм», - с другой. О необходимости пересмотра и уточнения понятийного аппарата литературоведения как науки, совершенствования научного инструментария, с помощью которого можно вскрыть закономерности развития литературного процесса XX века, все более настойчиво говорится специалистами в области теории литературы. Эти идеи прозвучали во время Международной научной конференции «Сравнительное литературоведение» (Пятые Поспеловские чтения), посвященной 250-летию Московского государственного университета:
«Новая реальность ...требует методологического и теоретического инструментария, который позволил бы написать историю литературы, адекватную литературному процессу XX столетия»2.
Сегодня все чаще высказывается мысль о перспективности применения при изучении искусства нового времени такой понятийной категории, как «тип художественного сознания». С этой точки зрения экспрессионистическое «мироощущение» (Weltgefiihl), удивительно единое у всех представите-
1 Павлова НС. Экспрессионизм // Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. 2-е изд., испр. и дополн. М.: В. Ш.; Изд. Центр «Академия», 2000. С. 182.
Заманеная В. В. Контекстно-герменевтический метод: перспективы анализа литературного процесса и художественного произведения // Сравнительное литературоведение: теоретический и исторический аспекты: Материалы междунар. науч. конф. «Сравнительное литературоведение». Пятые Поспеловские чтения. М: МГУ, 2003. С.38.
лей этого искусства, по сути своей является особым типом художественного сознания, характерным для немецкой творческой интеллигенции рубежа веков и выразившим себя в различных видах искусства в этот период времени. Смыкаясь с общей категорией «экзистенциальное сознание», присущей сознанию творческой интеллигенции начиная от рубежа 19-20 столетий, оно может быть выражено в равной степени у писателей, которые могли и не входить в состав единого литературного направления или движения3. Преимущества категории «тип художественного сознания» по отношению к традиционным категориям «художественный метод», «литературный жанр», убедительно обоснованы в том же источнике, на который позволим себе вновь сослаться:
«Утверждая продуктивность категории «тип художественного сознания» для интерпретации литературного процесса XX века, назовем некоторые преимущества данной категории перед категорией художественного метода. Так, она соединяет концептуальные и формально-логические параметры в структуре художественного мышления; воссоздает цельность бытия как категории онтологической; каждый из типов художественного сознания структурирует себя в оригинальной поэтике; данная категория диалектична как категория метасодержательная; она преодолевает формально-логическую статичность и описательность художественного метода; она интегративна по своим возможностям органического соединения философских, культурологических и историко-литературных пластов в едином культурном пространстве эпохи; она наднациональна, надысторична; она переводит любое художественное явление в адекватную ему систему эстетических координат, универсальный контекстный подход позволяет найти ключ к нетрадиционному, сущностному прочтению известных явлений»4.
Введение категории «тип художественного сознания» сопряжено с таким процессом, как интеграция различных гуманитарных областей в единой
Проблема «экзистенциального сознания» находит наиболее полное на сегодняшний день освещение в отечественном литературоведении в книге В.В. Заманской «Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания». Екатеринбург, 1996. 4 Заманеная В В. Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург, 1996. С.39.
7 точке литературоведческого анализа художественного текста. Проблема интеграции литературоведения как науки с другими сферами гуманитарной деятельности затронута в работах многих современных отечественных ученых, становится все чаще предметом научных дискуссий. Как справедливо отмечает Е.А. Цурганова, вплоть до конца XIX - начала XX века изучение литературы велось преимущественно в аспекте изучения ее истории, однако в настоящее время литературное явление начинает освобождаться «от власти диахронного анализа». В той же работе важнейшей проблемой литературоведения XX века названо «стремление к сотрудничеству с другими гуманитарными дисциплинами - лингвисткой, семиотикой, психоанализом»5. Добавим к этому интегративному ряду философию, мифологию, историю культуры.
Плодотворность такого подхода, позволяющего создать комплексный инструментарий литературоведческого анализа и интерпретации художественного текста, доказывают последние отечественные работы по проблемам искусства авангарда. Среди наиболее интересных работ по интересующей нас проблеме назовем диссертацию Н.С. Сироткина «Поэзия русского и немецкого авангарда с точки зрения семиотики Ч.С. Пирса». Анализируя авангардистские тексты с точки зрения семиотики - как знаковую систему, исследователь приходит к выводу о самоценной значимости авангардного текста, не адекватной его смысловому содержанию, ему удается вскрыть глубинный смысл текста, существующего как форма самовыражения его создателя, адресованного воспринимающему субъекту. Текст предстает как «код» между создателем и читателем, посредством которого реализуется комплекс идей и представлений. Надсмысловое, «кодированное» значение присутствует и в экспрессионистическом тексте. Адресованный современникам, он остается в своей эпохе в виде своеобразного литературного памятника. Наследие же его - созданная в рамках этого текста новаторская поэтика - вошло в более поздний литературный процесс.
5 Цурганова ЕА. Новации зарубежного литературоведения в XX веке // Наука о литературе в XX веке (история, методология, литературный процесс). М.: РАН ИНИОН, 2001. С.86.
Целесообразность введения понятийной категории «тип художественного сознания» более всего необходима при осмыслении и дефиниции явлений современного искусства, начиная от рубежа XIX-XX веков. Множественность художественных явлений, их сложная взаимосвязь и взаимозависимость, проблема генезиса и преемственности - все это критические точки литературного процесса рубежа веков, составляющие трудность его изучения.
К решению «проблемы экспрессионизма» ведут, как нам представляется, два основных пути, и первый из них - преимущественное внимание к текстам произведений, их тщательное прочтение с целью выявления особенностей их формосодержания, идейного смысла, своеобразия поэтики. Движение отечественной исследовательской мысли именно в этом направлении было характерно для начала XX века, затем оно было надолго заслонено преимущественно идеологическим подходом к литературе. О законах соотнесенности отдельных элементов художественного произведения как единой системы сказано уже в 20-е годы в работах Ю. Тынянова, назвавшего это явление «конструктивной функцией»6.
Беря за основу исследовательской концепции понятие художественного текста как основного объекта литературоведческого анализа, мы полагаем возможным применить его к объекту данного исследования - драматургии Ханса Хенни Янна. Такой путь позволяет открыть в литературном произведении его самоценную значимость, что является залогом объективности оценочных суждений и выводов, сделанных на их основе. Вполне справедливо мнение В.Е. Хализева относительно плодотворности такого подхода для общего развития литературоведения как науки:
«Перенесение акцента с внелитературных факторов творчества на сами словесно-художественные творения побудило ученых к уяснению состава и структуры произведений, к интенсивной разработке теоретической поэтики, а также к раздумьям методологического характера - о путях постижения произведений в их сложности и глубине»7.
6 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.272.
7 Хализев В.Е. О составе литературоведения и специфике его методологии // Наука о лите
ратуре в XX веке (История, методология, литературный процесс). М.: РАН ИНИОН, 2001.
СЮ.
Вторым путем к постижению феномена литературного экспрессионизма нам представляется обращение к его теоретической программе, представленной многочисленными программами и манифестами, теоретическими статьями, работами по эстетике и социологии как самих адептов экспрессионистического движения, так и близких к нему по духу и умонастроению современников. Введение в понятийный аппарат литературоведческого анализа понятия «тип художественного сознания» позволяет увидеть в экспрессионистическом «мироощущении» одну из главных духовных доминант, определивших особенности поэтики экспрессионистических текстов, показывающих мир в стадии начавшегося разрушения, утраты константности форм и стабильности понятий.
История изучения экспрессионизма начинается с 20-х годов прошлого века и далеко не завершена к сегодняшнему моменту. Время, затраченное на решение «проблемы экспрессионизма», уже давно превысило то экспрессионистическое десятилетие, которое ее породило.
Дефиниция самого понятия «экспрессионизм» по сей день не отличается четкостью. Как справедливо отмечается в одной из последних работ по экспрессионизму - «Лирика экспрессионизма» Н.В. Пестовой, даже круг имен, входящих в состав этого явления, не определен четко. В области драматургии, в отличие от лирики, существует большая определенность. Круг драматургов-экспрессионистов установлен. В немецком и в отечественном литературоведении практически в этом вопросе нет разногласий. В немецком литературоведении параметры и границы литературы экспрессионизма, и драматургии как ее составляющей, определены в работах такого авторитетного исследователя, как Пауль Раабе. В отечественном экспрессионизмове-дении круг драматургов этого направления достаточно четко очерчен в академической «Истории немецкой литературы». Практически без изменений он дается и в других отечественных источниках, например, в статье Л. Копелева «Драматургия экспрессионизма». Гораздо труднее определить те единые принципы, которые дают основание вписать каждое отдельное имя в общий «реестр» драматургов немецкого экспрессионизма. Помочь в решении этой проблемы могут сами представители литературного экспрессионизма, выра-
10 зившие свою волю, комплекс своих представлений и свод взятых на себя обязательств в манифестах, программах, теоретических статьях, переписке, газетных и журнальных публикациях.
Пожалуй, единственным бесспорным фактом в истории литературного экспрессионизма и истории его осмысления и изучения является наличие теоретической основы и литературных произведений, на этой основе созданных. С позиций сегодняшнего дня, когда со времен так называемого «экспрессионистического десятилетия» (1914-1924) миновало почти столетие, можно употребить при их рассмотрении и термин «литературные памятники».
Понятие «экспрессионистическое мироощущение» пришло из самого времени, его породившего. Лучше всего оно определено Германом Баром, литератором и литературоведом, входившим в Венский кружок экспрессионистов: «Der Mensch ist entseelt, die Natur entmenscht» («Человек обездушен, природа обесчеловечена»)8.
Мир в стадии начавшегося распада, утраты константности, в период «разлома веков», «смены вех» порождает трагический, катастрофический тип мироощущения. В области искусства это имеет следствием особую поэтику, основанную на деконструкции форм, призрачности реального мира, в то время как классическая эстетика основана на принципе кристаллизации прекрасного, гармонии и устойчивом равновесии форм. Энтропирующий мир в различных стадиях распада, деконструкции форм - это, собственно, типологический признак всех авангардных художественных явлений, в этом отношении родственных экспрессионизму. О начавшемся распаде формы как признаке современного искусства Запада достаточно сказано уже в 20-е годы.
Подобное ощущение мира присуще творческой интеллигенции рубежа веков и находит выражение в художественных текстах этого периода не только в Германии. Этим трагическим ощущением пронизана, например, повесть И. Бунина «Деревня» (1910) где вещность, предметность и осязаемость реального мира сопровождается тем не менее нарушением причинно-следственной логики их взаимного сосуществования (мухи ранней весной, которых быть еще не может. Гремящая оперная музыка в день похорон).
8 BahrH. Expressionismus. Munchen: Delphim-Verlag, 1920. S.110.
Но в драме экспрессионизма утрачивается и реальная осязаемость мира, который призрачен, дан в субъективном восприятии героя. Экспрессионистическое мироощущение оказалось своего рода дрожжевым ферментом, который может быть внесен в иную среду и породить сходного типа текст. Доказательством может послужить такое явление, как «русский экспрессионизм». Термин был предложен в июле 1919 года Ипполитом Соловьевым в качестве названия возникшей к этому времени литературной группы (группа «Московский Парнас» (1922) и группа «эмоционалистов» (1922-25). Объединяло членов группы, как и немецких экспрессионистов, прежде всего единое и сходное с последними мироощущение. Как отмечал Б. Арватов еще в 1922 году, в России экспрессионизм развивался как часть общеевропейского процесса разрушения основ позитивизма, «как форма культурной системы, претендующей на свое особое и самостоятельное, всеохватывающее мировоззрение»9 (курсив наш. - Т.В.).
«Экспрессионистическое мироощущение» определяет духовную атмосферу произведений этого литературного направления, что дает основание увидеть в немецкой драме экспрессионизма своего рода единый «коллективный текст», созданный писателями одного литературного направления. Основанная на таком едином мировидении драма экспрессионизма достаточно единообразна как по своей структуре, так и по комплексу выраженных в ней идей. Но мир в стадии начавшегося разрушения - только одна сторона ми-ровидения экспрессионистов, другая связана с планами и программами его спасения. Стержнем рушащегося мира в драматургии экспрессионизма является ее протагонист, «новый человек», фигура которого создана по единым заданным параметрам. Именно он выступает как создатель и носитель нового культурного кода - норм понятийных, языковых, с помощью которых возможно воссоздание единства, «братства» людей. Новый код - новый язык общения должен создать новый мир, отсюда особая резкая речевая выразительность, доведенная до градации «крика» (что породило определение «драма крика»). С этим часто связан шокирующий характер поведения протагониста, который стремится прорвать пелену обыденности, добраться до
9 Арватов Б Экспрессионизм как социальное явление // Книга и революция. 1922. №4. С.27.
12 сердца мира и человечества, прибегая для этого и к экстремальным формам воздействия. Такого идейного стержня не будет в драме абсурда, где причинно-следственные связи нарушены полностью, характеры отменены, нет никаких иллюзий относительно возможности вернуть равновесие жизни.
Расширительное употребление термина «экспрессионизм» является свидетельством того, что ожидания, с ним связанные, были чрезвычайно высоки и касались не только сферы искусства. Экспрессионизм претендовал на революцию в сфере духа, духовное возрождение современного общества и шире - человечества - в целом. Возможно, именно это сбирает под единое духовное знамя такое значительное число столь различных творческих индивидуальностей. Среди них одно из самых заметных мест принадлежит Хансу Хенни Янну. Путь к его пониманию как личности и как художника неизбежно проходит через экспрессионистическую эпоху. Понять и объективно оценить драматургию и театр Ханса Хенни Янна можно только в контексте театра и драмы экспрессионизма. Исходя их этого, мы стремились в данной работе рассмотреть его драматургическое творчество в контексте эпохи экспрессионизма.
Стратегия и тактика решения «проблемы экспрессионизма» в русской германистике - своего рода барометр колебаний как литературоведческих позиций, так и идеологического климата в отечественном социуме. Проблема возникает еще «при жизни» литературного экспрессионизма, в начале 20-х годов и связана с вопросами осмысления, дефиниции и оценки данного художественного феномена. Не случайно так и называет свою статью, вошедшую в сборник «Экспрессионизм» 1966 года, Г. Недошивин10. Если вопрос о том, был ли на русской почве «в чистом виде» литературный экспрессионизм, остается предметом дискуссий, то факт существования в отечественной критике «проблемы экспрессионизма» совершенно очевиден.
В истории изучения немецкого экспрессионизма в России можно выделить четыре основных момента: 20-е годы, когда началось активное и очень плодотворное осмысление нового явления в искусстве; 40-50-е годы, характеризующиеся спадом, затуханием интереса к нему; 60-е годы, когда начинается
10 Недошивин Г. Проблема экспрессионизма // Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство / Под ред. Б. Зингермана и др. М.: Наука, 1966.
13 первая волна экспрессионистического «ренессанса» как в немецком, так и в отечественном литературоведении; конец 90-х годов XX века по настоящий момент времени, когда началась вторая его волна.
В 20-е годы появляются как оригинальные, так и переведенные с немецкого языка работы, посвященные проблемам искусства экспрессионизма. Удивляет динамичность переводческих откликов, зачастую следующих за появлением оригинала, что, бесспорно, говорит как об интересе к экспрессионизму, так и о «дозволенности» его проявления. Так, уже в 1921 году, вслед за событием, в четвертом номере журнала «Культура театра» опубликован отчет о судебном процессе над Георгом Кайзером. Помимо отчета, дается высокая оценка Г. Кайзера как одного из самых оригинальных и блестящих театральных деятелей, ведущего драматурга-экспрессиониста. Другими примерами могут послужить переводы: отрывка из книги Макса Фрей-хана «Драма современности» (Max Freyhan «Das Drama der Gegenwart», 1922), появившийся в 1923 году; статьи Ивана Голля «Современный германский театр», 1924 года; книг Оскара Вальцеля «Импрессионизм и экспрессионизм» (1922) и Германа Бара «Экспрессионизм» (1920)11. История изучения экспрессионизма в 20-е годы связана с именем Наркома просвещения А.В. Луначарского. По его инициативе в 1923 году выпущен сборник переве-денных пьес Георга Кайзера . Этот факт вызвал поток статей и рецензий. Авторы их - в большинстве своем известные театральные и литературные критики: П. Марков, А. Гвоздев, В. Нейштадт13. Появляется и положитель-
11 Фрейхан Макс. Георг Кайзер // Западные сборники. Вып.1. Новая Москва, 1923. С.214-218; Голль Иван. Современный германский театр // Жизнь искусства. 1924. №18. С.9-14; Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии (1890-1920). Пг.: Academia, 1922; Бар Г. Экспрессионизм.
Кайзер Г. Драмы. М.-Пг.: Гос. изд., 1923. 298 с. Предисловие к сборнику (статья «Георг Кайзер») вошла в собрание сочинений А.В. Луначарского. См.: Луначарский А.В Собр. соч.: В 8 т. Т.5. М., 1965. С.408-426.
13 Марков П. Современная экспрессионистическая драма в Германии // Искусство. 1923. №1. С.373-391; Марков П. Георг Кайзер // О театре. Дневник театрального критика. М.: Искусство, 1976. Т.2 (Впервые: Марков П. Георг Кайзер // Театр и музыка. 1923. №10); Гвоздев А. Экспрессионисты на русской сцене // Жизнь искусства. 1924. №10; Гиммель-фарб Б. Вступительная статья // Кайзер Г. Коралл. Харьков: Гос. изд. Украины, 1923; Нейштадт В. Традиции экспрессионизма // Чужая лира. М.-Пг.: Круг, 1923. С.121-133; Крыоюицкии Г. Идеологические искания современного немецкого театра // Современный Запад, 1924. №2(6); Запровская А. Новое об экспрессионизме в Германии // Литература и марксизм. 1928. Кн.4.
14 ный отзыв М. Эйхенгольца на вступительную статью А.В.Луначарского к сборнику («Георг Кайзер») в шестом номере журнала «Печать и революция» за 1923 год. Показательно, что в том же 1923 году в Харькове издается в переводе И.А. Рубашевой пьеса Г. Кайзера «Коралл» (первая часть «Газ-трилогии»), с предисловием Б. Гиммельфарба, где дается оценка экспрессионизма с точки зрения его новаторства в области поэтики. Экспрессионизм представлен как эстетическая реакция на искусство реализма, поскольку он дематериализует среду, уничтожает иллюзию реальности, не выявляет характер и не создает тип. Выявление и исследование фундаментальных положений поэтики экспрессионизма - один из самых эффективных путей к постижению его как литературно-эстетического феномена. К сожалению, в дальнейшем этот путь не находит полного развития и логического завершения.
Привлекает общий характер статей 20-х годов: доброжелательно-заинтересованный, исследовательский; пока еще в них нет удручающего тона общественного обвинения, свойственного критике 30-х годов. Своеобразным итогом стал выход сборника статей «Экспрессионизм» в 1923 году; сам факт его появления подтвердил значимость экспрессионизма как крупного явления в искусстве. В сборник вошли как работы отечественных авторов, так и переведенные с немецкого статьи адептов движения и его непосредственных участников14. Объективно-доброжелательный тон публикаций сохраняется до конца 20-х годов, но уже с 1928 года начинает изменяться. Примером может послужить статья А. Запровской «Новое об экспрессионизме в Германии», опубликованная в «партийной печати», дающая обзор немецких критических работ по проблеме. Преимущественное внимание уделено книгам Ф. Шнейдера «Экспрессивный человек и немецкая поэзия современности» (F. Schneider «Der expressive Mensch und die deutsche Dichtung der Gegenwart») и П. Утица «Преодоление экспрессионизма» (P. Utitz «Die Uberwindung des Expressionismus»), Негативная оценочная позиция выражена очень отчетливо - экспрессионизм, как и импрессионизм, отнесены к явлениям «упадка в искусстве». Этот аспект и
14 Экспрессионизм: Сб. статей / Под ред. Е. Браудо, Н. Радлова. Пг.-М.: Всемирная лит., 1923. 232 с. Как сказано в предисловии: «...в сборник входят статьи наиболее выдающихся представителей и теоретиков экспрессионизма». В их числе: статьи Ф.-М. Гюбнера «Экспрессионизм в Германии», Макса Крелля «О новой прозе» и др.
15 начинает превалировать в дальнейшем. Рассматривая буржуазный строй как явление общественного регресса, критики идеологического направления переносят зеркально эту концепцию и на современное искусство.
Экспрессионизм тем самым, в составе других нереалистических направлений (кубизм, футуризм, дадаизм), расценивается как своего рода болезнь «левизны» в искусстве. Традиция подобной социологизации явлений западного искусства была заложена задолго до этого статьей A.M. Горького «Поль Верлен и декаденты». Канонизация же принципов партийно-идеологической критики произведена в статье В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905). Такой социологической тенденцией отмечена, например, статья о Вальтере Хазенклевере в Большой советской энциклопедии, хотя сам факт включения имени одного из ведущих экспрессионистов в такое солидное издание знаменателен15. Статья дает типичный для критики 30-х годов пример подмены понятий: к экспрессионизму (явлению искусства) прилагается критерий поступательной социальной эволюции (критерий общественного развития), которому данное искусство, по вполне справедливому мнению автора (А.В. Луначарский), не соответствует,
Было бы напрасно ожидать, что как в 30-годы, так и в последующие два десятилетия, кто-то осмелится подвергнуть открытому сомнению правомерность применения подобных оценочных критериев.
Пример свободных от идеологической заданности критических оценок «нового искусства» дают статьи Ю. Тынянова начала 20-х годов16. Они были опубликованы под псевдонимом Ван-Везен в 1921-22 годах, то есть еще «до» и «помимо» того негласного разрешения, каким явилась статья А.В. Луначарского «Георг Кайзер. В этих работах впервые определен генезис современных явлений в западном искусстве, выявлены основные линии преемственности, фундаментальные принципы поэтики. Статьи Ю. Тынянова - образец вполне независимой и объективной критики, какой она и должна быть. Критик рассматривает новые течения в литературе, в том числе экспрессионизм, в связи с общей проблемой эволюционного развития художественных
15 Луначарский А.В. Вальтер Хазенклевер // БСЭ. 1924. Т.Н.
16 Тынянов Ю. Записки о западной литературе // Книжный угол. 1921. №7. С.31-36; 1922.
№8. С.41-47.
форм в искусстве. Такой взгляд был традиционен для членов ОПОЯЗА, в состав которых он входил. С этой позиции экспрессионизм - закономерная эволюционная форма в искусстве, отрицающая предшествующую традицию в лице импрессионизма. В потоке статей «по поводу» экспрессионизма эти работы Ю. Тынянова выгодно выделяются тем, что говорят о его эстетической сути и значении - новаторской поэтике:
«Человек берется как сущность, вне изменчивой психологии, вне переживаний, вне быта. Поэтому все «Nebesachliche» отпадает. Декорации и быт отменяются. В произведении соблюдается одна суровая основная линия. Искусство становится упрощенным и укороченным. Описание изгоняется из поэзии и прозы. Слово становится коротким. Предложение становится коротким - изгоняются словечки и слова, заполняющие его, распространяющие. Ритм, мелодия лишаются украшений, сосредоточиваются, сжимаются. Эпитет стремительно сливается с определяемым».
Роль и значение экспрессионизма в общем процессе художественной преемственности Ю. Тынянов определяет очень четко: «Знак примитива стоит над европейским искусством. Линия красивой традиции прервана»17.
Сходная точка зрения на генезис и поэтику искусства экспрессионизма выражена в статье А. Белого (Бугаев) «Европа и Россия», написанной им по возвращении из Европы в Россию, хотя отношение к экспрессионизму в ней более ироничное. Разрушение иллюзии правдоподобия и стремление к упрощению - важнейшие черты поэтики нового искусства:
«Часами я простаивал перед памятниками негритянской культуры; она веет чем-то слишком знакомым; в конце концов это тот же экспрессионизм. Какой стиль господствовал в последних десятилетиях среди утонченников буржуазной Европы? Стиль разложения реальности этой Европы; действительность на ее полотнах, в стихах, на орнаменте стала плавиться и разлагаться; все твердые формы рассыпались; сперва они приобрели текучее состояние (импрессионизм, нео-импрессионизм); потом стали диссоциироваться (футуризм, дадаизм); сквозь диссоциируемую действительность новой «заумной» дадаистической Европы отчетливо проступила ужаснейшая гри-
17 Тынянов Ю. Записки о западной литературе // Книжный угол. 1921. №7. С.35.
17 маса негритянского фетиша, объявленного утонченнейшей формой искусства, и объяснилось давнее устремление культуртрегеров европейских к темному «востоку», к «югу», к варварскому «Дионису» Ницше»18.
Таким образом, уже в 20-е годы поставлены проблемы поэтики, исторической преемственности, художественной традиции и новаторства литературы экспрессионизма в целом и драматургии в частности, но полного и логически последовательного разрешения этих проблем не последовало; во многом этому препятствовали «идеологические очки». Идеологизированная критика мешает пониманию и объективной оценке явлений искусства, губительна как для искусства, так и для его изучения. Логическим финалом этого пути может быть уничтожение произведений, не соответствующих заданным критериям. Но прежде им должен быть вынесен приговор. В отношении экспрессионизма это делает печально известная статья Георга Лукача «Величие и падение экспрессионизма» («Grosse und Verfall» des Expressionismus») (1934)19.
Классическим образцом идеологически заданной критики служит оценка Георга Лукача, выраженная в данной статье. Существует две ее версии - на немецком и на русском языках, соответственно, негативная оценка принята «и с того и с другого берега»; учитывая историческое время, понятно, что экспрессионизм получает двойной удар. В Германии он включен в понятие «дегенеративное искусство», произведения писателей сжигаются во время показательного аутодафе 10 марта 1933 года на Опернплатц в Берлине, картины исключаются из числа экспонатов немецких музеев. В Советском Союзе вплоть до 60-х годов экспрессионизм воспринимается со знаком отрицания как явление враждебной идеологии. Вполне понятно, что Г. Лукач, известный литературный критик, живший в Москве в эмиграции во время войны, выполняет в этом случае «социальный заказ», что объясняет причину появления разгромной статьи, но не снимает личной ответственности с автора, сознательно «уничтожающего» культурное явление, подлинную ценность которого он не может не понимать. Факт тем более прискорбный, что Г. Лукач,
18 Белый А. Европа и Россия //Звезда. 1924. №3. С.53-54.
19 Lukacs Georg Grosse und Verfall des Expressionismus II Internationalliteratur. Deutsche Blat
ter. 1931. №3. S.255-273. Русский перевод: Лукач Г. Величие и падение экспрессионизма //
Литературный критик. 1933. №2. С.36-53.
18 при том высоком уровне знакомства с историей и теорией научной проблемы, который он обнаруживает даже в такой крайне социологизированной статье, мог бы как никто другой уже в это время внести немалый вклад в решение «проблемы экспрессионизм».
Критик обнаруживает и знакомство с теоретическими основами экспрессионизма, называя его духовным отцом прежде всего Вильгельма Воррингера. Речь его в октябре 1920 года по поводу экспрессионизма критик называет «надгробной»: «Речь идет о крахе попытки идейно и художественно овладеть «но-вой действительностью» . «Надгробной», используя авторскую терминологию, хочется назвать данную статью, где экспрессионизм подвергнут суду как «классовый враг», «капитулировавший перед белым террором буржуазии», «идеологически близкий к теории насилия НСП», - и признан виновным.
Принадлежность к направлению марксистской критики подчеркивается автором в эпиграфе к статье, взятом из «Философских тетрадей» В.И. Ленина. Размышления В.И. Ленина о видимости и сущности вещей с выводом о первичности материального стали идеологически базой критика в его оценке литературного экспрессионизма. Логика рассуждений Лукача следующая: поскольку обещанная этим искусством и его адептом и теоретиком Вильгельмом Воррингером революция не произошла, то данное явление приравнивается к идеологически враждебным:
«Экспрессионизм - крах попытки идейно и художественно овладеть «новой действительностью», «шаг назад по сравнению с натурализмом», «антибуржуазность экспрессионистов богемного характера», «мировоззренческие установки экспрессионизма того же субьективно-идеалистического
характера, что и у официальной философии империализма» .
Лукач делает необоснованный вывод о близости экспрессионизма в целом к идеологии национал-социализма только на основе единственного при-мера - драматурга Ганса Иоста. Подобная оценка в 30-е годы равнозначна приговору, вред ее очевиден, как и необъективность. Как явление враждебной
20 Lukacs Georg Grosse und Verfall des Expressionismus II Internationalliteratur. Deutsche Blat
ter. 1931. №3. S.255-273. Русский перевод: Лукач Г. Величие и падение экспрессионизма //
Литературный критик. 1933. №2. С.36-53..
21 Там же. С.38-39.
19 идеологии, экспрессионизм после этой статьи подвергается долгое время остракизму. Если в 20-е годы театральные журналы пестрят заметками и статьями, касающимися этого явления, то в 30-40-е наступает молчание. Следует сказать, что своей статьей Георг Лукач наносит ущерб и своей репутации талантливого и образованного критика. Не была внимательно прочитана и объективно оценена в первую очередь сама данная статья, из нее только выхвачен и вознесен лозунг об идеологической враждебности экспрессионизма. Как только критику начинает изменять тон общественного обвинителя, ему удается сделать ценные замечания по поводу философских основ экспрессионизма как художественного явления в целом и наметить ряд типологических признаков драмы экспрессионизма в частности. Так, именно Лукач называет духовным отцом экспрессионизма Вильгельма Воррингера, с его работами по эстетике, основанными на философии интуитивизма. Будет сказано и об «активности творческого субъекта», и методе «схватывания сущностей», об отказе от причинно-логической обусловленности. Нельзя не согласиться с замечанием критика, что экспрессионизм понимался его сторонниками гораздо шире, чем явление художественного порядка. Задолго до современных исследований по проблемам искусства авангарда, Лукач высказывает догадку, что в художественный текст его создатель-экспрессионист переносит сам процесс создания новой реальности, то есть средствами духовными пытается создать новые миры. Критик пишет:
«Поворот, который стремился совершить экспрессионизм, заключался в том, что самый творческий процесс, существовавший в воображении писателя, переносился на структуру произведения, которое должно изображать либо созданную творческим субъектом действительность как таковую, либо самый процесс создания действительности»22.
Налицо подмена понятий, очевидное противоречие между взятыми на себя представителями искусства экспрессионизма обязательствами и требованиями критика к их выполнению: обещанная экспрессионизмом революция в сфере духа, собственно, и была совершена в сфере духовной - на уровне
Лукач Г. Величие и падение экспрессионизма... С.51.
20 создания словесного художественного текста, новаторского по своей сути и революционно ломающего классическую традицию.
Статьей Г. Лукача тон обвинительного приговора был задан, эхо его отозвалось во всех отечественных работах по экспрессионизму вплоть до 60-70-х годов. Для критики 30-х годов показательна книга Л.Я. Зивельчинской .
Здесь дан широкий срез рассматриваемых художественных явлений, присутствует историческая ретроспекция, определены отдельные черты творческой программы и поэтики (отказ от изображения реальности, стремление к универсалиям - не закат, а «закатность», динамизм, внеисторичность, отказ от «бессмысленного копирования действительности», поиски идейной насыщенности), но сказанное мало подтверждено анализом конкретных текстов. Особенность идеологизированной критики в том и заключается, что к явлениям искусства «помимо», «до» и зачастую «взамен» анализа сразу прилагается готовый и внесенный извне, а не рожденный в ходе исследования отрицательный критерий, как к явлению враждебной идеологии.
«Необходимо разоблачить буржуазные корни теории и практики экспрессионизма», - определяет этот критерий автор книги24.
Социологическая заданность выражена уже в названии работ 40-х годов, хотя именно в это время заявляет о себе новый серьезный их жанр - диссертационные исследования. Можно назвать такие работы, как диссертации С. Востоковой «Социальная драма немецкого экспрессионизма», И. Ново-дворской «От экспрессионизма к антифашизму» . Так, в работе С. Востоковой последовательно проводится мысль о проблеме «нового человека» как центральном идейном «ядре» экспрессионистической драмы, но затем производится подмена критериев художественных критериями общественно-политическими: «Ликвидация революции, размежевание и поляризация классовых сил лишили экспрессионистический театр его классовой опоры»26.
Тот же принцип применен в работе И. Новодворской. В главе «Молодой Ф. Вольф и экспрессионизм» задачи работы определены как «преодоле-
23 Зивельчинская Л.Я. Экспрессионизм. М.-Л.: Огиз-Изогиз, 1931.
24 Там же. С.66.
25 Востокова С. Социальная драма немецкого экспрессионизма: Дис.... канд. филол. наук.
М., 1946.445 с.
26 Востокова С. Социальная драма немецкого экспрессионизма... С.368.
21 ниє экспрессионизма и раскрытие его реакционной и декадентской сущно-
ста» . Негативный оценочный эпитет «упадочные» применен по отношению как импрессионизма, декадентства, так и экспрессионизма. По поводу экспрессионистической драматургии и театра сказано: «Продолжающаяся деградация немецкого буржуазного театра эпохи империализма находит выражение в появлении в начале XX века экспрессионистической драматургии»28.
Свою ознакомительную роль в истории изучения немецкого экспрессионизма в России, тем не менее, сыграли и эти работы.
«Экспрессионистический ренессанс» начинается в России лишь в конце 60-х годов. Он ознаменован не только количеством исследований, среди которых есть очень значительные, но и качественно новыми оценочными критериями, гораздо более свободными от идеологической заданности. Важнее всего то, что критерии начинают прилагаться к произведениям, а не наоборот. Поворотной в этом отношении можно назвать статью «Экспрессио-низм» профессора Н.С. Павловой . В объеме статьи, даже в академическом издании, невозможно показать все грани исследуемого явления, однако дефиниция его была произведена очень полно, намечены все основные параметры, определена стратегия и тактика исследовательского поиска. Экспрессионизм рассматривается автором в его генезисе, как явление исконно немецкой культуры, в отличие от заимствованных или отраженных - натурализма, импрессионизма. Определяются линии преемственности с эстетикой штюрмерства и романтизмом. В контексте мирового искусства экспрессионизм сближается со всеми видами абстрактного искусства, примитивом, искусством древнего Египта. В статье впервые определен круг явлений, фактов, имен, связанных с понятием «литературный экспрессионизм». В частности, точкой отсчета в истории театра экспрессионизма названа постановка в 1914 году пьесы В. Хазенклевера «Сын». Определены хронологические рамки явления - с 1910-1912 гг. по 1924-1925 гг., которое «после этого теряет свое значение». Предложена периодизация: период оформления (с начала 1910-х
Новодворская И.Я. От экспрессионизма к антифашизму. С.З.
28 Там же. С.38.
29 Павлова Н.С. История немецкой литературы: В 5 т. Т.4 (1848-1918). М: Наука, 1968.
С.536-564.
22 годов); годы войны и революции (1914-1923); «упадок» (1923-1925) - «особенно в поэзии, лишь в драме сохраняет еще свое значение». В статье определены философские основы экспрессионизма - философия субъективного идеализма Э. Гуссерля, А. Бергсона. Названо имя В. Воррингера как одного из ведущих теоретиков «нового искусства». Автор делает ценные наблюдения, касающиеся поэтики, особенностей языка, ритма литературного экспрессионизма (контрастность, деформация образов, резкость тона, стремительность смены сцен, ритма, темпа). Наконец, что следует отметить особо, намечена линия преемственности между экспрессионизмом и такими генетически родственными ему явлениями, как дадаизм, драматургия В. Борхерта, Ф. Дюренматта, М. Фриша; отмечено влияние на творчество Ф. Мазерееля, западную радиодраму и послевоенное кино. Экспрессионизм включен в процесс развития мировой культуры, определены его роль и значение как своего рода революции в искусстве, результатом которой стал отказ от художественной традиции и создание новой поэтики:
«Ни в одном из предшествовавших экспрессионизму направлений (натурализм, импрессионизм) не было такого резкого отказа от художественной традиции, какой был декларирован и осуществлен экспрессионизмом»30.
В этом же томе помещена глава о Вальтере Хазенклевере (автор И.В. Волевич), а также статья Г. Кауфмана «Карл Штернхайм» в переводе И. Рожновского. В поле зрения авторов этих статей находятся преимущественно драматурги «левого» направления экспрессионизма, поэтому не упоминаются имена таких писателей, как Э. Барлах, О. Кокошка, Х.Х. Янн. Однако в следующем томе академического издания «Истории немецкой литера-
туры» им уделено достаточно пристальное внимание . В общем обзоре в главе «Литература периода революционного кризиса» (автор Н.С. Павлова) представлены Э. Барлах, Фриц фон Унру, Л. Рубинер, А. Броннен. Отдельные главы посвящена творчеству Э. Толлера (автор Н.С. Павлова) и Г. Кайзера (автор И.В. Волевич). В последовавшем томе «История литературы ФРГ» Н.С. Павловой принадлежат главы о творчестве Г. Бенна и
Павлова НС. Экспрессионизм... С.536. 31 Павлова Н.С. Литература периода революционного кризиса (Гл.2) // История немецкой литературы: В 5 т. Т.5 (1918-1945). М.: Наука, 1976. С.21-57.
23 Х.Х. Янна . В освещении творчества этих писателей, вышедших из недр экспрессионизма, автор статей выступает первопроходцем в отечественном литературоведении. В вышедшей через два года монографии Н.С. Павловой «Типология немецкого романа, 1900-1945 гг.» в поле зрения впервые входит романное творчество Х.Х. Янна, получившее объективную, достаточно высокую оценку. К проблеме экспрессионизма Н.С. Павлова обращается и значительно позже - в предисловии к третьему теперь уже сборнику «Экспрессионизм» 1986 года, составителем которого она является. Ей принадлежит также глава в учебнике для вузов «Зарубежная литература» 2001 г.33
В 70-80-е годы сохраняется стабильно высокий научный интерес к проблеме немецкого экспрессионизма. Отход от идеологически заданных единых критериев выдвинул на первый план вопросы теоретико-литературоведческого порядка, что косвенно свидетельствовало об оздоровлении общественного климата, однако на решение этих вопросов часто переносилась устоявшаяся традиция нетерпимости к «инакомыслящим». Во всяком случае, внимание было, наконец, обращено к проблеме дефиниции нереалистических направлений в искусстве. В научных кругах в это время остро дискутируется круг вопросов теоретико-литературоведческих - считать ли явления нереалистического искусства, и в их числе экспрессионизм, направлением, течением, движением или художественным методом. Плюрализм точек зрения относительно одного и того же явление говорит о его сложности и неоднозначности, но по устоявшейся традиции стремились выработать единую «обязательную» позицию. В отечественной науке в 60-80-е годы продолжает утверждаться жанр диссертационного исследования, в котором и появляется ряд работ по проблеме немецкого экспрессионизма34. Среди них
Павлова НС. Готтфрид Бенн // История литературы ФРГ / Под ред. Д.В. Затонского, Н.С. Павловой, И.М. Фрадкина. М.: Наука, 1989. С.75-89; Павлова Н.С. Ханс Хенни Янн. Тамже.С.107-124.
33 Павлова НС. Типология немецкого романа 1900-1945 гг. М.: Наука, 1982. 277 с. В это
же время была написана статья профессора А.А. Федорова о романном творчестве
Х.Х. Янна, она существует в машинописном варианте, не публиковалась.
Павлова Н С. Предисловие // Экспрессионизм: Сб. / Сост. Н.С.Павлова. М., 1986; Павлова Н.С Экспрессионизм // Зарубежная литература XX в.: Учеб. для вузов. М., 2001.
34 Грачева В. Драматургия Э. Толлера: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1973; Папкова Е
Проблемы экспрессионизма в литературно-критическом наследии А.В. Луначарского:
Дис. ... канд. филол. нак. М., 1972; Полюдов В. Драматургия Карла Штернхайма: Дис. ...
24 выделяются работы М. Попова, А. Дранова, в которых выдвинута концепция экспрессионизма - самостоятельного метода в искусстве. Доказать эту концепцию авторам не всегда удается (впоследствии от нее отказываются теоретики «московской школы»), но ценности их наблюдений и выводов, касающихся поэтики литературного экспрессионизма, данный факт не умаляет. Среди исследований другого жанра следует назвать содержательную монографию И.С. Куликовой «Экспрессионизм в искусстве»35, ряд статей, предисловий к изданиям. О том, что «проблема экспрессионизма» до конца не решена, говорит появление сборника статей «Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Кино» в 1966 году. Содержание сборника позволяет говорить о наметившейся новой и очень перспективной тенденции рассмотрения экспрессионизма в качестве единого эстетического феномена, нашедшего выражение в различных видах искусства.
Количество накопленных фактов и общий уровень научного осмысления данного литературного явления уже к середине 60-х годов достигает той отметки, когда возможны попытки систематизации и типологизации явления. Проблема типологии романа поставлена в монографии Н.С. Павловой. Относительно драматургии один из первых шагов в этом направлении предпринимает Л. Копелев в статье «Драма экспрессионизма», вошедшей в сборник 1966 года, разделяющий драмы экспрессионизма на несколько типов по тематическому и историко-хронологаческому принципу. Как пример можно привести и статью В. Фадеева «О типологии немецкой экспрессионистической драмы» . В немецком литературоведении классификационный принцип был введен уже в 1921 году в книге Б. Дибольта «Анархия в драме» . Здесь выделены три типа экспрессионистических пьес: «Эго-драмы» («Ich-Dramen»), «Драма крика» («Schreien-Dramen»), «Драма долга» («Pflicht-Dramen»), Недостаток данной
канд. филол. наук. Л., 1973; Попов М. Некоторые стилистические особенности языка экспрессионистической драмы: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1977; Драное А.В. Немецкий экспрессионизм и проблема метода: Дис.... канд. филол. наук. М.: Изд-во МГУ, 1980; Ва-силъчикова Т.Н. Эволюция немецкой драмы экспрессионизма в период эмиграции: Дис.... канд. филол. наук. М., 1982.
35 Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М.: Наука, 1978.182 с. 6 Фадеев В О типологии немецкой экспрессионистической драмы // Литературные связи и традиции. Горький, 1976. С.40-53. 37 DieboldB. Anarchie im Drama. Frankfurt a/M., 1921.
25 классификации в том, что в любой и каждой драме этого видового ряда можно обнаружить в той или иной степени все три признака: самовыражение, «крик», идею долга. Критикуя эту классификацию, В. Фадеев делает попытку выделить в драме экспрессионизма лирическое и эпическое начало, справедливо считая, что их равноправное и раздельное присутствие - отличительный признак данного вида текста38. В зависимости от степени выраженности эпического плана он выделяет три вида экспрессионистических пьес: лирико-монологические, лирико-эпические, эпико-аналитические. В качестве образца лирико-эпической драмы рассматривается «Нищий» Р. Зорге, лирико-монологической - «Искушение» Ф. Верфеля. Но наиболее ценным в работе является даже не эта попытка классификации, имеющая тот же недостаток, что и вышеприведенная, а едва ли не первые в отечественном литературоведении догадки относительно автономных для данного вида текста (экспрессионистической пьесы) структурных принципах его построения. Вслед за Б. Ди-больдом автор статьи справедливо говорит о принципе «Stationendrama» («драмы состояния», в его переводе - «драма этапов»)39, как основном в драме экспрессионизма. Суть его в том, что содержание пьесы отражает не реальный мир, а моменты субъектного присутствия протагониста в пространстве, его восприятие тех или иных моментов реальности. В основе такой техники лежит качественно иное представление о реальном времени и пространстве, (дискретность времени, неразделимость времени-пространства). Возможно, в этом реализованном в экспрессионистическом текста структурообразующем принципе и заключается главный итог той художественной революции, произведенной экспрессионизмом в искусстве, в результате которой изображать мир в классических параметрах стало невозможно. Хронотоп как научная (литературоведческая) категория в эти годы еще не утвердился, выводов о качественно новом характере хронотопа в экспрессионистическом тексте
В связи с чем автор статьи замечает: «Органический синтез классической драмы, соединявшей, по Гегелю, «объективность эпоса с субъективным принципом лирики», уступает место раздельному и параллельному сосуществованию этих элементов» («О типологии немецкой экспр. драмы». С.42).
39 См. определение «драмы состояний»: «Bilder - Serien und Passionen» - «серия картин и состояний» (Diebold В. Anarchie im Drama. S.314-315). Сам принцип разработан и применен уже А. Стриндбергом, предтечей экспрессионизма.
26 статья не содержит, хотя подводит к этому вплотную40. В работе еще присутствуют рудименты социологизации с ее требованием обязательной поступательной эволюции, в таких фомулировках, как «тупиковый предел социологической мысли экспрессионизма»41. Однако определение роли и места драмы экспрессионизма в истории развития искусства заслуживает внимания и с позиций сегодняшнего дня:
«Если говорить о месте экспрессионизма в литературном процессе, то его позитивный вклад заключается, скорее, в разработке сюжетно-композиционных принципов..., чем в лозунгах абстрактного гуманизма»42.
С конца 60-х годов в отдельных работах ставится и вопрос о генетической преемственности. До этого проблема генезиса экспрессионизма если и ставилась, то в аспекте его истоков и схождений с предшествующими художественными явлениями, - либо в контексте мирового искусства (искусство примитива, символизм), либо немецкого (близость к романтизму, штюрмер-ству). Вопрос «что осталось?» в перспективе будущего времени не может иметь ответа, если в экспрессионизме видеть «тупиковый предел социологической мысли». Между тем, как представляется, именно вопрос о генетической преемственности - наиболее важная часть общей проблемы экспрессионизма. Искусство экспрессионизма прерывает предшествующую традицию реалистического искусства, но, создав в результате своей «эстетической революции» новую художественную традицию, оно ее передает далее. В этот смысле экспрессионизм жив и поныне в генетическом «коде» многих явлений авангарда, андерграунда. Одна из первых работ 60-х годов, где названы «наследники экспрессионизма» - статья А. Дорошевича «Традиции экспрессионизма в «театре абсурда» и «театре жестокости»43. «Поименно» наследники экспрессионизма названы в диссертации М. Попова:
Теории хронотопа посвящена статья М.М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике». Хотя основной текст ее написан в конце 30-х годов, впервые опубликован только в 1975 году (См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С.234-407).
41 Фадеев В. О типологии немецкой экспрессионистической драмы. С.51.
42 Там же.
43 Дорошевич А. Традиции экспрессионизма в «театре абсурда» и «театре жестокости» //
Современный зарубежный театр. М.: Наука, 1969. С.123-132.
«Переосмысление влияние эстетики и поэтики экспрессионизма испытывают впоследствии Г. Грасс, В. Борхерт, М. Вальзер, П. Вайсе, Р. Кипп-хард, Т. Уайльдер, Ф. Дюрренматт, Т. Уильяме, Э. Олби и другие»44.
Набор «генетических наследников» экспрессионизма по персоналиям может варьироваться; проблема генезиса экспрессионизма в полном ее объеме поставлена значительно позже. Для этого была необходима качественно иная стратегия и тактика исследовательского поиска, при которой важны не столько вопросы социальной значимости произведения, сколько структуры художественного текста, его внутренней автономной жизни. Вопрос: как и «из чего» создан текст - входит в компетенцию обретшей права на существование семиотики. Литературоведческие работы по искусству авангарда, имеющие выход к знаковым системам, значительно способствуют решению «проблемы экспрессионизма». Перспективность новых подходов демонстрируют при этом и работы совсем молодых исследователей45. В целом в исследовательских стратегиях 90-х - начала 2000-х годов наметились новые тенденции. Самая очевидная из них - искусство более не «судят», ему не выносят «приговор», его стремятся понять и, соответственно, принять. Следует сказать и о том, что при новых подходах критерий нравственности, этики тоже перестает применяться как определяющий ценность и значимость литературного текста, что способствует большей научной объективности анализа и оценок. Можно отметить помимо этого две, на первый взгляд, взаимоисключающие, но на самом деле диалектически связанные центробежные и центростремительные тенденции: во-первых, стремление к расширению исследовательского поля за счет включения все новых и новых фактов, имен, явлений, художественных текстов. Экспрессионизм в этом отношении дает удивительные возможности. Огромная информация хранится в немецких архивах,
О связи «театра жестокости» А. Арто и театра экспрессионизма сегодня говорят настойчиво как отечественные, так и немецкие исследователи. См. по отношению к драматургии Х.Х. Янна: Bitz Ulrich. Statt eines Nachworts II Jann H.H. Dramen I (1917-1929). Hamburg: Hoffman und Campe, 1988. S.1267.
44 Попов M. Некоторые стилистические особенности языка экспрессионистической драмы:
Дис.... канд. филол. наук. М., 1977. С.8.
45 Среди последних работ этого рода диссертация Н. Сироткина «Поэтика русского и не
мецкого авангарда с точки зрения семиотики Ч.С. Пирса». Челябинск, 2003. См. также
другие публикации на созданном им сайте в Интернете «Поэзия авангарда».
28 ныне, благодаря расширению научных контактов между странами, она становится более доступной. Не исключены и такие новые удивительные находки, как чемодан с рукописями Эльзы Ласкер-Щюлер, пролежавший пятьдесят лет в подвале. Однако стратегия расширения исследовательского поля имеет преимущественное значение для истории литературы. Осмелимся заметить, что включение новых фактов из истории экспрессионизма, как бы ни были они интересны, вряд ли внесет что-то качественно новое в сущность «проблемы экспрессионизма» как проблемы теоретико-литературоведческой. Собственно, накопление научных фактов, во всяком случае, в области драматургии экспрессионизма, необходимых для обобщений и выведения типологических закономерностей, произведено исследователями предшествующих лет уже к 60-м годам, особенно же «семидесятниками». Гораздо актуальнее вопрос современного осмысления и систематизации научных фактов с целью выведения на их основе общих закономерностей. И новые факты в таком случае могут сыграть роль открытых на основе теоретических вычислений новых звезд, подтверждая верность открытых типологических закономерностей. К сожалению, именно типология экспрессионистических текстов, относящихся к разным литературным родам, пока не произведена в полной мере, хотя попытки ввести классификационные принципы предпринимались. Количественный же уровень уже освоенных фактов и имен из области истории экспрессионизма к настоящему моменту таков, что на их основе легко можно сконструировать «модель» «экспрессионистического текста», относящегося к любому из трех известных родов - эпосу (роман, рассказ), лирике или драме. Модельный метод исследования связан с теориями знаковых систем, и можно уже сегодня делать прогнозы относительно его перспективности как одного из новых методов литературоведческого анализа46. Нельзя не согласиться
Определение моделирования как одного из методов научного познания дается, например, в пособии ФА. Кузина «Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты». М.: Ось-89, 2001. С.56: «Моделирование - особый и весьма универсальный метод научного познания. В процессе познания модель выступает прежде всего в качестве источника информации об оригинале и служит средством ее фиксации. Эта фиксация особенно ярко выражена у знаковых моделей, представляющих собой специфическую форму знания, тесно связанную с такими ее формами, как теория, гипотеза, закон». См. также о методах научного исследования: Сичшща ОМ. Методы научного познания. М.: Высшая шк., 1972; Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М.: Мысль, 1974.
29 и с мнением Н.В. Пестовой по поводу перспективности методов когнитивной лингвистики, позволяющих понять литературное явление «изнутри», с точки зрения его языка, который, более всего и самым непосредственным образом раскрывает эстетический феномен экспрессионизма. Рассуждая в этой связи об «абсолютной метафоре» в поэзии экспрессионизма, исследовательница приходит к заключению: «Современная когнитивная лингвистика рассматривает метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения мира. С полным правом метафоричной следует признать саму природу экспрессионистического мышления, получающую в языке соответственное внешнее выражение... Однако структура образа в экспрессионистической картине мира в теоретических работах российских германистов-литературоведов пока осмыслена не до конца, хотя исследования в этом направлении ведутся давно»47.
Таким образом, вторая наметившаяся сегодня тенденция современного изучения экспрессионизма связана с семиотическими аспектами, с введением приемов структурального анализа художественного текста, то есть стремлением к «расщеплению» его «ядра» - постижению внутренних закономерностей создания и существования того или иного типа текста. Модель мира в художественном тексте, формы хронотопа, типология жанров, генезис явления, вопрос художественной традиции и преемственности - вот тот круг вопросов, которые в совокупности составляют на сегодняшний день «проблему экспрессионизма». Дефиниция научного понятия более всего обязывает, когда дается в академических учебных пособиях. По поводу экспрессионизма можно прочесть сегодня следующее: «Одно из самых значительных явлений в немецкой культуре первой четверти XX века - экспрессионизм. Теперь экспрессионизм изучен, осмыслен, классифицирован» .
Такая высокая оценка данного художественного феномена стала возможна только в наши дни, это не может не радовать как факт научного прогресса. Но думается, что процесс его изучения далеко еще не завершен - экс-
47 Пестова ЕВ. Немецкояычный экспрессионизм в освещении российской германистики
// Русская германистика: Ежегодник Российского Союза германистов. Т.1. М.: Языки сла
вянской культуры, 2004. С. 171.
48 Павлова ЕС. Экспрессионизм // Зарубежная литература XX века / Под. ред.
Л.Г. Андреева. М.: Academia, 2000. С. 182.
прессионизм сегодня продолжает изучаться, осмысляться и классифицироваться. Проблема экспрессионизма, поставленная в 20-е годы, во всех своих аспектах пока до конца не решена. Видимо, следует ожидать появления исто-рико-литературоведческих монографических исследований как по отдельным персоналиям, так и по отдельным родам этого искусства - лирике, драматургии, эпосу. Возможно, это будут коллективные исследования. Как показывает монография Н.В. Пестовой «Лирика экспрессионизма», такой обширный материал даже по одному литературному роду, трудно поддается осмыслению и просто охвату усилиями одного исследователя. Симптомы этого - коллективная работа над изданием «Энциклопедического словаря экспрессионизма»49. Пока нет исследований и по отдельным значительным персоналиям. Так, драматургия немецкого экспрессионизма пока представлена в отечественном литературоведении именами Э. Толлера (работа В. Грачевой), Г. Кайзера (работа В. Фадеева), поздний Г. Кайзер (работа Т. Васильчиковой), К. Штернхайма (работа В. Полюдова). Нет исследований ни о первом в «экспрессионистическом ряду» - Р. Зорге, ни о замыкающих его - Х.Х. Янне, Э. Барлахе.
Своеобразным доказательством обретения экспрессионизмом ныне законного «статуса» является включения его в программы литературного образования гуманитарных специальностей вузов и, соответственно, в учебники и учебные пособия. Если первой и долгие годы единственной была статья Н.С. Павловой 1968 года, то ныне положение изменилось. О «востребованности» информации по литературному экспрессионизму можно судить по тому факту, что материалы размещаются на специальных сайтах Интернета. Из последних вышедших учебных пособий по экспрессионизму следует отметить работу Н.С. Пестовой50.
Проблема преемственности в случае литературного экспрессионизма выходит за рамки проблемы эволюции творчества того или иного его представителя. Показательно, что далеко не все из писателей-экспрессионистов в поздний период творчества, если он у них вообще состоялся, становятся
49 Под руководством профессора П.М. Топера группа российских литературоведов рабо
тает несколько последних лет над «Энциклопедическим словарем экспрессионизма», ко
торый планируется к изданию в ИМЛИ РАН им. A.M. Горького.
50 Пестова Н.В. Немецкий литературный экспрессионизм: Учеб. пособие по зарубежной
литературе: Первая четверть XX века. Екатеринбург, 2004.
31 представителями авангарда. Однако каждый из «авангардистов», «абсурдистов» - несет в себе «ген» экспрессионизма, сумевшего доказать и показать за очень короткое время своего существования, что в «эпоху атома» прежние формы искусства взорваны, «линия красивой традиции» прервана. В этом смысле ни один из экспрессионистов по значению не равен экспрессионизму. И в этом смысле как И. Уэлш, так и В. Пелевин - его наследники, хотя они скорее всего об этом не подозревают, но они пользуется плодами эстетической революции, произведенной искусством экспрессионизма. В их произведениях есть и эстетический эпатаж, и свободное «переконструирование» потерявшей реальные формы реальности, и герой, созданный по принципу недетерминированной средой и историей первоосновной человеческой «сущности», а не психологически обусловленного характера, - есть в совокупности все те элементы качественно новой поэтики, у истоков которой стоит немецкий экспрессионизм.
С позиций сегодняшнего дня рассматривая феномен немецкого литературного экспрессионизма, можно различить два его выраженных аспекта. Первый из них определяется движением времени, которому все подвластно. Со времени существования этого литературного направления прошло около ста лет. Созданные и закрепленные в рамках реального хронотопа - Германия 1910-20-х годов - художественные тексты являются, как всякий текст конкретной эпохи, в то же время и памятником этой эпохи. Особенность литературного экспрессионизма в целом, и драматургии экспрессионизма, в частности, в том, что тексты очень тесно связаны с реальным хронотопом, в котором они возникли. Являясь своего рода культовым театром, экспрессионистический театр был рассчитан на ответный отклик и потрясение души именно своих современников. Жизнеспособность пьесы проверяется театром. Представить на сцене сегодня экспрессионистическую драму в ее «классическом» варианте - таком, как «Газ-трилогия» Г. Кайзера, «Сын» В. Хазекле-вера, «Нищий» Р. Зорге, - практически невозможно. Таким образом, в рамках реального хронотопа была создана особая форма драмы - немецкая драма экспрессионизма, которая стала литературным памятником своей эпохи. Можно создать модель драмы экспрессионизма, вычленив основные приемы ее поэтики и вселив эту модель «душу» - идею мироустроительства. Но пе-
32 реустройство мира планировалось путем трансформации через душу поэта-экспрессиониста, и этот личностный, человеческий фактор невоскресим. Попытка в ином времени и пространстве воссоздать подобную модель теоретически вполне возможна, но с художественной точки зрения эта модель уже нежизнеспособна. Наиболее весомым доказательством этого служит тот факт, что экспрессионистические пьесы сегодня не ставит театр. Вторая сторона «проблемы экспрессионизма», связана с тем, что произведя своего рода эстетическую революцию, он вызвал к жизни новую поэтику и в этом качестве, давно уйдя с исторической арены, живет в своих генетических наследниках, число которых во времени только прибывает. С этой точки зрения проблема экспрессионизма давно уже переросла в проблему формосодержания тех явлений в искусстве, которые испытали или испытывают его влияние.
«Все, что было в искусстве интересного в последнее время, все берет начало в экспрессионизме», - сказал когда-то Готтфрид Бенн, и эти слова и сегодня звучат вполне современно51.
Можно сделать некоторые обобщения на основе проделанного экскурса в историю изучения литературного экспрессионизма в отечественной германистике:
«Проблема экспрессионизма» была поставлена еще в начале 20-х годов, то есть «при жизни» данного литературного движения, таким образом, решение ее продолжается более восьмидесяти лет;
Став одним из «пробных камней» отечественного литературоведения, данная проблема до конца пока не решена. В разные десятилетия в решении отражается как идеологический климат нашего общества, так и этапы становления теории и истории отечественного литературоведения;
Подходы к решению «проблемы экспрессионизма» в настоящее время показывают плодотворность научного поиска, свободного от идеологической заданности. Именно это позволило реализовать в конце 90-х начале 2000-х годов новые интересные научные проекты в аспекте теории ксенофобии (диссертация Н.В. Пестовой), семиотики (диссертация Н.С. Сироткина).
Проделанный краткий экскурс в историю изучения экспрессионизма в
51 Вепп G. Expressionismus // Werke: In 4 Bd. Bd.l; Essays. Reden. Vortrage. Wiesbaden. 1979. S.251.4.Aufl.
33 отечественной германистике дает возможность определить цели и задачи нашего исследования как определенного вклада в решение общей проблемы экспрессионизма на современном этапе ее существования. Как нам представляется, решить «проблему экспрессионизма», даже суженную до проблемы отдельного литературного рода (драматургии экспрессионизма в данном конкретном случае), - задача если и возможная, то настолько масштабная, что это потребует по меньшей мере работы исследовательской группы или научной лаборатории. Частным вкладом в масштабный научный проект «Драматургия немецкого экспрессионизма» может быть исследование творчества того или иного конкретного драматурга. Драматургия Х.Х. Янна в этом плане - одна из самых ярких иллюстраций к феномену драматургии экспрессионизма в целом. Судьба экспрессионистического поколения трагична - это «потерянное поколение», совпавшее с первой мировой войной. Сказав в юности «нет» войне, Х.Х. Янн прожил свою биологическую и творческую жизнь полностью. Тем самым он стал одним из немногих писателей-экспрессионистов, чье творчество позволяет проследить генезис литературного явления на всем его протяжении, начиная от истоков. Проблема творческой эволюции данного драматурга дает возможность выхода и к проблеме генезиса драматургии экспрессионизма в целом. При этом драматургия Х.Х. Янна открывает феномен драматургии экспрессионизма в его двух наиболее выраженных основных аспектах: как литературный памятник эпохи, с закрепленными жанровыми признаками, комплексом идейно-художественных и эстетических принципов; как новаторская поэтика, сформировавшаяся в его русле и вошедшая впоследствии в арсенал современной мировой драматургии. Драма экспрессионизма - новый тип драмы XX века, обладающий особым хронотопом, своеобразной поэтикой. Анализ ряда однородных явлений показывает повторяемость типологических признаков. Каждая конкретная экспрессионистическая пьеса обладает набором общих «хромосом». Оставшись литературным памятником своей эпохи, драма экспрессионизма «как соль» растворилась в последующем искусстве, особенно нереалистических направлений XX века - драме абсурда, театре жестокости, «пластическом театре». Второй этап драматургического творчества Х.Х. Янна - послевоенный - позволяет увидеть эстетическое наследие драматургии
34 экспрессионизма в творчестве одного из его вчерашних представителей.
Объектом исследования в диссертации явилась драматургия Х.Х. Янна в связи с общей проблемой генезиса драматургии немецкого экспрессионизма, в русле которой формируется качественно новый тип драматургической поэтики. Драма экспрессионизма в теории и на практике отказывается от фундаментальных параметров классической драматургии, определенных уже в «Искусстве поэзии» Аристотеля как «подражание» реальной действительности, действие, обязательное наличие фабулы, миметическая природа художественного образа.
Экспрессионизм отказывается от рационального познания объектного мира, стремясь к интуитивному постижению скрытых за фактами и явлениями реальной действительности «первооснов» бытия. Логически последовательное развитие реальных событий в пространственно-временном континууме объективного мира, определяющее хронотоп в классическом тексте, в «драме состояний» заменяется принципом свободного ассоциативного «нанизывания» картин вещного мира, представленных в восприятии субъекта -создателя драмы, функции которого передоверяются протагонисту - «новому человеку». Отказ от миметической природы художественного образа ведет к деперсонификации персонажа, отдельные поступки и общая линия поведения которого не детерминированы ни привычной психологией» (П. Корнфельд), ни социально-историческими или личностными обстоятельствами. Герой являет собой не характер, не личность, а «сущность», «сгусток самой сильной энергии» (Г. Кайзер). Для драмы экспрессионизма характерен особый характер конфликта - субстациональный. Хронотоп разомкнут «в вечность и бесконечность». Закодированная в тексте такого рода внутренняя идейная сверхзадача имеет глобальный и не осуществимый в реальности характер -пересоздание мира - «механической цивилизации» - усилиями творящего духа. Вследствие этого модель идеального мира в драме экспрессионизма строится по принципу утопии. В силу невозможности реализации утопической программы, модель мира приобретает характер антиутопии («Газ-трилогия» Г. Кайзера, «Потоп» Барлаха), для которой характерен финал по типу Апокалипсиса - уничтожению тупикового варианта существования человечества - современной цивилизации.
Главным предметом исследования послужило драматургическое творчество выдающегося немецкого драматурга первой половины XX века Х.Х. Янна (1894-1959). Один из немногих представителей искусства экспрессионизма, кому удалось полностью прожить свою биологическую жизнь и реализовать творческий потенциал своей личности, Х.Х. Янн является тем самым, по определению В. Мушга, «последним экспрессионистом» («Der letzte Expressionist»). Его драматургия экспрессионистического периода закономерно вписывается в историю немецкой экспрессионистической драмы, является ее целостной и, возможно, наиболее типологически выраженной составляющей, что обусловлено многочисленностью и художественно-концептуальной завершенностью созданных им произведений. Экспрессионистическая драматургия Х.Х. Янна представлена сначала его ранними сценическим набросками, затем зрелыми драмами - «Пастор Эфраим Магнус», «Коронация Ричарда III», «Похищенный Бог», «Врач, его жена, его сын», «Медея». Поздняя драматургия Х.Х. Янна, представленная драмами «Перекресток», «Новый Любекский танец смерти», «Бедность, богатство, человек и зверь», «След темного ангела», «Томас Чаттертон», «Пыльная радуга» позволяет осветить вопрос эстетического наследия литературного экспрессионизма, поставить проблему преемственности. Последним в немецкой драматургии XX века памятником литературному экспрессионизму является завершающая творческую эволюцию драматурга пьеса «Пыльная радуга» (1959), в которой вновь воссоздана модель экспрессионистической антиутопии.
Актуальность темы данного исследования обусловлена:
недостаточной изученностью в отечественной германистике творчества ряда драматургов немецкого экспрессионизма, к числу которых относится Х.Х. Янн;
отсутствием на сегодняшний день системного и целостного представления о теоретических основах, идейной и эстетической программе, поэтике и генезисе драмы немецкого экспрессионизма;
необходимостью пересмотра стереотипных оценочных позиций по отношению к явлениям авангардного искусства и использования при их рассмотрении современного инструментария литературоведческого анализа.
36 Научная новизна работы обусловлена:
обращением к творчеству Х.Х. Янна практически не изученного в отечественной германистики писателя;
рассмотрением его драматургического наследия в общем контексте драматургии немецкого экспрессионизма, что позволило выявить общие типологические признаки драматургической поэтики.
Введением категории «катастрофический тип художественного сознания», определившей модель мира и антропологическую концепцию в драматургическом наследии Х.Х.Янна.
Цели работы
Обшая цель предпринятого исследования - определить характер и закономерности эволюции Х.Х. Янна - драматурга на всем протяжении его творческого развития (1919-1959), выявив в процессе этого типологические черты его драматургической поэтики как органической части театра и драматургии немецкого экспрессионизма, определив в итоге его место и роль в истории немецкой драматургии первой половины XX века.
В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие конкретные задачи:
выявить типологические признаки поэтики драмы немецкого экспрессионизма как особого рода драматургического текста, имеющего единый тип хронотопа, сходную модель мира и человека, субстациональный характер конфликта,
представить Х.Х. Янна как личность и писателя в контексте его эпохи, определив истоки и своеобразие его жизненной философии, доминирующие признаки его мировоззренческой позиции, основные вехи творческой биографии;
дать систематизацию и классификацию всех составляющих драматургическое творчество Х.Х. Янна образцов, выявить основные этапы и закономерности процесса эволюции от экспрессионистического театра к позднему послевоенному драматургическому творчеству;
показать наличие набора основных типологических признаков драмы экспрессионизма в соответствующих этому периоду пьесах Х.Х. Янна;
- поставить вопрос о направлениях эволюции драмы экспрессионизма и аспектах ее влияния на драматургию и театр постэкспрессионистической эпохи на материале поздней драматургии Х.Х. Янна.
Степень изученности проблемы
Изучение литературного немецкого экспрессионизма было начато в отечественном литературоведении уже «при его жизни» - в 20-е годы. Начало положено вступительной статьей А.В. Луначарского к сборнику переведенных пьес Г. Кайзера 1923 года В разное время свой вклад в отечественное экспрессионизмоведение внесли такие крупные ученые, как Л. Копелев, Н.С. Павлова, И. Фрадкин, И. Волевич и другие. Периодом затухания интереса к экспрессионизму явились 30-40-е годы XX века, когда он зачисляется в разряд идеологически враждебных явлений. Показателем стабильно растущего интереса к экспрессионизму начиная с 60-х годов служит значительное количество диссертационных исследований. Среди них наиболее заметны работы Дранова, Фадеева, Грачевой, Попова, Пестовой, Сироткина. Однако при достаточно большом количестве исследований разного жанра - от монографий и диссертаций до статей и заметок «по поводу», - экспрессионизм по-прежнему остается противоречивым и сложным в концептуальном отношении явлением. Феномен литературного экспрессионизма стал точкой пресечения различных, порой взаимоисключающих литературоведческих позиций. С той или иной степенью успеха в решении «проблемы экспрессионизма» в различные периоды был опробован самый различный инструментарий литературоведческого анализа, с помощью которого это понятие дефинировалось как: литературное течение, движение, направление; стиль, художественный метод. Введение в современном литературоведении знаковых, семиотических, мифопоэтических приемов анализа художественного текста открывает новые исследовательские горизонты в экспрессионизмоведении. Весьма перспективным представляется использование также категории «тип художественного сознания», в свете чего экспрессионистическое «мироощущение» предстает как один из начальных вариантов катастрофического экзистенциального типа сознания, присущего творческой интеллигенции рубежа веков, что отражается в концепции литературных произведений.
При высоком и стабильном, начиная от 60-х годов, интересе к экспрессионизму как общетеоретической, философской, эстетической проблеме, низка степень его изученности «по персоналиям», в том числе и драматургов. Начиная с 20-х годов, в поле исследовательского зрения находятся имена преимущественно тех из них, кто условно относится к «левому» крылу экспрессионизма, имеют прямое или косвенное отношение к издававшемуся Ф. Пфемфертом журналу «Aktion». В их числе: Г. Кайзер, Э. Толлер, В. Ха-зеклевер, К. Штернхайм. Критерий отбора был задан статьей А.В. Луначарского «Георг Кайзер» и был не столько эстетическим, сколько идеологическим. Вне поля зрения критики продолжают оставаться такие яркие индиви-дуальности, как Р.-И. Зорге, Э. Барлах, О. Кокошка, И. Голль, Р. Геринг, Фриц фон Унру. Звездой первой величины в этой плеяде по праву является драматург и романист Х.Х. Янн. На сегодняшний день историко-биографический очерк Н.С. Павловой в академическом издании «Истории немецкой литературы», а также глава в ее книге «Типология немецкого романа» - остаются единственными посвященными творчеству Х.Х. Янна работами в отечественной германистике. Пьесы названных драматургов, в том числе и Х.Х. Янна, пока не переводились и не ставились в России. Перевод Т. Баскаковой главы «Буря» романа «Деревянный корабль» Х.Х. Янна - пока единственное «слово» писателя на русском языке.
Степень изученности проблемы экспрессионизма у него на родине несоизмеримо выше. Немецкое экспрессионизмоведение отличается разножан-ровостью, включая как фундаментальные исследования, так и работы по персоналиям. Преобладающим методом в немецком литературоведении является историко-биографический.
Немецкое экспрессионизмоведение глобально по количеству и объему работ, число которых неуклонно растет. Среди них: работы А. Сергеля, П. Раабе, Й. Мейера, В. Мушга, В. Блома, Э. Леммерта, О. Манна, П. Пертне-ра и других. По творчеству Х.Х. Янна в целом и его драматургии в частности имеется такое количество исследований, что они составили биобиблиографическую книгу профессора Й. Мейера (1967). Превалирует жанр научной и публицистической статьи, заметки, диссертационного исследования по локальной проблеме творчества, в том числе драматургического. Как в отечест-
39 венном, так и в немецком литературоведении, при общей несопоставимости степени изученности творчества Х.Х. Янна, пока отсутствует монографическое полное исследование о нем.
Теоретическая значимость диссертационного исследования Полученные в ходе и в результате исследования положения, выводы, заключения позволяют существенным образом углубить и конкретизировать представления о диалектике развития и смены художественных форм в немецкой драматургии первой половины XX века. Конкретные теоретические заключения касаются определения основных параметров драмы экспрессионизма как особого типа художественного текста с закрепленным набором определяющих признаков поэтики, хронотопа, общими функциями протагониста и единой «мироустроительной» идейной установкой. Результатом проделанного анализа явилось выявление своего рода теоретическая «модели» драмы экспрессионизма, которая может быть использована как образец при последующем анализе отдельных конкретных явлений типологического ряда. Достаточная эффективность и результативность такого теоретического подхода доказывается в ходе анализа драматургии Х.Х. Янна первого периода (1917-1929), в которой обнаруживаются все устойчивые признаки экспрессионистической поэтики. Драматургия Х.Х. Янна второго периода (1929-1959) дает возможность поставить один из самых сложных теоретических вопросов экспрессионизмоведения - генезиса, преемственности, традиции и новаторства литературного экспрессионизма, который, являясь лишь одной из начальных форм авангардизма, дал «эстетический урожай», обогативший современную мировую драматургию в целом. В свете теоретических положений работы драма немецкого экспрессионизма предстает в двух основных позициях: как литературный памятник своей эпохи, имеющий собственный реальный хронотоп - Германия 1912-1929 годов, созданный немецкими писателями «потерянного поколения», сопоставимый по степени художественной законченности и концептуальной выраженности с такой драматургической формой, как «штюрмерская» драма. В то же время в рамках иного хронотопа такой памятник конкретной эпохи нежизнеспособен. Основным наследием драматургического экспрессионизма стала не эта «модель» драмы экспрессионизма как таковая, а новые приемы поэтики, смелые эксперименты со временем и пространством, имеющие следствием развеществ-
40 ление среды и деперсонификацию персонажей,которые были впервые выработаны именно в ее русле. С этой точки зрения прямыми генетическим наследниками драматургии экспрессионизма стали такие последующие во времени драматургические формы, как «театр жестокости», драма абсурда, различные формы андерграуда. Влияние экспрессионистической поэтики происходит и в иной, более скрытой и усложненной форме. Эволюция драматургии Х.Х.Янна от первого, экспрессионистического, периода ко второму, постэкспрессионистическому, позволяет зафиксировать возникновение такой качественно новой формы, как пьеса-обманка, имеющая мнимо «жизнеподобную», «ложноклассическую» форму. По внешней видимости драматург в поздних пьесах возвращается к аристотелевской поэтике, - психологизму, конкретизация реальной вещной среды. Но эти признаки определяют только видимый внешний «план мироздания», классическая форма скрывает за собой «шевелящийся хаос». Жизнепо-добный мир - только иллюзия, скрывающая иррациональную бездну, из которой невидимые анонимные силы руководят бесшумным бегом времени и крутящимися в его потоке вечными матрицами - людьми-куклами. Налицо приемы поэтики «драмы сна» (Traumspiel), впервые примененные предтечей экспрессионизма - Августом Стриндбергом. Наиболее ярким примером такой «ложноклассической» пьесы является драма Х.Х. Янна «Томас Чаттертон». Практическая значимость диссертационного исследования Драматургия Х.Х. Янна почти не исследована отечественной германистикой, данная работа дает возможность в определенной степени восполнить этот пробел. Собранный, обобщенный и систематизированный архивный, библиографический, документальный материал, касающийся истории жизни и творчества данного писателя, впервые вводится в отечественный литературоведческий обиход. В разной степени он может представлять научную и практическую ценность для научных работников, специалистов-филологов, преподавателей, студентов гуманитарных специальностей. Основные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе в курсе истории зарубежной литературы XX века, истории немецкой литературы XX века, культурологии, при разработке и проведении спецкурсов и семинарских занятий на гуманитарных отделениях вузов.
Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования составили работы:
ведущих отечественных литературоведов в области методологии, теории и истории литературы: М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Ю. Тынянова, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, А.Ф. Лосева, В.Я. Проппа, В.Б. Шкловского, Д.С. Лихачева, А.Я. Гуревича, Л.Г. Андреева, Н.С. Павловой, Р. Якобсона, Д. Затонского, Г.Н. Поспелова, Г.К. Косикова, А.Я. Эсал-нек, В.Е. Хализева, В. Заманской;
немецких, австрийских и швейцарских литературоведов и теоретиков литературы: А. Сергеля, В. Мушга, Э. Леммерта, П. Пертнера, Т. Анца, К. Буадоля, П. Раабе, Г. Бара, В. Паулзена, К. Кендлера, Б. Дибольда, В. Хинка, Ф. Мартини, В. Сокела, А. Фивиани, Г. Мартенса и других;
современных западноевропейских и отечественных философов и ученых: Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера, Э. Гуссерля, А. Бергсона, Э. Сведенборга, Н. Бердяева, А.Ф. Лосева, П. Флоренского, К. Юнга;
в области мифологии, мифопоэтики, эстетики, культуры, социологии: М. Бахтина, А.Ф. Лосева, А. Тахо-Годи, С. Аверинцева, М. Мелетинского, О. Фрейденберг, В. Проппа, В. Воррингера, В. Кандинского, В. Топорова, В. Ратенау, В. Тэрнера, 3. Фрейда, М. Стеблин-Каменского, М. Элиаде, В. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, Л. Штернберга, Д. Фрэзера, М. Чередниковой.
Методы исследования, применяемые в диссертации:
конкретно-исторический, историко-биографический, сравнительно-типологический, системно-обобщающий,- необходимые для выявления типологических признаков драмы немецкого экспрессионизма и анализа драматургии Ханса Хенни Янна на всем протяжении ее эволюционного развития;
для выявления мифопоэтической структуры, составляющей особенность поэтики пьес Х.Х. Янна, был применен мифопоэтический подход к литературному произведению, который разработан в отечественном литературоведении в трудах Ю. Лотмана, С. Аверинцева, Е. Мелетинского, В. Топорова.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Драматургия немецкого экспрессионизма - качественно новое явление в немецкой и шире - мировой драматургии XX века. Отталкиваясь от классической драмы с ее «аристотелевской» поэтикой, основанной на прин-
42 ципе подражания реальной действительности и миметической природе художественного образа, экспрессионизм намечает путь «развеществления» среды и «деперсонификации» персонажа.
Приемы поэтики, особенности хронотопа, функции протагониста, конфликт в драме экспрессионизма имеют единый и сходный характер, что позволяет рассмотреть ее как определенное идейно-художественное единство, возникшее в рамках реального хронотопа (Германия 1912-29 гг.), как литературный памятник своей эпохи.
Катастрофический тип экспрессионистического мировосприятия и художественного мышления рождает сходную модель мира в драме экспрессионизма - преимущественно по типу антиутопии.
Эстетическое наследие драматургии экспрессионизма значительно шире рамок ее реального существования, обнаруживается в последующих во времени, преимущественно авангардных, формах драматургии XX века.
Драматургия каждого отдельного драматурга-экспрессиониста имеет набор зафиксированных общих признаков всего «типологического ряда», оставаясь явлением оригинальным и индивидуальным. Драматургия Х.Х. Янна - «последнего экспрессиониста» показательна в этом отношении.
Понятие инверсия времени, ставшее основой «катастрофического» мировосприятия Х.Х. Янна, определяет характер хронотопа, модель мира и антропологическую концепцию в экспрессионистических пьесах первого периода: «Пастор Эфраим Магнус», «Коронация Ричарда III», «Похищенный Бог», «Врач, его жена, его сын», «Медея».
Общий для экспрессионистического поколения антицивилизаторский протест в случае Янна находит выражение в мифопоэтических мотивах, связанных с архаической культурой и мифологией: близнечный культ, мотив избранничества, культ гения, тотемический культ, мотив инцеста.
Пьесы Янна второго периода показывают дальнейшее направление его художественных исканий: поиски музыкально-театрального синтеза («След темного ангела», «Новый Любекский танец смерти»), применение приемов монтажа, эпического комментария («Перекресток»).
Вершиной творческой эволюции Х.Х. Янна стали пьесы второго периода творчества: «Бедность, богатство, человек и зверь», «След темного ан-
43 гела», «Томас Чаттертон», в которых реализуется качественно новая форма пьесы «ложноклассического» типа. Мнимо реальный хронотоп, обманчиво «жизнеподобный» характер героев, нарочито реальная вещная среда скрывают второй, иррациональный план. Поэтика кошмарного сна, субстациональ-ный характер конфликта, ирреальные персонажи, разомкнутость хронотопа в «вечность и бесконечность» - все эти черты являются эстетическим наследием экспрессионизма. В контексте послевоенной литературы ФРГ творчество Х.Х. Янна приближено к такому явлению, как «магический реализм», представленный творчеством Г. Казака («Город за рекой») Х.-Э. Носсака («Не-кийя», «Младший брат»). Создается миф иррационального бытия, отмеченного чертами безысходного трагизма. Модернистская в своей основе модель бытия в творчестве Х.Х. Янна основана на идее вечного повтора вечных «матриц» в инверсионном потоке времени, неуклонной биологической энтропии, что свидетельствует о кризисном характере эпохи и кризисе сознания писателя.
10. Завершающая творческий путь писателя драма «Пыльная радуга» -попытка воспроизвести модель экспрессионистической пьесы в рамках иного времени, имеющая результатом последнюю в истории немецкой литературы XX века экспрессионистическую антиутопию.
Апробация работы
Материалы диссертации нашли письменное освещение в научных статьях, учебном пособии, монографии. Основные положения работы прошли апробацию в выступлениях диссертанта на научно-практических конференциях и семинарах: «Проблемы писательской критики» (Душанбе, 1984, 1987, 1988) «Кафирниганские чтения» (Душанбе, 1991), Второй и третий Поволжский научно-методический семинар по проблемам преподавания и изучения дисциплин классического цикла (Нижний Новгород, 2004, 2005);
Всероссийских научно-практических конференциях: «Человек в культуре России» (Ульяновск, 2003-2005), «Открытые культуры» (Ульяновск, 2002), «Духовная жизнь провинции. Образы. Символы, Картина мира» (Ульяновск, 2003), «Пятые, Шестые Веселовские чтения» (Ульяновск, 2004, 2005), Ежегодная конференция «Традиция в истории культуры» (Ульяновск, 2001-2004);
Международных конференциях: «Проблемы античной культуры» (Симферополь, 1988), «Сравнительное литературоведение: Теоретические и
44 исторические аспекты». Пятые, Шестые, Седьмые Поспеловские чтения (Москва, МГУ, 2001, 2003, 2005), «Четвертая международная научная конференция по проблемам литературы и искусства 18 века» (Москва, МГУ, 2004), «24-е Толстовские чтения. К 175 со дня рождения Л.Н. Толстого: Лев Толстой и судьбы современной цивилизации» (Тула-Москва, 2003), «Н.В. Гоголь и театр. Третьи, Пятые Гоголевские чтения» (Москва 2004, 2005), «Русское литературоведение третьего тысячелетия» (Москва, 2003), «Язык и культура» (Киев, 2004), «Ознобишинские чтения» (Самара-Инза, 2004), XXXIV Международная филологическая конференция (С.-Петербург, 2005).
Структура диссертационного исследования определяется его основными положениями, выдвинутыми целями и задачами, внутренней логикой исследовательского поиска. В соответствии с этим работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 440 наименований источников на русском и немецком языках, распределенных на два раздела: художественные тексты, научная и критическая литература, и приложения.
Первая глава выявляет типологические черты драмы экспрессионизма как новой формы драматургического текста, возникшей в результате разрыва с предшествующей художественной традицией, в первую очередь - реалистической. Экспрессионистической драматургии Х.Х. Янна 20-х годов посвящается вторая глава. Выявленные типологические особенности драмы экспрессионизма тем самым находят подтверждение в ходе анализа конкретных произведений писателя данного литературного направления. Последнему периоду творчества Х.Х. Янна посвящена третья глава работы, где поставлен вопрос генезиса драматургии экспрессионизма в целом, ответить на который частично позволяет творчество данного драматурга. Приложение 1 посвящено анализу теоретической платформы литературного экспрессионизма. В приложении 2 личность Х.Х. Янна представлена в контексте его эпохи, прослеживаются вопросы мировоззренческой позиции и философии жизни писателя; освещенности творчества Янна в немецкой критике, истории театральных постановок его пьес.
Предтечи драматургии экспрессионизма. Формирование основ экспрессионистической поэтики в драматургии А. Стриндберга и Ф. Ведекинда
У истоков драматургии немецкого экспрессионизма стоят два автора -Август Стриндберг (1849-1912) и Франк Ведекинд (1864-1918). А. Стриндберг, по словам Т. Манна, «предвосхищает экспрессионизм».
Решительно отвергая принципы классического реализма XIX века, будучи вполне оригинальным художественно-эстетическим явлением, экспрессионизм вырастает тем не менее на почве предшествующей художественной традиции. В ближайшей исторической оптике - Август Стриндберг и Франк Ведекинд по праву могут претендовать на роль духовных отцов «драмы крика». В немецком экспрессионизмоведении нет такой серьезной работы, где бы не выдвигалось это утверждение. Так, Эберхард Леммерт говорит о преемственности в области поэтики и драматургической техники, усматривая принцип «нанизывания» сцен и рассчитанной «группировки фигур» уже в пьесах Стриндберга «На пути в Дамаск» («Till Damaskus») и «Игра снов» («Ett Dromspel»), считая в этой связи форму пьес Стриндберга «материнской» по отношению к экспрессионистической драме52.
Опубликовав свою новаторскую пьесу «Игра снов» в 1902 году, драматург в том же году предложил ее для постановки в Германии. Из всех пьес Стриндберга она более всего повлияла на формирование поэтики драмы экспрессионизма. Выразительная метафора: «игра снов» («Dromspel» - в переводе на немецкий язык - «Traumspiel»), найденная А.Стриндбергом и давшая название его пьесе, впоследствии закрепляется за поэтикой экпрессионисти 46 ческой драмы, становится одним из ее многочисленных «постоянных эпитетов» - «драма снов». Примененный Стриндбергом технический прием поэтики - «свободного ассоциативного сцепления сцен» - в драме экспрессионизма получает дальнейшую трансформацию, по поводу чего критик заметит:
«В то время как Стриндберг ставит в особую причинную зависимость принцип свободного ассоциативного сцепления сцен и бессознательное, драма экспрессионизма вообще освобождается от какой-либо причинной обусловленности в последовательности картин»53.
«Ранними экспрессионистами» называет А. Стриндберга и Ф. Ведекин-да Э.-А. Фивиан, выделяя в пьесах Стриндберга два фундаментальных положения, определивших впоследствии теоретическую платформу экспрессионистической драмы: отказ от адекватного отображения реальности, от принципов жизнеподобия и подражательности, психологической детерминированности персонажей, от понятия характера, который заменен в драматургии Стриндберга, по словам критика, «пантомимой, музыкой, танцем». Критик определяет роль Стриндберга как «первого, кто высказал убеждение, что целью искусства не может быть отражение действительности» .
Важно отметить, что Э.А. Фивиан считает трилогию Стриндберга «На пути в Дамаск» уже вполне сформировавшейся «драмой состояния». В связи с этим, ее протагонист определяется как экспрессионистический «новый человек», показанный на различных этапах его поиска истины:
Определение «Stationendrama» (драма состояний) принадлежит Берн-гарду Дибольду. Впервые так он называет драму экспрессионизма в своей книге «Анархия в драме» («Anarchie in Drama»): «серия картин и состояний» («Bilder-Serien und Passionen»)55. Здесь же в очередной раз делается ссылка на А. Стриндберга как создателя новой театральной техники. Дибольду принадлежит одна из первых попыток дать внутривидовую классификацию экспрессионистической драматургии. Он выделяет три типа пьес: «Ich-Dramen» («эго-драма»), «Schreien-Dramen» («драма крика»), « Pflicht-Dramen» («драма долга»). Применить эту классификацию в конкретных случаях не всегда возможно, хотя определение « драма крика» оказалось удачным и прочно закрепилось за этим типом пьес, так как хорошо передает их эмоциональную тональность - предельную градацию чувств. С тем же основанием каждая экспрессионистическая драма может быть названа «эго-драмой», так как субъективное самовыражение автора заменяет стремление к адекватному отражению реальности. Выполнение своего человеческого долга, хотя и понятого по-разному, движет поступками героя, поэтому оправдан и третий термин. Дибольд дает не столько внутривидовую классификацию драматургии экспрссионизма, сколько выделяет идейно-художественные единые принципы. Однако именно с его подачи термин «драма состояний» или «драма этапов» («Stationen-Drama») вошел в литературоведческий обиход.
Ранняя юношеская драматургия Х.Х. Янна (до публикации пьесы «Пастор Эфраим Магнус» в 1919 году)
Отсюда и этапы собственного «крестного пути» героя: кастрирование, распятие, ослепление. Парадокс, однако, заключается в том, что Эф-раим ведет себя как еретик, усомнившийся в самых основах «божественного мироздания». В отличие от Иоганны, в нем нет христианского смирения, фатализма. Он требует бессмертия, а не ждет его как заслуженную награду за нравственное поведение на земле. Он смело выступает против биологического детерминизма, определяющего каждую человеческую судьбу, против закона всеобщего распада, который и является одним из принципов «божественного миропорядка»:
«Мы с самого начала обмануты. Нам даны такие чувства, которые простираются в вечность. Но мы живем 50-60 лет. Что было до нас - мрак; семя, из которого мы возникли, могло быть брошено на землю - нам ничего не дано знать...»163.
Но избранный Эфраимом путь к бессмертию неверен, как и путь старшего брата, и ведет только к уродованию и распаду плоти, но не к вечности. Таинственная связь существует между поисками Эфраима и состоянием трупа брата. На каждом этапе «крестного пути» он навещает мертвеца и убеждается, что труп «продолжает вынашивать смерть»164. Созданный Янном дуалистический образ «смерти - рождения» (распухание разлагающегося трупа сравнивается с беременностью) отражает его концепцию жизни и смерти как двух сторон одного круга.
В ход борьбы героя с мирозданием посвящены и четыре призрака. Они являются Эфраиму, вызывая сначала в нем безумный ужас - он боится стать участником хоровода мертвецов. Это означала бы потерю надежды на обретение точки опоры в вечном кружении бытия. Как справедливо отмечает В. Блом:
«Янн связываем с образом Эфраима надежду на освобождение от закона вечного круговорота, одновременно существование четырех призраков ставит эту надежду под сомнение»165.
Эфраим представлен в пьесе как «новый человек», носитель идеи свободного выбора, права человека на самоосуществление, вопреки положенному ему законами бытия и общества пределу. В его последнем диалоге с сестрой особенно четко выражено сталкновение двух полярных точек зрения: фатализма Иоганны - как следствие примирения с законом вечного «происте-кание» и идея свободного выбора в лице героя. В момент наивысшего отчаяния Иоганна начинает сомневаться в обретение точки опоры в вечном кружении бытия, объективном существовании мира. Жизнь представляется страшным сном, и нет надежды на пробуждение.
«Скоро утро, ведь правда? Мы грезим, мы проснемся? Или же придет Некто, кто нас расчленит на части... ноги - прочь, туловище - отдельно, надвое»166.
Свободная ассоциативная связь элементов реального и ирреального мира, нарушение принципов правдоподобия и логической последовательности, ведущее к созданию призрачной атмосферы сновидения, в этой сцене, как и в эпизодах появления «танца смерти», восходит к созданной А. Стриндбергом технике «игры снов» («Traumspiel»), развитой драмой экспрессионизма. Применяется и техника «драмы состояния» («Stationendrama») - пьеса Янна разделяется на отдельные картины-проекции внутреннего состояния героя, а не на традиционные акты.
Иоганна склоняется к фатализму, христианскому смирению. Такой путь, как и всеотрицание старшего брата, ведет в смерть. Как и Якоб, сестра уходит третьим «путем без пути». После смерти сестры Эфраим продолжает свои поиски точки опоры в жестоком мире, отнявшем у него все, и находит ее - в творчестве. Это не может повлиять на основной закон бытия - изменить путь всякой плоти, но дает личное бессмертие ему, а также его любимым брату и сестре. В драме экспрессионизма никогда не гаснет последний луч надежды, несмотря на самые трагические обстоятельства, даже гибель героя. Это связано с верой в неразрушимый потенциал духовной энергии человека. Само представление о неподвластном разрушению «заряде энергии» (Г. Кайзер) личности различно и зависит от общей позиции писателя. В драме Янна точку опоры в кружащемся хаосе бытия человеку могут дать творчество и любовь, как категории абсолютного, не подвластного ни повторению, ни уничтожению. В драме «Пастор Эфраим Магнус» герой обретает опору в творчестве, и хоровод «танца смерти», который является к нему, не сможет вовлечь его в свое движение. Закон всеобщего распада не властен над ним, так как в человеке тлеет искра бессмертия - творческий дар. Во время второго явления призраков хоровода смерти, зовущих его, Эфраим уже не страшится их, так как почувствовал свою силу. Закон вечного повтора не властен над людьми исключительными, носителями абсолюта духа, так как они неповторимы. Среди людей свободного выбора, которые смогли сами решить свою судьбу, Эфраим называет имена гениев - зодчих и художников, поэтов и музыкантов. А на слова Обезглавленного о фатальной неизбежности смерти он отвечает:
«Ты лжешь мне. Строителей соборов среди вас нет, и поэтов - таких как Марло, Бюхнер - тоже нет среди вас. И Христа нет среди вас. Я с вами не хочу иметь ничего общего. И хочу создавать такие вещи, которые ваши планы расстроят...»167
Приемы «эпического театра» в драме Х.Х. Янна «StraBenecke» («Перекресток»)
Драматургия Х.Х. Янна второго периода творчества охватывает отрезок времени с конца 1920-х годов до его смерти в 1959 году. Эта периодизация принята в немецком литературоведении и определяет структуру двух основных на сегодняшний момент изданий его пьес: в первом томе помещены все ранние драматургические опыты, включая пьесу «Медея», во втором -все остальные пьесы, включая последнюю - «Staubige Regenboben» («Пыльная радуга»), завершение которой совпадает и с окончанием жизни ее создателя.
В отечественном литературоведении творчество Янна в целом еще настолько мало изучено, что не могло возникнуть и проблемы периодизации. По той же причине пока не ставился и один из центральных вопросов, связанных с драматургией Х.Х. Янна как качественно новаторского явления - о мере и степени разрыва с классической традицией и о характере новаторства.
При первом знакомстве с произведениями этого писателя поражает шокирующий характер поэтики, необычность антропологической концепции, оригинальность модели мира. Вопросы драматургического мастерства и театральной техники возникают позже; пока они не находят должного освещения в критике по творчеству Х.Х. Янна. Между тем, профессиональный писатель, каким он стал уже к концу 20-х годов, современник таких величайших художественных экспериментов XX века, как техника потока сознания , примененная Д. Джойсом и У. Фолкнером, «эпический театр» Б. Брехта, «пластический театр» Т.Уильямса, лично знакомый и состоявший в переписке и с Б. Брехтом, и с ведущим постановщиком его пьес Э. Пискатором, друг театрального деятеля Герберта Иеринга, «открывшего» 24-летнего Брехта, такой писатель не мог остаться в стороне от технических новаций современного ему театра.
Литературный эксперимент в творчестве Джойса, Фолкнера, Брехта мог состояться тоже именно в это время, когда в науке были сделаны величайшие открытия, пошатнувшие прежние представления о времени и пространстве, строении материи и теории происхождения жизни в целом. К числу открытий, повлиявших на литературу XX века, относится также появление радио и звукового кино. Появляются новые приемы монтажа и иное отношение к звучанию художественного текста. Кино открывало новые горизонты зрительной возможности представить действие в практически безграничной временной и пространственной перспективе. Именно это и привлекло художественную мысль Янна в первую очередь. Его поиски универсалий жизни, закона перво-творения, идея инверсии времени, идея вечного повтора универсальных матриц в потоке времени, вечно вращающемся, - все это очень трудно представить средствами искусства. С начала 30-х годов Янн ищет новые возможности для этого, в том числе и «примеряя» находки, уже сделанные другими, отказываясь или принимая. В процессе поиска формируется его собственный драматургический метод.
Период нацизма губительным образом повлиял на немецкую литературу, и особенно - на драматургию. Чтобы объективно оценить пьесу, ее надо поставить, в полной мере она видна только со сцены, но в связи с начавшейся фашизацией это стало невозможно. Так, Б. Брехт не увидел свою пьесу-предупреждение «Мамаша Кураж и ее дети», одну из самых ярких антифашистских парабол, до окончания войны, когда она уже приобретает иное звучание. Х.Х. Янн не увидел постановок своих экспериментальных пьес «StraBenecke» («Перекресток») и «Neuer Lubecker Totentanz» («Новый Лю-бекский танец смерти») и тем самым не получил своевременной объективной оценки результатов своих экспериментов 30-х годов в области театрального синтеза, драматургического и сценического монтажа, применения различных форм эпического комментария. В письме Х.Х. Янна от 29 августа 1930 года к Г. Иерингу он настойчиво просил помочь связаться с Э. Пискатором, чтобы тот прочел его новую пьесу «Перекресток».
Можно понять, что речь идет не только о прочтении, но и возможной постановке этой вещи, манера которой, как предполагает Янн, должна импонировать ставившему Брехта Пискатору. Это понимает и Иеринг, поэтому в ответном его письме говорится о финансовых затруднениях режиссера, что исключает в данный момент вопрос о постановке пьесы, но «завтра все может быть иначе» («die Situation in kurzer Zeit schon wieder eine andere sein kann.. .»)271
Ситуацию меняет начавшаяся фашизация страны - пьеса была поставлена только в 1965 году.
Поиск новых художественных возможностей выразить свое представления о «трагедии бытия» у этого «трагика творения» можно наблюдать в пьесах второго периода творчества (1930-1959 годы). Начинаясь пьесой «StraBenecke» («Перекресток»), он последовательно включает следующие произведения: «Neuer Lubecker Totentanz» («Новый Любекский танец смерти»), «Armut, Reichtum, Mensch und Tien («Бедность, богатство, человек и зверь»), «Spur des dunklen Engels» («След темного ангела»), «Thomas Chatterton» («Томас Чаттертон»), «Staubige Regenbogen» («Пыльная радуга»).