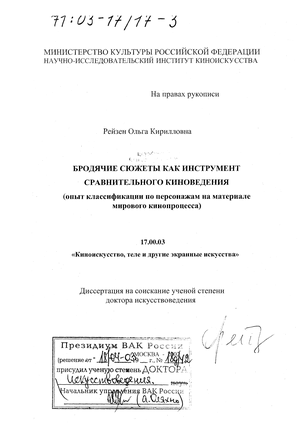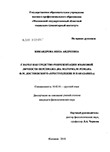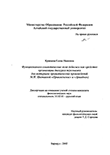Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Герои 13
1. Куда пойти бедной Золушке? 13
2. Странствия Кармен 37
3. Дон Кихот 71
4. Шпионы 84
5. Милые и немилые монстры 106
6. Последние императоры 138
7. Герой - город Нью-Йорк. 163
ГЛАВА II Пары ...179
1. Обычная история доктора Джекиля и мистера Хайда 179
2. Love Story 193
3. Buddy Cinema 198
ГЛАВА III Семья 209
ГЛАВА IV События 235
1. Сотворение Титаника 235
2. В поисках Эльдорадо 251
ГЛАВА V Автор 272
Заключение ...296
Приложение 1 304
Приложение 2 308
Список литературы 319
Список фильмов 325
- Странствия Кармен
- Последние императоры
- Обычная история доктора Джекиля и мистера Хайда
- Сотворение Титаника
Введение к работе
За недолгую историю кинематографа его языковые компоненты еще не обрели законченной формы. Однако бродячие сюжеты формируются как раз на ранних стадиях. Поэтому попытка их анализа представляется своевременной: с одной стороны накоплен некоторый, столетний, опыт, с другой - существуют аналоги в других видах искусства.
Кино, как известно, рассказывает истории, и в этом смысле его связь с литературой в первое столетие его существования неискоренима. Безусловно, кино аккумулировало традиции искусств, существовавших до его рождения. В то же время, по определению О.Манделыптама "ученик бегает быстрее учителя", поскольку то, к чему учитель приходит в результате упорного труда, ученик получает уже в готовом виде. Таким образом, скорость развития кино, его массовость, популярность и доступность, обеспеченные, в том числе и опытом искусств докинематографической эпохи, позволяют ему функционировать не только как искусству, но и как своеобразной форме мифологии и фольклора.
Проблема бродячих сюжетов глубоко и всесторонне освещена литературоведением. "Устойчивые комплексы мотивов, составляющие основу устного или письменного произведения, переходящие из одной страны в другую и меняющие свой художественный облик в зависимости от новой среды своего бытования"1, - так определяет их литературная энциклопедия. Разграничены следующие типы бродячих сюжетов: героические, мифологические, волшебно-сказочные, сказочно-бытовые, новеллистически-бытовые.
Происхождение и развитие бродячих сюжетов издавна связывалось с историей фольклора. На эту тему возникало много дискуссий. Споры между мифологической школой, объясняющей совпадения в сюжетах эпоса, мифов и сказок сохранением в них общего достояния родственных народов, школой заимствования, прослеживающей генезис развития сюжетов с Востока, преимущественно из Индии, и антропологической школой, указавшей, что совпадение сюжетов наблюдается в фольклоре народов, исторически не имевших общения, и может быть объяснимо полигенезом бродячих сюжетов при наличии одинаковой ступени культурного развития соответствующих народов, разрешились в пользу сравнительно-исторического языкознания, поскольку бродячие сюжеты - идеальный материал для изучения фольклорных, лингвистических и культурологических особенностей различных национальных формирований. «Люди имеют обыкновение пользоваться историями для установления отношений с окружающим миром. Современные формы популярного повествования, используемые литературой, драмой и кино - всего лишь продолжение древнейших систем сюжетосложения. Их истоки в рассказах, бытующих в каждой культуре, которая в поисках своих первооснов обращается к деяниям богов или сверхъестественных существ, чтобы прояснить связи между человеческим существом и вселенной. Таковы мифы - большие всеохватные образные субстанции, проясняющие детали обыденной культуры» . По определению философа Сюзанн Ланжер, миф рожден тягой человека к процессу символизации - тягой более сильной, нежели жажда организовывать или классифицировать материал. «Мы проносим наш ежедневный опыт сквозь «простое выражение идей», создавая динамичные и драматичные концепции мироздания»3...Но «люди не только складывают истории, пытаясь разобраться в космических силах, управляющих их бытием. Они также символизируют сны, социальные связи и исторические события. Отсюда, из этих легенд, баллад, сказок различного рода проистекает фольклор, герои которого отличаются от мифологических более определенными и личностными характеристиками»4.
Применительно к кинематографу подобное разделение сомнительно, поскольку кино гораздо более конкретно. В силу его изобразительной субстанции любое абстрагирование (сколь бы ни были удачны всевозможные примеры из разных видов кино, от научно- популярного до мелодрамы, когда деталь, крупный план пытались превратить в понятие), по крайней мере, на "человеческом" уровне пока не воплощено.
Говоря на тему сюжетов, нельзя оставить в стороне проблему "жанров". Система жанров, даже такая четко очерченная, как американская, не является раз и навсегда заданной конструкцией. Трансформация лсанра заложена в структуре самого жанра, ибо как только жанровые черты обретают каноничность, что происходит довольно быстро, они одновременно превращаются в условность, и здесь есть два пути - высмеять эту условность, либо расширить границы жанра, что невозможно делать бесконечно, не превращая жанр в собственную противоположность или не создавая новый жанр.
Разумеется, жанры могут смешиваться, перерастать один в другой, мирно сосуществовать в одном произведении - сама по себе "чистота жанра" никогда не была мерилом качества в искусстве. Жизнь подтвердила, что сюжетные параметры подвергаются значительно меньшим трансформациям, нежели жанровая атрибутика. Но проблема жанра, достаточно тесно связанная с сюжетосложением, тем не менее, являет самостоятельную область исследования, поэтому о жанре речь пойдет лишь по мере необходимости.
Антрополог К.Леви-Стросс считал, что "мифологическая мысль движима противоречием и его позитивным разрешением"*. Таким образом, даже в сфере лингвистики конфликт не решается, а разрешается, то есть решается еще раз, чаще всего иначе, нежели в предыдущем случае.
Естественно, что в центре первой же главы оказывается персонаж, причем персонаж вполне определенный, бродяга - не обязательно в донкихотовском или чаплиновском плане, т.е. герой, находящийся в пути, хотя и это части героев свойственно, но в том отношении, что персонаж этот свободно перемещается во времени и пространстве, а также переходит из одних видов искусства в другие. Некоторые из подобных персонажей пришли из литературы, другие из фольклора, третьи (их меньше всего) -порождения собственно кинематографической иконографии. Все вместе они закладывают основу мифологии кино. А основа их, как впрочем, и многого в искусстве - в сказке.
Варианты здесь неисчерпаемы: это и возможность проследить генезис благородного бандита от Робин Гуда до Юрия Деточкина; обнаружить трансформацию рыцаря в героя фильмов-катастроф, на пути к Волшебному Граалю преодолевающего землетрясения и ады в поднебесье, вступающего в схватки с акулами; узнавать знакомые черты Ивана-дурака в привычных версиях о героях-одиночках из вестернов и фильмов катастроф, походя преодолевающих любые трудности. Но, быть может, особый интерес представляют сказки, большинство компонентов которых бережно сохраняет кинематограф. В этом плане показательна почти вековая экранная история Золушек и Тарзанов, судьба Джеймса Бонда, тоже своего рода сказочного героя, хотя и современного образца, или экранные странствия Кармен.
Нелегко определить, где кончаются тематические совпадения и начинаются совпадения сюжетные и фабульные. Граница здесь, безусловно, достаточно зыбка, поскольку и поиски Эльдорадо, и путешествия зрелых мужчин с маленькими девочками через всю страну ("Бумажная луна", "Алиса в городах") чреваты не только тематическими, но и, разумеется, сюжетными и фабульными перекличками. Равно как и взаимоотношения со всевозможными порождениями потустороннего мира. Поэтому основополагающим организационным принципом, как при переходе от первой главы ко второй, так и в общем строении диссертации, станет принцип количественный: от героя одиночки к паре. Любовной, (варианты Ромео и Джульетты) или накрепко спаянных сыщиков-воров; шерифов-гангстеров. Всевозможные приятели, "скованные одной цепью", на которых зиждется жанр "buddy cinema", неизбежно также окажутся в сфере анализа этой главы.
Если жанр фильма-путешествия, корнями уходящего в рыцарский и плутовской романы, с одной стороны, и сказочную среду - с другой (какой сказочный герой не отправлялся в путь за живой водой, в поисках спящей красавцы или просто - туда, не знаю куда...) чрезвычайно соответствует кинематографу в силу динамизма этого вида искусства, то не меньшей популярностью пользуется и более статичный, романно-театральный жанр семейных драм. Здесь интересна антитеза испанских метафорических семей-кострукций, каждый член которой являет собой символ то ли пороков человеческих, то ли общественных институтов ("Анна и волки", "Демоны в саду", "Выкорми воронов" и пр.) и чисто реалистических драм, погружающих в бездны психоанализа ("В постели с врагом", "Война в семействе Роуз", "Роковое влечение").
Рассматривая схожие фабульные построения невозможно не заметить, как выстраивается определенная киноиконография, в чем-то варьируясь, в чем-то оставаясь неизменной. Как ни странно, события и обстоятельства жизни реальных исторических персонажей и даже их характеры в киноверсиях сталкиваются со значительно более вольной авторской интерпретацией, нежели фольклорно-литературные герои. Так, судьба Ромео и Джульетты, проделав путь от средневековья до современности в "Истории любви" или в "Вестсайдской истории", и даже будучи опрокинута в быт испанских цыган в картине "Монтойос и
Тарантос", по сути, остается неизменной. То же можно сказать о Дон Кихоте или Дон Жуане, Робин Гуде, Зорро и, конечно, Кармен.
В заключающей главе исследования речь пойдет о фильмах, в которых уже рассмотренные темы, сюжеты, персонажи сталкиваются на первый взгляд в хаотичном хороводе, организующим началом которого служит личность автора.
Фильмы, приоткрывающие завесу над лабораторией художественного творчества, давно стали распространенным сюжетом в кино. Имея предтечу в литературе, они прочно утвердились в экранном искусстве и в силу идеального соответствия изобразительной образности кинематографа и данной тематики; и в силу конъюнктуры - неослабевающей популярности темы у зрителя, всегда любопытного до закулисных подробностей жизни людей искусства; и в силу творческой потребности художника в исповедальности. Вслед за литературой в ряде фильмов авторы впустили зрителя в творческую лабораторию писателей («Элиза, жизнь моя», «Проведение»), режиссеров театра и кино («Кармен», «8 Уг»), фотографа («Фотоувеличение»). Вымышленные персонажи-творцы, с помощью которых авторы данных произведений не только исповедуются, посвящая "непризванных" в закулисные тайны творческого процесса, но и рассказывают этим "непризванным" о них самих, скрытых в них возможностях и инстинктах, нередко отождествляются с реальными создателями этих картин.
Существуют фильмы и в самом деле биографические, автобиографические или наполненные достаточно отстраненным содержанием, чьим создателям нет нужды прибегать к помощи некоего вымышленного персонажа-посредника между ними и аудиторией. Их собственный мир воспоминаний, чувствований, творческих поисков, на первый взгляд формально обрывочный и нестройный, складывается в насыщенную картину творчества и жизни художника, как это произошло в "Зеркале" А.Тарковского, или в неожиданном, непривычном опыте экранизации записных книжек или ежедневника - так можно определить жанр фильма Годара "Спасайся, кто может!".
Жанр фильмов о художественном творчестве, несмотря на свою литературную предысторию, наиболее органично вписывается в кинематографическую структуру еще и потому, что чисто кинематографические приемы - монтаж, раздельные запись звука и изображения, рапид, повторы и т.п. - идеальная форма для наполнения ее данным содержанием. Ведь человеческая память, муки творчества, поиски, неудачи, находки, весь внутренний мир человека и творца, что это, как не заснятый материал, собранный в яуфы и ожидающий своего часа в монтажной? И не являются ли картины о творческих лабораториях художника наиболее "чистым" вариантом бродячего сюжета в кино?
Из сказанного выше следует, что история бродячих сюжетов в кино, хотя и опирается в значительной степени на "историю ремейков"6, к одним только ремейкам не сводится, находя выражение в самых разнообразных структурных и композиционных построениях. Их исследование в историческом аспекте позволяет выявить как различие национальных модификаций, так и стабильные компоненты, являющиеся составляющими языка кино.
Предметом настоящего исследования является история зарубежного кинематографа, рассмотренная с точки зрения совпадения и пересечения смысловых структур, носящих как собственно кинематографический характер, так и заимствованных киноискусством из смежных источников.
Материал зарубежного кинематографа представляется особенно интересным в контексте обозначенной в исследовании темы, поскольку тематико-сюжетные совпадения, характерные для произведений искусства на разных этапах, дают богатую пищу для размышлений в области компаративистики. Правда, анализ пересечений в кинематографе, искусстве XX века, со свойственными ему тесными контактами и взаимовлиянием культур, быть может, не столь богат неожиданностями, как выявление аналогичной проблематики в литературе средневековья, где сюжетные совпадения фольклора и даже авторских произведений в культурах далеких стран дают возможности для противоречивых выводов, построений и теорий. Однако заявленная в диссертации тема, как нам представляется, дает новые возможности для сравнительных исследований. Тем более что помимо многочисленных заимствований из литературы, фольклора и мифологии, кино успело обрасти и собственными «сюжетами», связанными с монтажом, актерской игрой, гримом, звуком и т.п.
Иными словами, основная сложность исследования заключается в том, что собственно бродячие сюжеты в кинематографе невозможно свести исключительно к литературным, фабульным построениям. Здесь «сюжет» целесообразно рассматривать в переносном, более широком смысле, ибо он вбирает в себя и монтажные, и тематические, и жанровые пересечения, равно как и сценографические. Сходства возникают на уровне актерских решений, музыкальных композиций и даже в выборе грима; синтетическая природа кино неизбежно диктует синтетическую же природу анализа составляющих его элементов.
Выявление, сопоставление и классификация определенных базовых элементов киноязыка на основе сюжетосложения представляет центральную цель данной работы.
В связи с обозначенной целью перед диссертантом с неизбежностью возник ряд параллельных задач, обусловленных необходимостью вычленения этих элементов из необозримого пласта истории мирового кинематографа, определения основного принципа их группировки и соотнесения их с традиционным искусствоведческим исследованием данной проблемы.
Сравнение или компаративистика издавна используется отечественным и зарубежным литературоведением как распространенный и удобный исследовательский механизм. Большое внимание уделяли сравнительному литературоведению те же В.Н.Веселовский и В.М.Жирмунский, который в частности писал: «...сравнение, т.е. установление сходств и различий между историческими явлениями и историческое их объяснение, представляет не особый научный метод в собственном смысле (поскольку различие методов - это различие теоретических принципов научного исследования, обусловленных мировоззрением данного научного направления), сравнение лишь методический прием, который может применяться с разными целями и в рамках разных методов, однако, является необходимым для всякой исследовательской работы в области исторических наук» .
Компаративистика отнюдь не является прерогативой литературоведения, она используется в языкознании, структурной лингвистике, в искусствоведении, в ряде исторических наук. Широко применяется сравнительный анализ и в киноведении, в первую очередь для выявления сходств и различий определенных структур, что в свою очередь позволяет делать выводы в отношении составляющих киноязыка.
Проблема классификации бродячих сюжетов в кино может рассматриваться в различных аспектах. Здесь возможен исторический подход, с точки зрения распространенности тех или иных сюжетов на разных этапах развития кинематографа. Данный вариант был отвергнут, в связи с недостаточно длительным периодом киноистории как таковой. На протяжении всего одного века существования кинематографа еще невозможно достоверно определить, какие моменты его истории можно рассматривать с точки зрения законов развития данного искусства, а какие представляют собой лишь цепь случайных совпадений. В то же время исторический подход к анализу темы естественно присутствует в работе, хотя и не является основополагающим принципом ее построения.
Другим возможным способом обобщения материала было рассмотрение специфики бродячих сюжетов в рамках отдельно взятой кинематографии. Такой узко национальный подход также не представился автору продуктивным, поскольку рассмотрение бродячих сюжетов наиболее интересно как раз с точки зрения сопоставления и противопоставления их решений в культурах разных стран. И, наконец, диссертант сознательно отказался, насколько это было возможно, от типологически компаративных сопоставлений сюжетов, поскольку перспектива обращения к данной проблеме представляется возможной лишь после выявления и классификации основных сюжетов, бытующих в кинематографе. 11 Литературная энциклопедия.Худ.лит. М.,1939, т. 11, стр. 151-152
По определению Бранислава Малиновского в кн. Myth in Primitive Psychology. New York: Norton, 1926 по кн. Phychology in a New Key. Cambridge: Harvard University Press, 1957, p.26-52 4Wead/Lellis.Film: Form and Function, 1981, p.204-205. The Structuralists: From Marx to Lvi-Strauss, ed. Richard and Fernand De George, New York: Doubleday, 1972, pp. 175-194
Автор настаивает именно на таком написании «рЕмейк», поскольку слово это, как и его аналоги, типа рЕконструкции, рЕволюции, рЕинкарнации и пр. опирается на приставку РЕ, т.е. передел, сделанное снова, по-новому. Написание же рИмейк ни на что не опирается.
Жирмунский. В.M Сравнительное литературоведение. JI. Наука., 1979, с. 185
Странствия Кармен
Бедная и благородная девушка, обладательница незаурядной внешности, артистического и певческого талантов, благодаря стечению обстоятельств, становится знаменитой, но... в результате пожара теряет зрение. Она - предмет любви богатого и красивого, но... женатого героя. Его вдовство, ее прозрение, хэппи-энд. Сказка? Слишком много сюжетов для небольшого рассказа? Всего лишь мелодрама "Мое последнее танго", снятая не склонными к лаконичности испанцами.
Но и по другую сторону Атлантики в более лапидарных американских версиях, в центре которых оказываются девицы разнообразных профессий, пробивающиеся к успеху и счастью, этот популярный жанр аккумулирует сказку о Золушке, в которой присутствуют все компоненты мелодрамы. При этом спор о первичности яйца и курицы здесь явно неуместен, поскольку сказка, конечно, возникла раньше мелодрамы, но это не имеет никакого значения.
Сказка о скромной и хорошей девочке, вознагражденной за трудолюбие и доброту, чрезвычайно популярна в кинематографе. Она возникала множество раз в "чистом" виде, начиная с мельесовской феерии 1899 года и английского фильма "Золушка и волшебная крестная", до знаменитого диснеевского мультика или воспитывающей все поколения послевоенных детей отечественной "Золушки" (1947).
Недавно она появилась в осовремененной версии режиссера Т.Клегга "Если башмачок впору". Кинематограф, несомненно, пленила мелодраматическая конструкция сюжета о Золушке, тем более что конструкция эта, при всей своей фабульной жесткости оказалась достаточно гибкой, когда речь зашла о пространственных и временных границах. Путешествуя через века, обосновываясь в разных странах, маленькая Сандрильона не всегда теряет башмачок, но всегда находит счастье по случаю. Таким образом, сказка обретает иконографические черты мифологемы. Или, не забредая в дебри теоретических джунглей, всего-навсего - бродячего сюжета.
В кинематографе более склонных к мечтательности, нежели к трудолюбию испанцев, например, миф Золушки нашел воплощение в так называемой "лотерейной тематике", когда бедная девушка или парень, а то и вместе - "Счастливая парочка" назывался фильм Бардема и Берланги - по мановению волшебной палочки выигрывали целое состояние. Впрочем, дебют двух испанских "шестидесятников", почти тридцать лет определявших судьбу национального кино, не был для них типичен. Гораздо больше их волновала тема несбыточности иллюзий, восходящая к роману Сервантеса. Они рассказывали о крушении надежд своих героев, надежд то и дело сбывавшихся в расхожем коммерческом кино, где персонажи получали наследства, становились ни с того ни с сего знаменитыми, или чаще всего выигрывали в лотерею.
Молодые испанские режиссеры, пришедшие в кино в конце 50-х - начале 60-х, не верили в "счастье по случаю". Не верили они и в успех и богатство по труду. В "единственной стране, где смерть стала национальным зрелищем" /Лорка/, а коррида - естественной заменой спортивной карьеры итальянских, французских или английских героев, тореадоры - испанская версия самих себя сделавших персонажей - продавали не просто свое мастерство, силы, тело, но и саму жизнь.
Тема корриды в испанском кино с момента его зарождения считалась наиболее киногеничным воплощением национальной специфики и получила широкое распространение, как в документальном, так и в художественном кино. На фестивале в Сан-Себастьяне в 1963 году была даже организована специальная ретроспектива "Быки и тореро на экране", а киновед К. Фернандес Куэнка написал по этому случаю брошюру, в которой превозносил «борьбу человека с быком, искусство человека против дикой силы». «Быки - это фольклор, идеальная фиеста, трюк, драма, насилие, усталость, искусство, мужество, поражение, удушье, страх, сила, падение, триумф, интеллект, страсть...», - писал он.
Но коррида привлекала молодых режиссеров не живописной зрелищной стороной (сам бой быков если и возникал на экране, то лишь для обозначения профессии героев) и не метафоричностью образа быка, привычной для испанской культуры: «В испанском фольклоре бык - самый распространенный и многозначный символ, вмещающий в себя и ярость (у Федерико Гарсия Лорки «Неистовый бык раздора бросается на обломки»), и смерть (также у Лорки «О, средь белых стен испанских черные быки печали!»), и чаще всего сексуальную страсть (у Лорки же в «Касиде о сне под открытым небом»: "Девушка притворилась быком из жасмина, а бык - кровоточащий ревущий сумрак").
Бой быков на испанском экране превратился в своеобразную антизолушку. По мере того, как одно крыло национального кинематографа прославляло тавромахию, а его оппоненты задумывались над тем, что было бы, если бы посланники принца не нашли бы Золушку, или башмачок оказался бы впору другой - ее сестре, например, или... Вариантов много, суть одна: испанская золушка-тореро оказывается у разбитого корыта. Пока они молоды, они рискуют жизнью на потеху публике (а как еще выйти в люди бедному, физически развитому, но необразованному молодому человеку?). Состарившись, они выходят в тираж и не интересуют больше никого.
Это позднее Педро Альмодовар в "Матадоре" вернет дуэту быка- тореро первоначально символичное звучание и даже обогатит его эротическими обертонами. Для него бой быков - прообраз любовной игры, в которой движение по кругу, соединяющее страсть и смерть, служит поводырем в поисках смысла жизни. Бык и круг, бык и луна, луна, закрывающая солнце в момент совокупления двух людей, слившихся для зачатия новой жизни. Издревле луна и бык несли в себе символичный смысл. В культуре Средиземноморья бык олицетворял луну; Осирис, бог луны представал в виде быка; Венера строила свой дворец в полнолуние и под знаком Быка, который вообще считается знаком Луны, его связь с ночью нерасторжима. Первая буква иврита, Алеф, означает быка, нарождающийся месяц и знак зодиака, открывающий лунный цикл. Но астрологические перспективы посетят испанский экран уже в 70-е годы.
Последние императоры
Феномен Кармен состоит в том, что она сохраняет все присущие ей черты, даже попав в чуждую ей национальную среду. В фильме Любича причудливо сочетаются элементы немецкого бюргерского быта с экспрессионистической стилистикой. Общий план города, в который вступают войска, ничем не напоминает Севилью. Это скорее какой-нибудь Ваймар или Эрфурт - небольшой немецкий городок. И типы горожан, войска приветствующих, и типы крестьян, показанных Любичем, когда Хосе приезжает во вполне немецкую деревушку проведать невесту и мать - далеки от испанских. Они степенны, грубоваты и, судя по выражению лиц и "весовым категориям", вину и фруктам явно предпочитают сардельки и пиво. А костюмы участников корриды изрядно смахивают на тирольские. Авторы ленты немало не заботились о сохранении национальной достоверности и колорита; и только "драматургическая лень" связанная с необходимостью смены имен центральных персонажей, помешала им, по всей видимости, перенести действие в более привычные географические координаты.
Зато съестная лавка Лильяса Пастьи, превращенная Любичем в разбойничий притон, - окутанное дымкой строение, прогнившее, полуразвалившееся, грязное, с мрачными потеками на полу и стенах - свидетельствами творящихся здесь злодеяний. Обитатели притона - страшные вычурные фигуры - сродни персонажам "Кабинета доктора Калигари" или "Доктора Мабузе", которым суждено появиться на экране спустя несколько лет после фильма Любича. И в этой, столь несвойственной ей атмосфере пляшет свою сегидилью (между прочим, замененную Любичем на тарантеллу - танец легко узнаваем, несмотря на отсутствие музыки) Кармен.
Режиссер не придавал значения ни испанской, ни цыганской принадлежности героини. В его транскрипции миф утратил специфическую национальную окраску, но Кармен осталась прежней. Она по-прежнему соблазняет Хосе, изменяет ему и - умирает от руки возлюбленного, предпочитая смерть покорности. Оставаясь вольнолюбивой цыганкой в атмосфере немецкого экспрессионистического фильма, Кармен не только лишний раз подтверждает свою независимость, но и доказывает, что ее образ, столь тесно привязанный к Испании, способен перемещаться в любую часть света.
Это подтверждает и фильм Отто Прминджера "Кармен Джонс", где Кармен предстала негритянкой, заговорила на столь непривычном для нее английском языке и запела под столь же непривычную джазовую музыку, написанную Р.Беннетом для бродвейского мюзикла, повествующего о работнице парашютной фабрики, в годы второй мировой войны соблазнившей американского солдата и убитой им после ее измены с боксером. Но и в современных интерьерах, с черным цветом кожи, в атмосфере современной музыки Кармен остается прежней - неугомонной, лживой, изменчивой, прекрасной.
Если образ героини представляет собой некую константу - меняется лишь ее облик, то окружение Кармен, атмосфера действия фильмов о ней, снятых в разные годы в разных странах, варьируется до бесконечности. В картинах не только причудливо сочетаются элементы новеллы и оперы, они еще отражают художественную манеру, присущую тому или иному режиссеру.
Рядом с оперными Микаэлой и матерью Хозе присутствуют персонажи новеллы, муж Кармен Гарсия Кривой, старая Доротея, к которой на улицу Кандилехо приводила Кармен мужчин. Такая эклектика, свободное совмещение новеллы с оперой с одной стороны, подтверждает восприятие Кармен как "фольклора", с другой - связана с природой кинематографа. В опере, где бесконечная смена мест действия затруднила бы восприятие, воплощение и развитие, комната Доротеи, а с нею и сам персонаж были упразднены; события перенеслись в таверну Лильяса Пастьи, которая у Мериме обозначена как "съестная лавка". В кино же, столь вольно обращающимся с пространством, сохранились и интерьер дома, и сама старуха цыганка, представляющаяся чрезвычайно колоритной.
Вообще требование живописности объясняет ряд казалось бы незначительных изменений, которые претерпела новелла при переходе в иные виды искусства. Но вместе с тем реалистические зарисовки подлинного испанского и цыганского быта утрачивались, уступая место более экзотичным деталям. Акация, брошенная Кармен Хосе, сначала в опере, а затем в кино, превратилась в гвоздику. Знак, подаваемый Кармен контрабандистам при переходе через пролом - щелканье кастаньет - в немом кинематографе по понятным причинам сменил взмах платка, да так и сохранился в звуковых фильмах. Но вот такой естественный и одновременно живописный момент, очаровательная деталь, найденная Мериме для дополнительного штриха к характеру Кармен - ее танец с обломками единственной тарелки Доротеи, заменившими кастаньеты, - в фильмографии Кармен чаще всего опущен. С другой стороны в кинематографе случаются и собственные находки. Кристиан-Жак предлагает другую деталь-характеристику героини. Она снимает с руки убитого поручика перстень: "Мне всегда хотелось его иметь" своеобразное "последнее прости" над мертвым любовником. Кармен Мериме перстень не снимала, но Кармен Мериме могла бы его снять.
"Престижность профессии" заставила Бизе превратить пикадора Лукаса в тореадора Эскамильо, и кинематограф наследует эту традицию, совершенно не учитывая, что тореро в Испании - уважаемые члены общества, становящиеся любовниками знатных дам, не могут, тем более публично, на виду у всех, завести интрижку с цыганкой. В кино, с его стремлением к правдоподобию, связь тореадора с цыганкой выглядит куда более сомнительно, чем в условности оперы.
Кристиан-Жак оставляет Лукасу и имя и профессию пикадора и даже убивает его (у Мериме Лукас только ранен быком), нарушая устоявшийся оперный и кинематографический канон. В данном случае в первую очередь - кинематографический, поскольку к моменту выхода этой франко-итальянской копродукции в мировом кино уже стал традиционным финал, когда параллельный монтаж, соотнося гибель быка с гибелью Кармен, олицетворял растоптанные красоту, свободу, естественную силу, вольность. Бык и Кармен представали жертвами общества: он - его жажды развлечений, пусть кровавых, она - его условностей, стремления обуздать все непокорное, нестандартное, не укладывающееся в привычные рамки.
Почти ни одна картина о Кармен не обходится без эпизода настоящей корриды. Еще в немом кино сложился стереотип ее воспроизведения на экране: документальные кадры боя быков прерывались крупными планами актера, исполняющего тореадора; вот он прицеливается мулетой в камеру и - в следующем кадре падает заколотый настоящим тореро зверь. В фильме Кристиан-Жака нет триумфального завершения корриды, а сцену гибели Кармен с облюбованных кинематографом задворок арены боя быков режиссер перенес в поэтично окутанную туманом гористую местность, где, следуя Мериме, Хосе и похоронил ее под камнями.
Смена места действия, как и гибель пикадора, отвечают трактовке "Кармен", предложенной французским режиссером. Кармен у Мериме не боится ничего и ни во что не верит, только - в свою судьбу, и потому покорно идет на смерть. Ей ничего не стоило еще раз солгать Хосе, произнеси вымаливаемые им слова любви и спасти свою жизнь. Но Кармен знает, что от судьбы все равно не уйти и не хочет отсрочки.
Обычная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Уже не обыденной, а шуточной, пародийной интонацией отмечена сцена "корриды", которую на дне рождения Антонио исполняют двое его друзей. Весь этот эпизод пронизан импровизацией: спонтанно возникший танец Кристины, гортанные куплеты фламенко и - Кармен в простом платке, вместо мантильи, со сложенным в гармошку листом бумаги, вместо веера. Танцоры веселятся просто и естественно, как веселится простой люд, и из их веселых импровизаций рождается искусство фильма.
Испанская критика заявила, что картина Сауры "развенчивает миф Кармен". И это действительно так, если в "мифе Кармен" видеть только атрибуты "Испании для туристов" - с обязательными бубнами, кастаньетами, корридой, фламенко. Но Саура показывает глубинную суть этого "экспортного товара". Национальные традиции пронизывают характеры его героев, музыку, танцы. Завораживающие движения рук танцовщиков, дробное причудливое перестукивание кастаньет и каблуков погружают в глубь народной жизни, с ее страстями и мудростью, непосредственностью и чистотой. Сауре удалось то, к чему стремился Годар в "Имя: Кармен". Испанский режиссер нашел форму соединения классической культуры с современным искусством и народными традициями. Сюжет новеллы преломляется в сознании художника- хореографа, уступая место излюбленной кинематографической тематике, связанной с исследованием творческого процесса. Музыка оперы вливается в фламенко, демонстрируя свои народные истоки. Ведь не случайно из оперных фрагментов выбраны те, что интерпретируют испанскую музыку - хабанера, сегидилья. Как не случайно и исполнение фламенко под хабанеру Бизе.
На универсальном языке балета Саура и Гадес рассказывают о Кармен многое: о музыке, ее воспевшей, об ассоциациях, ее именем вызываемых, о ее судьбе. Но не Кармен становится центральным образом фильма, хотя его раскрытию посвящены как сцены из балета, так и "сцены из жизни" режиссера и его труппы. При этом две линии, на которые расслаивается картина, - непосредственный балет и то, что происходит за кулисами - не являются иллюстрациями по отношению друг к другу.
Сплетаясь в единое целое, они составляют основное действие ленты, главным персонажем которой остается постановщик Антонио. Приподнимая завесу над творческой лабораторией художника, Саура повествует о тяготах и муках творчества и о том, как сложен путь к подлинным вершинам искусства.
Тема будущего балета непосредственно входит в жизнь Антонио - исполнителя партии Хосе. Антонио как бы наследует трагическую любовь Хосе к Кармен, и история этой любви, покидая подмостки, претворяется в его жизни. Изменчивая и лживая Кармен буквально изводит своего возлюбленного на сцене и за кулисами, но именно его любовь к ней питает воображение художника, заставляя изобретать все новые и новые эпизоды балета. Яркие, красочные, виртуозно задуманные и исполненные, как, например, сцена на табачной фабрике, они поначалу далеки от собственных переживаний Антонио. Однако по мере нарастания его любви и ревности к Кармен, они все больше и больше начинают отражать чувства героя (в сцене соблазнения, в сцене игры в карты), пока не найдут своего разрешения в финальной сцене убийства, столь искусно поставленной, что невозможно понять, произошло ли оно в балете или в реальной действительности. Объединив две центральные линии картины в финале, Саура дает понять, что подлинный художник неизбежно переживает все происходящее с его героями. Эта мысль подготовлена двумя сценами-"мышеловками", в которых балетная драматургия достигает шекспировских высот.
Севилья. 1830 год. Табачная фабрика. Антонио призывает участниц сцены ощутить - и передать невыносимый летний зной, раскаливший нервы, пробудивший страсти. Медленно нарастает ритм фламенко; хриплые голоса певиц, будто раскачиваясь, набирают силу, приободренные хлопками. Ссора Кармен с Кристиной. Драка. Удар ножа. Все передано балетными па, но балет в стиле фламенко тем и отличается от классического, что все в нем такое земное, настоящее, жизненное. И ведь накануне репетиции Антонио с хладнокровием, говорящем о жестокости мира искусства, сказал Кристине, ведущей балерине труппы: "Ты - лучшая танцовщица. Но мне нужна более молодая". Помня об этой фразе, невольно отбивая вслед за ними ритм, зритель уже готов поверить в реальность убийства Кристины в танце. Но - хлопок в ладоши, небрежно брошенное Антонио "Все свободны" снимают напряжение эпизода.
Во второй сцене балет и действительность связаны еще теснее. Саура умышленно нагнетает ситуацию, подготавливая двойственное прочтение финала. Кармен знакомит Антонио с вышедшим из тюрьмы мужем. Игра в карты. Ссора из-за шулерства. И - новая драка, на этот раз - мужчин. В новелле Хосе убивал Гарсию Кривого ножом. Но сцену драки на ножах Гадес уже использовал и в своем предыдущем балете, "Кровавая свадьба" и в сцене на табачной фабрике. В "Кармен" ножи заменяют "макхилас" - баскские посохи с железными набалдашниками, которыми Хосе дрался у себя на родине и которые Мериме называл "макилы". Таким образом, замена, произведенная Гадесом, указывает на национальность героя и одновременно сообщает танцу экспрессивную агрессию. В драке на ножах вся сила спрятана, она затаилась в плавных, хищных движениях и ждет своего часа, чтобы нанести последний удар. В драке на палках она выплескивается наружу. В дикой злобе, позабыв обо всем, рубит Хосе- Антонио своей макхилас. Падает поверженный соперник. Пауза. И вот уже Антонио-Хосе протягивает руку, помогая подняться партнеру. Будто два человека уживаются в хореографе. Только что он представал в зверином обличье мистера Хайда, а сейчас - благопристойный доктор Джекиль. Но знаменательна фраза, произнесенная Пако де Лусиа после репетиции: "Что с тобой, Антонио? Ты ведь мог его убить..."
Слова гитариста - не просто доказательство подлинности переживаний Антонио, виртуозно переданных в танце. Это - своеобразный намек: неожиданный, жестокий Антонио действительно способен заколоть Кармен. Сцена драки на палках, фраза Пако - новые ловушки, стоящие на пути к финальной загадке, так и не объясненной Саурой. Где-то на задворках репетиционного зала, спокойно, даже буднично наносит Антонио-Хосе свой удар ножом. В балете? В фильме? Какое это имеет значение? Ведь Кармен возродится вновь... В иных костюмах, возможно под иными именами, в уже знакомых ей видах искусства и в новых, она проживет свою судьбу, позволяя художникам, рассказывая о себе, говорить и о том, что волнует их в жизни.
Сотворение Титаника
Не подозревая об этом, западный экран ограничивал сферу деятельности спецслужб привычными - для них - областями: разведкой и контрразведкой. Так что на фоне отечественной мемуарной литературы фантазии зарубежных кинематографистов выглядят не очернительством, а лакировкой, ибо на деле достойны не детективов и триллеров, а - сатиры, жанра куда более убийственного.
И это при том, что в модели сотрудника КГБ по-американски трудно найти человеческие черты. Скорее это знаки, символы в довольно несложной иерархии ценностей. Несложной прежде всего потому, что фильмы, в которых они появлялись, чаще всего были обращены к некоему усредненному зрителю-обывателю с достаточно примитивным мышлением. Да и жанровая специфика триллера - наиболее распространенной среды обитания агента КГБ - обусловливала не слишком серьезное отношение к противнику, которому все равно так или иначе, суждено потерпеть поражение. Из фильма в фильм кочевала знакомая символика, соотносящая отрицательных персонажей с Советским Союзом: акцент, роботообразная пластика, пыжиковые шапки, каракулевые воротники, черные "Волги" ("у КГБ, может, машины и получше, но они не всегда доставят вас куда вам надо".- бросает разъезжающий в "Жигулях" следователь прокуратуры из "Парка Горького")... Эта знаковость часто сочеталась с привычными для американцев представлениями о злодеях - монстрах и чудовищах из сказок и комиксов. Совмещаясь в сознании со злом привычным, но - абстрактным, враг конкретизировался, персонифицировался в некое "советское чудище" и тем самым идея "красной угрозы" внедрялась на уровне подкорки, подсознания. Примерно тот же принцип использовался и в советском кинематографе, когда на экране возникали агенты иностранных разведок. Превращение политического врага в огнедышащего дракона - испытанный пропагандистский прием.
В зависимости от международной обстановки и страны, производящей картину, "зло" меняет акцент, цвет кожи, внешний облик, а суть остается: отрицательные безликие знаки вступают в борьбу со столь же безликими, хоть и слегка индивидуализированными знаками положительными. И если "своим" еще полагались маленькие человеческие слабости, то врагам не позволялось ничего. Таковы рычаги действия, в котором принцип достоверности давно уступил место принципу узнаваемости. Меняются лишь стороны и страны. Всевозможные майоры Гоголи и полковники Пушкины присутствуют в зарубежных картинах не из-за плохого знания авторами отечественной действительности - хотя, скорее всего они ее знают неважно; им и не нужно это: зловещий СССР предельно обобщен и не нуждался в детализации. А сознанию зрителя- обывателя фамилии Пушкина и Гоголя говорили несравнимо больше, чем, скажем, Ягоды.
Вообще же отношение к службам государственной безопасности разграничивается на бытовом и художественном уровнях. Обывательское сознание в рамках каждой системы в зависимости от социальной принадлежности и мировоззрения воспринимают ЦРУ или КГБ либо как защитника, либо как некую угрозу своему существованию. В произведениях искусства же спецслужбы и их агенты введены в некую фольклорно-сказочную систему координат, олицетворяя собой свои - добро, чужие - зло, порой в пародиях, порой - всерьез. И если на бытовом уровне средства массовой информации доносили и доносят реальный портрет, и даже автопортрет КГБ и его сотрудников, то аналогичного портрета в художественном кинематографе, ни в нашем, ни в зарубежном пока не появилось.
Более того, происходит некое отставание зрительского восприятия: зверства, невежество, некомпетентность агентов КГБ воспринимаются как нечто ирреальное, хотя свидетельские показания не только все подтверждают, но зачастую оказываются и более жестокими. Видимо это происходит оттого, что даже те, кто на личном опыте сталкивались со спецслужбами, воспринимают их представителей, отображенных в зеркале зарубежного кинематографа, не совсем всерьез, и в первую очередь потому, что их и показывают с известной долей иронии. Принцип "пугать, но не запугивать", кажется, сохраняет свою дееспособность в том виде, в каком появился на свет, своим рождением обязанный фильмам о Джеймсе Бонде, которому на протяжении более четверти века (первый фильм о нем был снят в 1962 году) пришлось чуть ли не в одиночку нести на своих плечах борьбу с киноагентами кинокэгэбэ. Любопытно, впрочем, что при огромном внешнем различии - не только по акценту и одежке, нередко даже по походке можно отличить агента КГБ от агента ЦРУ и "Интеллиджент сервис" - у них немало общего и в методах и в средствах борьбы. Это профессиональное сходство при национальных различиях не осталось незамеченным в фильмах разных жанров: несколько старомодном, полусерьезном, полукомичном исследовании иммигрантства в "Москве на Гудзоне"; приключенческом триллере "Парк Горького". Об этом свидетельствует уже одно название картины Д.Лэндиса "Шпионы как мы". И речь в ней - о том же. Американские спецслужбы направляют двух диверсантов на советскую военную базу, расположенную под Душанбе, с целью организовать провокационный запуск ракеты, направленной в сторону США, и развязать, тем самым, ответные военные действия.
Ситуация вполне представляемая: третью мировую войну начать несложно, и никто не знает, что послужит толчком к ней - случайность, ошибка усталого оператора ракетной установки ("Письма мертвого человека"), происки взбесившегося военного ("Доктор Стрэнджлав"), непредсказуемые "игры" малой державы ("На берегу") или запланированная провокация державы большой, как это происходит в "Шпионах как мы". Кстати, подобную акцию могла бы организовать и противоположная сторона - ничего бы в сюжете и действиях героев от этого не изменилось, они просто поменялись бы местами.
Итак, готовятся две пары диверсантов - настоящая и подставная, для отвода глаз. Приключения второй двойки и составляют основную коллизию фильма. Их поступки непредсказуемы, они дилетанты, неумехи, играют не по правилам, но, как и положено в комедии, всегда выходят сухими из воды. Однако в ситуации скрыта не только развлекательная, но и пропагандистская задача. Их шпионы - безобидные наивные чудаки, наши - опытные жестокие супермены. А удается все им, а не нам...