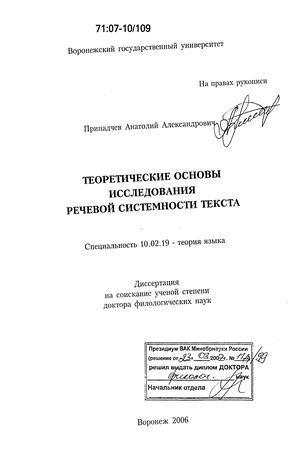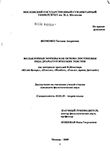Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Речевая системность текста жанровой формы плача 57
1. Речевая системность текста "плач князя Бориса" 58
2. Речевая системность текста "плач князя Глеба" 112
3. Речевая системность текста "плач слуг князя Святополка" 164
Глава 2. Речевая системность текста жанровой формы молитвы 211
1. Речевая системность текста "молитва князя Бориса" 212
2. Речевая системность текста "молитва князя Глеба" 271
3. Речевая системность текста "молитва автора" 323
Заключение 407
Список использованной литературы 410
- Речевая системность текста "плач князя Бориса"
- Речевая системность текста "плач слуг князя Святополка"
- Речевая системность текста "молитва князя Бориса"
- Речевая системность текста "молитва автора"
Введение к работе
Диссертационное исследование посвящено разработке теоретических принципов выявления системности в речи.
Объектом исследования в данной работе является текст.
Предметом исследования выступает речевая системность текста.
Цель исследования — дать теоретическое обоснование ключевого понятия теории речи — речевой системности.
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
выявить факторы системообразования в речевой организации разных текстов;
выявить принципы системообразования в речевой организации разных текстов;
разработать терминологический аппарат описания речевой системности;
описать речевую системность конкретных текстов с использованием разработанного теоретического аппарата.
Теоретической базой исследования выступают работы по теории текста (О. С. Ахманова, Е. Б. Артеменко, Н. Г. Алексеев, А. Г. Баранов, Р. Барт, Т. М. Баталова, М. М. Бахтин, А. И. Белич, И. Беллерт, Е. Бенеш, К. Боост, М. П. Бран-дес, Л. А. Булаховский, Ф. И. Буслаев, Н. С. Валгина, В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, Т. В. Гамкрелидзе, К. Гаузенблаз, Д. П. Горский, Л. Дедерлайн, Т. А. ван Дейк, В. Дресслер, М. Я. Дымарский, А. А. Залевская, Г. Зайлер, Г. А. Золотова, Вяч. Вс. Иванов, X. Изенберг, Р. Карнап, О.Л.Каменская, Н. С. Ковалев, К. Кожевникова, В. В. Колесов, Н. И. Кондаков, Д. С. Лихачев, М. В. Ломоносов, Л. М. Лосева, О. И. Москальская, Т. М. Николаева, Л. В. Орлова, Б. Палек, А. М .Пешковский, В. Б. Пикет, Н. С. Поспелов, А. А. Потебня, М. Пфютце, Е. А. Реферовская, Д. Э. Розенталь, П. Сгалл, И. П. Севбо, И. Н. Семенов, Т. И. Сильман, Е. Д. Смирнова, Г. Я. Солганик, Л. Стеннес, П. В. Тава-нец, Ц. Тодоров, 3. Я. Тураева, И. А. Фигуровский, Г. П. Федотов, Г. Фреге, К. Э. Хайдольф, Р. Харвег, А. Черч, 3. Й. Шмидт, Л. В. Щерба и другие) и по проблемам языка и речи, системности и знаковое (Э. Бенвенист, И. А. Бо-дуэн де Куртенэ, А. Гардинер, В. А. Звегинцев, Е. С. Кубрякова, А. А. Леонтьев,
Т. П. Ломтев, В. Матезиус, Г. П. Мельников, 3. Д. Попова, А. А. Реформатский, Е. В. Сидоров, В. М. Солнцев, Ф. де Соссюр, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, Н. С. Трубецкой, А. А. Холодович и другие).
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки теории речи как науки о системности речи. В то время как наука о системности языка (теория языка) существует, имеет необходимый терминологический аппарат и методику, наука о системности речи делает еще только первые шаги.
Теоретическая новизна исследования состоит в том, что в нем сформулировано понятие системности речи, выявлены и описаны факторы и принципы системообразования в речи, выявлены семантико-структурные модели строения текста, уровни, отношения и функции единиц речи в тексте.
Материалом исследования являются древнерусские тексты жанровых форм плача и молитвы. Они сопоставляются с текстами других жанров иі форм. Всего исследовано более 50 текстов. Выбор исторического материала продиктован, с одной стороны, потребностью апробации разработанной автором концепции на типах текста, широко не изучавшихся в современной лингвистике, а с другой стороны, стремлением продемонстрировать универсальность выявленных механизмов системообразования в речи, применимость, теоретических постулатов автора к разнообразному текстовому материалу.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в курсах по общему языкознанию, исторической грамматике и истории русского литературного языка, в спецкурсах по проблемам современной и исторической лингвистики текста, в учебных пособиях и методических разработках для вузовского и школьного преподавания.
На защиту выносятся следующие положения:
Основной принцип существования системы языка - дифференцирующее означивание; основной принцип существования системы речи - сходное означивание.
Необходимо теоретически разграничивать понятия системообразова-ние, системность и система. В теории языка системообразование, системность и система моделируются, в теории речи выявляются.
3. В речи действует совокупность особых системообразующих факторов
и принципов, которые обеспечивают основу речевого системообразования.
Факторами системообразования в речи являются: центрация речевого про
странства, невекторность речевого времени, формирование семантического «раз
реза», тематическая модификация синтагмы, сходное означивание.
Принципами речевого системообразования выступают: нейтрализация локальных значений релятивов темпоральными, разных смыслов единым содержательным «мотивом», языковых значений полнозначных слов речевыми релятивными значениями, языкового различительного означивания сходным речевым.
Формирование речевой системности происходит в результате процесса нейтрализации языкового, основанного на различительном означивании, и формирования речевого, основанного на сходном означивании. Базовым меха-t низмом перевода системы языка в систему речи выступает нейтрализация языкового различительного означивания денотатов сходным речевым.
Выявление речевой системности требует обращения к комплексу ис-' следовательских процедур и методов, которые адекватны речи как предмету исследования. Основные из этих методов следующие: ретроспективно-семан-, тический, внутрижанрово-сопоставительный, межжанрово-сопоставительный, интерпретационно-переводный (транслятологический), проспективно-сопоставительный, горизонтально-аналитический, вертикально-аналитический.
Терминологический аппарат описания речевой системности может быть представлен следующим образом: текст; фактор речевого системообразования; принцип речевого системообразования; функционально-семантические категории пространства, времени; модусы (измерения) пространства, времени; центрация семантического пространства; невекторность речевого времени; семантический "фокус", семантическая фокусировка текста; семантический "разрез" текста; вертикаль текста; горизонталь текста; синтагма, тема и рема синтагмы; серия речевых единиц; нейтрализация языковых смыслов, значений и значимостей; семантика текста; смыслы текста; активность-инактивность денотата текста; центростремителыюсть — центробежность действия; направ-
ленность — ненаправленность действия; версионность — неверсионность действия; неотчуждаемая — отчуждаемая принадлежность; операционный регистр текста; рефлексивный регистр текста; личностный регистр текста; предметный регистр текста; понятийный регистр текста; модель текста; способы организации семантического пространства текста: антропоцентрический; факто-центрический; темпоцентрический; логоцентрический; аксиоцентрический.
Данный терминологический аппарат позволяет непротиворечиво описать речевую системность текстов всех типов.
7. Существующая в современной лингвистике теория языка должна быть дополнена теорией речи; центральным в теории языка является системный аспект языка, центральным в теории речи является системный аспект речи.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 36 публикациях, в том числе в 3 монографиях (Иерархическая организация синтаксической системы древнерусского книжного языка XI —ХШ вв. (в аспекте отражения категории времени). Воронеж, 1986; Гносеология, прагматика и семантика в диахронии синтаксиса текста. Воронеж, 1992; Проблемы исторической лингвистики текста. Воронеж, 2004), в 4 учебных пособиях (Сравнительная фонетика славянских языков. Воронеж, 1994; Историческая грамматика русского языка: Теория. Воронеж, 1996; Историческая грамматика русского языка: Анализ текстов. Воронеж, 1999; История русского литературного языка. Воронеж, 2005). Об отдельных этапах работы сообщалось в статьях: Текст как поле взаимодействия системы языка и речи / Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2006, № 1; От системы языка к тексту // Русский синтаксис в лингвистике третьего тысячелетия: Материалы международной конференции. Воронеж, 2006 и др., спецкурсах. Содержание работы обсуждалось на заседании кафедры общего языкознания и стилистики ВГУ, в докладах и сообщениях на более чем 20 международных, российских, межвузовских и внутривузовских конференциях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
7 К ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ВОПРОСА
На рубеже XIX—XX веков происходит становление общего языковедения (Бодуэн де Куртенэ, 1969, с. 47 — 77), или общей лингвистики (Соссюр, 1977, с. 31—274). Она распадается на две части: теорию языка и теорию речи. Как пишет А. А. Холодович, "Соссюру удалось изложить, и при этом дважды, только теорию языка. Теория речи так никогда и не была прочитана. Нам даже неизвестно, каким образом Соссюр собирался развить эту вторую, важнейшую часть внутренней лингвистики" (Холодович, 1977, с. 22).
В течение XX столетия наиболее обсуждаемыми в теории языка были следующие понятия: семиотическая природа языка (различительное означивание), уровни языка (фонологический, морфологический, лексический, синтаксический), отношения единиц языка (синонимия, дублетность, омонимия, антонимия и др.), принципы языка (знаковость слова, произвольность знака, линейный характер означающего), функции языка (коммуникативная и др.). Важным результатом развития теории языка стало его понимание как системы, обнаруживающейся благодаря структуре, отношениям и функциям ее элементов (Матезиус, 1960, с. 86—91; Солнцев, 1971; Кубрякова, Мельников, 1972, с. 8—83; Попова, Стернин, 2004, с. 98—152 и др.).
Во второй половине XX века начинает формироваться теория речи. Первый шаг в этом направлении сделала психолингвистика. Она определила предмет теории речи (речевую деятельность) и выявила модели порождения, фазы реализации и модели восприятия речи (Леонтьев, 1965, с. 7—82; Зимняя, 1976, с. 5 — 33; Залевская, 2005, с. 388 и др.). Существенным на этом этапе оказалось признание речевых механизмов отличающимися от языковых. По словам А. А. Леонтьева, "современные данные о строении речевой способности <...> приводят нас к выводу о том, что речевой механизм человека (в широком смысле) организован не как точное подобие модели языка, а иначе — как именно, мы не можем пока в деталях установить, но во всяком случае специфическим образом" (Леонтьев, 1968, с. 22—23).
Второй шаг в сторону теории речи сделала теория текста (Сидоров, 1987, с. 42—126; Валгина, 2003, с. 7—11). Она установила объект теории
речи (текст) и стала осмыслять его как процесс и результат речевой деятельности.
Существенным этапом формирования теории речи становится выявление речевой системности конкретного текста через факторы, принципы, семан-тико-структурные модели его строения, структуру, отношения и функции элементов речи.
Ясно, что как теория языка, так и теория речи создается при обнаружении системности языковых и речевых явлений. Естественным полем взаимодействия языка и речи и выражением потенциальной, моделируемой системы языка и реальной системы речи выступает текст.
Определения текста. Филологическая научная мысль XX века обязана программой состоявшихся и будущих исследований выдающемуся ученому Ф. де Соссюру. В части лингвистики языка эта программа уже получила после- \ довательную очерченность в широко известном понятийном графе, важнейшие составляющие которого таковы.
Определен предмет лингвистики — язык: «Язык ... является социальным продуктом, совокупностью необходимых условий, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой дея-. телыюсти, существующей у каждого носителя языка» (Соссюр, 1977, с. 47 — 48).
Высвечена знаковая природа языка и его системный характер: «Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнить с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т.д. и т.п. Он только наиважнейшая из этих систем» (Соссюр, 1977, с. 54).
Сформулирована дефиниция знака: это целое, являющееся результатом ассоциации означающего (= акустического образа) и означаемого (= понятия). «Так, понятие «сестра» внутренне никак не связано с последовательностью звуков s-ib:r, служащей во французском языке ее означающим; оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования раз-
личных языков: означаемое «бык» выражается означающим b-ce-f (франц. Ьн>иО по одну сторону языковой границы и означающим o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону ее» (Соссюр, 1977, с. 100—101).
В части лингвистики речи научная программа Ф. де Соссюра может получить конкретизацию в свете семиологических парадигм, намеченных М. Фуко. Автор для разных периодов эволюции знания сообщает доминировавшие начала научного анализа: принцип аналогии и сходства — эпоха Возрождения, принцип тождества и различия — XVII век, принцип времени и истории - XVIII-ХІХвека (Foucault, 1966).
В контекст сообщенных линий общенаучной семиологии органически вписывается и специальная семиология языка. Приоритеты в заявке на нее также принадлежат Ф. де Соссюру. Как пишет Э. Бенвенист, «когда Соссюр определил язык как систему знаков, он заложил основы языковой семиоло-1 гии» (Бенвенист, 1974, с. 89).
Считая постулаты Ф. де Соссюра о лингвистике языка и языковой семиологии теоретически освоенными, Э. Бенвенист подчеркивает важность для будущего языкознания выделения главой женевской лингвистической школы именно лингвистики речи. Автор пишет, что внутриязыковой (интралингвис-'j тический) анализ далеко не исчерпал своих возможностей в «направлении нового измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения» (Бенвенист, 1974. с. 89).
При этом ученый полагает, что «это будет семиология «второго поколения», и ее понятия и методы смогут содействовать развитию других ветвей общей семиологии» (Бенвенист, 1974, с. 89).
За вычетом частных разногласий исследовательская практика ученых XX столетия в целом укладывалась в программу Ф. де Соссюра по лингвистике языка и лингвистике речи. В диапазоне графа «язык—система—знак— речь» изучался и текст, что отразилось в его определениях, поисках структурных и содержательных категорий, а также границ.
Начну с определений текста. Их существует ряд. В одних акцентируется речевой аспект текстовых единств. Но понимается он неоднозначно. Так,
О. С. Ахманова полагает, что обнаружением речевого в тексте является сама его письменная форма. Текст — это «произведение речи, зафиксированное на письме» (Ахманова, 1969, с. 470).
Д. Э.Розенталь и М. А. Теленкова тоже считают текстом «произведение речи (высказывание), воспроизведенное на письме или в печати» (Розенталь, Теленкова, 1972, с. 440).
Т. М. Николаева расширяет ряд предъявлений речевого в тексте, приобщая к нему не только устные, но и письменные формы, в частности, высказывания, абзацы, разделы: «Текст ... — объединенная смысловой связью последовательность речевых единиц: высказываний, абзацев, разделов и т.д. Текст может быть устным и письменным» (Николаева, 1979, с. 348).
О. И. Москальская к представлениям речевого в тексте относит вари
ативность его реализаций в виде повести, романа, статьи, монографии, докумен
тов: «Под «текстом» понимается, с одной стороны, любое высказывание, состо
ящее из одного или нескольких предложений, несущее в себе по замыслу
говорящего законченный смысл, а с другой стороны, такое речевое произведе-^
ние, как повесть, роман, газетная или журнальная статья, научная монография,
документы различного рода и т.п.» (Москальская, 1981, с. 12). j
М. Н. Кожина речевое в текстах рекомендует находить по типическому в их смысловой сфере: «Таким образом, в аспекте функционального, динамического понимания языка текст как явление лингвистическое, очевидно, следует трактовать и анализировать как единицу речи в ее общих, а не содержательно-индивидуальных параметрах, т.е. типологически» (Кожина, 1987, с. 13—14).
Определенно на отграничении текста от языка настаивает П. Сгалл: «Текст представляет собой проявление не языковой системы, а ее использования» (Сгалл, 1978, с. 85). По мнению автора, обнаружением речевого в тексте выступает последовательность словесных актов: «Высказывание или текст представляют собой, однако, последовательность речевых событий, а не предложений» (Там же, с. 85).
Р. Барт речевое в тексте видит в специфических смысловых культурных факторах. Текст ученый определяет «как любой конечный отрезок речи, пред-
ставляющий собой некоторое единство с точки зрения содержания, передаваемый со вторичными коммуникативными целями и имеющий соответствующую этим целям внутреннюю организацию, причем связанный с иными культурными факторами, нежели те, которые относятся к собственно языку» (Барт, 1978, с. 443-444).
В других определениях текста выделяется языковой план текстовых образований. Толкуется он тоже по-разному. В частности, И. Р. Гальперин языковое в тексте прослеживает по стилистическим нормам. Автор представляет текст «в виде конкретного произведения, обработанного в соответствии со стилистическими нормами данного типа письменной (устной) разновидности языка» (Гальперин, 1977, с. 524).
Е. А. Реферовская языковое в тексте усматривает в его закономерном структурировании: текст — это «некое структурированное по определенным законам единство, состоящее из языковых единиц — предложений, объединенных между собой и образующих более крупные единицы» (Реферовская, 1983, с. 5).
М. П. Брандес языковое в тексте обнаруживает через знаковый характер его элементов: «Текст есть не что иное, как знаковая форма плюс смысл, последовательность знаков или образов, выражающая некоторое содержание» (Брандес, 1988, с. 27).
Т. М. Николаева также видит языковое в тексте благодаря знаковое его единиц: «Текст ... — объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность» (Николаева, 1990, с. 507).
Р. Харвег находит языковое в тексте посредством непрерывной субституции: текст — это «последовательность языковых единиц, образованная непрерывной цепочкой субститутов, имеющих два измерения (парадигматическое и синтагматическое)» (Harweg, 1968, s. 148).
В третьей группе определений с ориентацией на математическую логику текст трактуется как множество. Например, 3. Я. Тураева отмечает в тексте такое проявление множества, как упорядоченность: текст — это «некое упоря-
доченное множество предложений, объединенных различными типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и направленную информацию» (Тураева, 1986, с. 11).
З.Й. Шмидт видит в тексте такое обнаружение формальной логической системы, как комбинаторика: «Можно сказать, что текст возникает благодаря упорядоченной комбинаторике наделенных информацией элементов ..., наделенных способностью к комбинированию, присоединению и совместимости друг с другом в информационно значимые множества» (Шмидт, 1978, с. 98).
Ученый акцентирует в тексте проявления не только формальной логической системы, но и множества в функции: «В отличие от принятого до сих пор толкования «текста» (текст — это когерентное множество предложений) теперь, в рамках современного его включения в цепь связей, текст уже постоянно трактуется как «множество высказываний в их функции и — соответственно — как социокоммуникативная реализация текстуальности» (Schmidt, 1973, s. 150).
В четвертой группе определений текста его особенности высвечиваются в плане теории коммуникации. Так, К. Кожевникова считает, что «текст — идеальная высшая коммуникативная единица, тяготеющая к смысловой замкнутости и законченности, конституирующим признаком которой, однако, является связность, проявляющаяся каждый раз в других параметрах, на разных уровнях текста и в разной совокупности частных связей» (Кожевникова, 1979, с. 66).
А. Г. Баранов в тексте как коммуникативной величине подчеркивает познавательный аспект: «Текст — это коммуникативно-познавательная единица, состоящая из высказываний разного типа, объединенных сложными содержательно-формальными отношениями» (Баранов, 1993, с. 78).
В пятой группе определений текст толкуется описательно, то есть благодаря исчислению его признаков. В частности, О. Л. Каменская предлагает для текста следующий набор свойств: «целостность (связность и обособленность), типологические и стилистические особенности, расчлененность на СФЕ, пред-
ложения текста (их семантика), лексика (значения слов), грамматические конструкции (их значения), инвентарь внутритекстовых связей и демаркаторов, тема-рематическое членение предложений текста» (Каменская, 1990, с. 41).
X. Изенберг сообщает иной ряд примет текста: «На вопрос об общих чертах всех текстов — как «построенных», так и «непостроенных» — мы отвечали, называя такие признаки, как линейная последовательность предложений, лево- и правосторонние границы, относительная законченность и связность» (Изеиберг, 1978, с. 48).
В приведенных определениях текст рационально или интуитивно идентифицируется с помощью понятий «речь», «язык», «множество», «коммуникативная единица», «признак». Однако есть и такие дефиниции, в которых текст осмысляется в плане единства языка и речи.
Например, К. Гаузенблаз пишет, что термин «текст» «обозначает две вещи:? во-первых, в соответствии с распространенным употреблением — письменную фиксацию речи и, во-вторых, более широко — объединение языковых средств, используемых в речи, которое обеспечивается их следованием друг за другом и их отношением к суммарному смыслу» (Гаузенблаз, 1978, с. 63 — 64).
Сообщенные определения текста обращают на себя внимание и рядом иных моментов: во-первых, разным пониманием речевого в тексте; во-вторых, неодинаковым толкованием языкового в текстовом единстве; в-третьих, непро-ясненностыо соотношения языкового и речевого в текстовых объединениях.
Все это обязывает к значительной осторожности при проекции той или иной дефиниции текста на более ранние периоды развития текстовой системы. В частности, требует внимания тот факт, что для древнерусского текстового массива равенство «текст = речь» неприемлемо, так как исследователь лишен возможности интуитивно или рационально соотнести письменное текстовое построение с записями устной речи того времени.
Не может уйти из поля зрения и то обстоятельство, что для древнерусского текстового репертуара тождество «текст = язык» также не подходит, ибо ученый оказывается перед фактом заметной неустойчивости нормы языка древнерусской народности в условиях феодальной раздробленности государства.
Более адекватной для древнерусского периода представляется формула «текст: речь — язык». Она корректна не только как компромиссный вариант определения позиции, но и как результат проведенного анализа текстов неодинаковой жанровой отнесенности. В свете этих данных разные примеры одной и той же жанровой формы — чуда, плача, молитвы — по показателям семантики и структуры включают изменчивое и стабильное.
Поскольку вариантность есть обнаружение речевого («речевая деятельность в целом имеет характер разнородный» — Соссюр, 1977, с. 53), а инвариантность — предъявление языкового («язык ... есть явление по своей природе однородное» — Соссюр, 1977, с. 53), то понимание текста как единства речи и языка приемлемо и по отношению к древнерусским текстовым формированиям.
Единицы текста. После выбора рабочего определения текста необходима
конкретизация его речевых и языковых начал в связи со структурными еди-,
ницами текстового ранга. Их поиск начался давно. В нем сформировалось
несколько точек отсчета для идентификации объекта лингвистики текста: ком
муникативность, докоммуникативность, экстралингвистичность. ''
Согласно первой группе номинаций, за конститутивные единицы текста принимаются такие его фрагменты, которые по объему больше предложения (фразы, предикативные единицы, высказывания). При этом верхние границы такого рода фрагментов остаются весьма подвижными (группа фраз, абзац, глава и т.п.).
Например, М. В. Ломоносов выделяет в текстовом образовании «период». «Период» — это объединение предложений не благодаря союзам, а посредством риторических фигур, например, анафоры, то есть повторений начального слова в каждом параллельном элементе речи (Ломоносов, 1952, т. 7, с. 376-377).
Ф. И. Буслаев акцентирует в текстовом построении «речь»: «Так как предложение образовалось в разговоре между лицами, а разговор состоит во взаимном сообщении и подробном изложении мыслей, то сочетание мыслей должно было выразиться в языке сочетанием предложений. Ряд соединенных предложений называется речью» (Буслаев, 1959, с. 21).
А. А. Потебня тоже находит в текстовом единстве «речь», понимая, однако, ее не так, как Ф. И. Буслаев: «Речь ... вовсе не тождественна с простым или сложным предложением.... Она не есть непременно ряд «соединенных предложений», потому что может быть и одним предложением. Она есть такое сочетание слов, из которого видно, и то ... лишь до некоторой степени, значение входящих в него элементов» (Потебня, 1958, т. 1 —2, с. 42).
А. И. Белич обнаруживает в словесном произведении «цепь предложений»: «Уже с многих сторон слышатся голоса, что в грамматическом представлении фактов языка следует отвести отдельное место целой цепи предложений, соединенных общностью значения и представляющих известное синтак-сическо-семаитическое целое» (Белич, 1947, № 7, с. 22).
Л. А. Булаховский усматривает в текстовом объединении «сверхфразовое единство», «наличие тех больших, чем фразы, но еще обыкновенно отчетливо схватываемых единств словесного выражения, в которых налицо бывают конкретные приметы синтаксического характера — так называемые сверхфразовые единства. <...> Их внешним выражением на письме служит красная строка, отделяющая одно такое единство от последующего» (Булаховский, 1952, т. 1, с. 392).
Н. С. Поспелов вычленяет в текстовом формировании «сложное синтаксическое целое». Оно используется «для выражения сложной и законченной мысли» (Поспелов, 1948, Вып. 137, Кн. 2, с. 31) и характеризуется «замкнутой синтаксической структурой» (Поспелов, 1948, вып. 2, с. 53).
В сравнении со сложным предложением сложное синтаксическое целое обладает «прерывистым характером синтаксических связей между предложениями» (присоединение, бессоюзие, разнооформленность сказуемого) (Там же, с. 55).
Наконец, «в составе сложного синтаксического целого мы можем обнаружить разного рода комбинации одночленных и двучленных предложений» (Там же, с. 57).
А. М. Пешковский обращает внимание в текстовом образовании на «абзац»: «В собственно литературной речи (не разговорной) есть единица еще более крупная, чем сложное целое. Это сочетание сложных целых от одной красной строки до другой. К сожалению, синтаксического термина для этой единицы не суще-
ствует, и мы принуждены пользоваться здесь типографским (и вдобавок иностранным) термином «абзац» (Пешковский, 1938, с. 410).
Г. Я. Солганик указывает в текстовом построении на «прозаическую строфу»: «Прозаическая строфа — это группа тесно взаимосвязанных по смыслу и синтаксически законченных предложений, выражающая более полное по сравнению с отдельным предложением развитие мысли» (Солганик, 1973, с. 131).
Наряду с названной единицей автор выделяет в словесном произведении и «фрагмент»: «Фрагмент — это развернутая прозаическая строфа или несколько прозаических строф, объединенных развитием одной темы и связанных с помощью синтаксических или лексических средств» (Там же, с. 187).
Т. М. Баталова видит в текстовом единстве «предикативно-релятивный комплекс». Это многокомпонентная иерархическая система коммуникативных единиц, которые характеризуются разной информативной значимостью. В частої ности, ПРК интегрирует предикативные единицы как информативную базу и релятивные в статусе факультативных (Баталова, 1977, с. 2).
Г. А. Золотова акцентирует в словесном произведении «коммуникативный тип речи». Он осмысляется «как понятие, абстрагированное от множества предикативных единиц или их объединений, употребленных в однородных контекстах,'; сопоставленных по их общественно-коммуникативным функциям и противопоставленных по способу отражения действительности, что получает выражение в совокупности их лингвистических признаков» (Золотова, 1984, с. 169).
3. Я. Тураева вслед за Л. А. Булаховским находит в текстовом формировании такую строевую единицу, как «сверхфразовое единство», но трактует ее по-своему: «СФЕ есть отрезок текста (устного или письменного), характеризующийся относительной смысловой и функциональной завершенностью, тесными логическими, грамматическими и лексическими связями, объединяющими его составляющие» (Тураева, 1986, с. 116).
Л. В. Орлова среди блоков надпредложенческого ранга обнаруживает «кустовое единство»: «Группа предложений, объединенная на основе структурно-смысловой зависимости каждого его компонента от рематической части одного предложения — вершины, будет называться кустом некоторого уровня,
определяемого иерархией внутритекстовых отношений, а предложения, входящие в куст — соответственно его составляющими» (Орлова, 1988, с. 20).
К. Боост в число конститутивных величин текстового объединения включает «сплетение предложений»: «Нити, протянутые от одного предложения к другому, столь многочисленны, образуют такую плотную сетку, что можно говорить о переплетенности, о сплетении предложений в единую сеть, так что каждое отдельное предложение как бы неразрывно связано с остальными» (Boost, 1949, s. 9).
И. Беллерт строевой группой текстового образования считает «дискурс»: «Дискурс — это такая последовательность высказываний, в которой семантическая интерпретация каждого высказывания зависит от интерпретации высказывания в последовательности. Иными словами, адекватная интерпретация высказывания, выступающего в дискурсе, требует знания предшествующе-} го контекста. Такое определение касается как копверсационпого дискурса, так и лекции, а также литературных и научных текстов» (Беллерт, 1978, с. 172).
В. Дресслер ставит вопрос о расширении круга блоков текстового уров-1 ня: «Труднее определить единицы, которые иерархически и по объему стоят между текстом и предложением и чье существование частично обусловлено типом текста. Например, в письменных текстах можно указать на главы, абзацы и группы предложений» (Дресслер, 1978, с. 125 — 126).
В ряд текстовых автор склонен отнести и следующие единства: «Другими типами включенных текстовых отрывков являются пояснения рассказчика, отступления, а в письменных текстах — сноски и примечания, когда они превышают размеры предложения, которое можно заключить в скобки» (Там же, с. 129).
Л. Стеннес полагает, что в тексте можно выделить максимум пять типичных отрывков: заголовок, введение, основной текст, вывод и заключение (Цит по: Дресслер, 1978, с. 117).
Ц. Тодоров к текстовым сегментам надпредложенческого ранга приобщает «эпизод»: «Можно вывести синтаксическую единицу повествования и более крупную, чем предложение; назовем ее эпизодом (la sequence). Эпизоды могут иметь различные свойства в зависимости от типа связи между входя-
щими в него предложениями; однако общей характеристикой является то, что конец эпизода всегда помечается неполным повторением его начального предложения. При этом эпизод интуитивно распознается читателем: у него возникает ощущение замкнутости сюжета, завершенности анекдота» (Тодоров, 1978, с. 460).
Т. А. ваи Дейк, как и И. Беллерт, усматривает в тексте такую строевую единицу, как «дискурс», однако понимает этот термин по-другому: «Дискурс, в широком смысле слова, является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Дейк, 1989, с. 121-122).
Автор находит, что «дискурс ... не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, то есть рамками текста или самого диалога. <...> Говорящий и слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию» (Там же, с. 122). В итоге дискурс — это «коммуникативное событие» и «связная последовательность предложений» (Там же, с. 121, 126).
Р. Барт вычленяет в текстовом построении «сегмент»: «Текст расчленяется на примыкающие друг к другу и, как правило, очень короткие сегменты (фраза, часть фразы, максимум группа из трех-четырех фраз); <...> Эти сегменты являются единицами чтения, поэтому я обозначаю их термином «лексия» (lexie)» (Барт, 1994, с. 426).
В соответствии со второй группой номинаций к конститутивным величинам текстового ранга относятся такие фрагменты текста, которые по объему меньше предложения. При этом нижние границы подобных фрагментов остаются непроясненными.
В частности, Л. В. Щерба обращает внимание в текстовом формировании на «синтагму»: «Фраза может распадаться на отрезки, характеризуемые легким усилением ударения последнего слова и выражающие в данном контексте одно (хотя бы и сложное) понятие. Эти отрезки некоторые называют речевыми тактами, а некоторые синтагмами. Первое название имеет
в виду прежде всего ритмическую природу этих отрезков, а второе— подчеркивает смысловое единство каждого из них» (Щерба, 1939, 3).
В. В. Виноградов тоже указывает в словесном произведении на «синтагму», вкладывая при этом иное содержание в данный термин. Синтагма — «это семантико-синтаксическая единица речи, соотносительная с другими окружающими ее однородными единицами, отражающая кусочек действительности и выражающая единое, хотя и сложное, понятие в контексте целого высказывания» (Виноградов, 1975, с. 506).
В. В. Колесов к ведущим блокам текста также относит «синтагму»: «Материальной основой совмещения восточнославянского языка и литературных текстов стали общность художественных средств (символ) и основных единиц текста (синтагма)» (Колесов, 1989, с. 278).
Т. М. Николаева в качестве элементов текстового уровня выделяет «спе
цифические средства»: «Это лексически выраженные средства типа частиц,
наречий и т.д. <...>; тектонические средства — изменение порядка элементов
в зависимости от текстовой установки; интонационные средства — для 3Byi
вых текстов; особые графические (напр., шрифтовые выделения, знаки препи
нания) — для письменных» (Николаева, 1979, с. 348). ]
В группу величин текстового статуса автор включает и такие «средства текстовой связи», как «местоименная и синонимическая замена тождественных единиц <...>, выдвижение на начальные позиции «известного» (из контекста, ситуации и т.д.), контрастное соположение предложений и т.д.» (Там же, с. 348).
В состав «текстовых формальных средств» ученый вводит также «порядок слов, вынесение элемента, подчеркивание элемента, частицы, прономинализацию, введение про-форм, лексические повторы, перифрастические повторы, артиклезацию, тематическую прогрессию, членение высказывания» (Николаева, 1978, с. 31).
И. Беллерт к компонентам, формирующим текст, приобщает «индексы»: «Наиболее очевидными связующими элементами, или «соединителями», текста являются языковые показатели (индексы). Это, например, собственные имена, личные местоимения, указательные или относительные местоимения,
некоторые наречия («здесь», или «в этом месте», «там», или «в том месте»), имена существительные, а также номинативные группы с указательным местоимением в начале» (Беллерт, 1978, с. 185—186).
В. Дресслер в ряду единиц, создающих словесное произведение, акцентирует «коннекторы». Это «средство связи предложений» (Дресслер, 1978, с. 125). К ним относятся «анафорическая и катафорическая субституция, союзы, частицы, видовая, временная и модальная структура предикатов, а также порядок слов» (Там же, с. 125).
Судя по третьей группе номинаций, конститутивными группами текстового порядка считаются фрагменты, объем которых определяется не относительно коммуникативной (предложение) или докоммуникативной (синтаксема) единицы, а в связи с экстралингвистическими параметрами текстового формирования: типом информации, видом человеческой деятельности, смыслом.
Так, И. Р. Гальперин находит в текстовом объединении «контекстно-вариативные формы речи»: «Представляется необходимым рассмотреть ... смену разных контекстно-вариативных форм членения текста и прагматическую основу переходов от одной формы к другой. <....> Под контекстно-вариативным членением текста понимаются разные формы изложения содержателыю-фактуалыюй и содержательно-концептуальной информации, а именно: формы повествования, описания, размышления автора, а также форма диалога (в широком смысле этого слова)» (Гальперин,1982, с. 19).
О. И. Москальская в текстовом образовании видит «целое речевое произведение». Оно «не поддается определению в понятиях грамматики, хотя грамматические признаки и входят в структурирование его именно как целого. Это — ... коммуникативная единица самого высокого уровня, обслуживающая самые разные сферы общества. Порождение целого речевого произведения — особый, весьма важный вид человеческой деятельности, сопровождающий в обществе почти все другие виды человеческой деятельности и всегда социально и ситуативно обусловленный» (Москальская, 1981, с. 14).
В. В. Виноградов обнаруживает в текстовом построении «композиционные формы речи». Это система «языковых объединений, которые встречаются в тка-
ни литературно-художественных произведений той или иной эпохи. Изучение этих основных типов, естественно, предполагает группировку не самых литературных произведений, а отвлеченных от них однородных форм словесной композиции, в общелингвистическом плане — на фоне эволюции композиционных жанров прагматической речи. Это учение не о структуре художественных единств, а о структурных формах речи, которые наблюдаются в организации литературных произведений. И ... задача — установить закономерности в их построении как систем языковых отношений» (Виноградов, 1930, с. 32).
В позитивную часть программы приведенных идентификаций объекта лингвистики текста следует отнести то, что структурной единицей текстового формирования может быть как коммуникативное (предложение), так и докомму-никативное (словоформа) образование. Однако механизмы их введения в тек-: стовое единство по устойчивым собственным (необусловленным контекстом) и вариативным релятивным (обусловленным контекстом) признакам остаются непроясненными. В силу этого отнесенность названных единиц словесного произведения к языку или речи по существу не раскрыта.
Все это требует большой деликатности при отнесении той или иной номинации конститутивной единицы текста в более древние периоды эволюции текстовой системы. В частности, нуждается во внимании то обстоятельство, что для древнерусского текстового построения равенство «элемент текста = язык» неприемлемо, потому что исследователь находится перед фактом разнородности содержательных обоснований членения текстового формирования того, а также более позднего времени.
Так, членение Успенского сборника XII—XIII веков в смысловой сфере обусловлено сииаксарной (месяцесловной) последовательностью чтений. Словесным обнаружением такой дискретности являются группы: «мсца маига. въ. г. днь»; «мсца маша въ .е.»; «м'сца маига. въ. .з. дїТь.» и т. п.
Членение же соответствующих современных текстов в смысловой области зависит и от степени важности праздников. Графическим предъявлением подобной дискретности выступают знаки: крест в круге красного цвета ф —
самое торжественное богослужение (всенощное бдение); крест в полукруге того же красного цвета ф — всенощное бдение необязательно; крест красного цвета Я< — знак службы всем апостолам, великим святым; красная подковка с тремя точками внутри Г — великое славословие; черная подковка с тремя точками внутри Г обозначает шесть стихир на «Господи воззвах» (архимандрит Киприан (Керн), 1997, с. 115).
Не следует упускать из поля зрения и тот факт, что для древнерусского текстового объединения тождество «элемент текста = речь» также не подходит, ибо ученый оказывается перед обстоятельством заметной однородности языковых классов (частей речи) текстового образования того или более позднего времени.
Приемлемой для древнерусского текстового единства представляется формула «элемент текста: речь — язык». Она корректна как итог проведенного анализа компонентов словесных произведений разной жанровой приуроченности — чуда, плача и молитвы.
В зеркале этих данных каждый элемент текстового построения включает-' ся в него одновременно как по собственным, так и по релятивным параметрам.
В первом случае компонент реализует свои устойчивые языковые свой-', ства и выступает в функции создания предикативных единиц (структурооб-разования). Во втором этот же элемент развивает вариативные речевые признаки и выполняет роль создания текста (текстообразования).
При этом важно то, что «баланс» языкового и речевого у одного и того же компонента в его различных текстовых реализациях подвижен.
Таким образом, признание за любым элементом «права» выступать в дво-яковажном значении — фактом языка и речи — избавляет лингвистику текста от перспективы бесконечного поиска истинного ее объекта и самой удачной его номинации.
Категории текста. После сообщения рабочей дефиниции строевой единицы текста необходимо прояснить ее речевой и языковой потенциал в связи с содержательными категориями текстового порядка. В их поиске принимали участие математическая логика, модальная логика и собственно лингвистика. Кроме того,
в процессе этого изыскания был поставлен вопрос о необходимости разграничивать такие пласты содержания знака, как смысл и семантика.
На это обращает внимание, например, Г. Фреге: «Собственное имя (слово, знак, соединение знаков, выражение) выражает
Нетождественность смысла и семантики имени акцентирует и А. Черч: «Грубо говоря, смысл — это то, что бывает усвоено, когда понято имя, так как возможно понимать смысл имени, ничего не зная о его денотате, кроме того, что он определяется этим смыслом» (Черч, т. 1, 1960, с. 18).
Несходство смысла и семантики выражения подчеркивается и Р. Карна-пом: «Понятие смысла и интенсионала относятся к значению в строгом смысле как то, что схватывается, когда мы понимаем выражение, не зная фактов; понятия номината и экстенсионала относятся к выполнению выражения, зависящему от фактов» (Карнап, 1959, с. 38).
Разное под смыслом и семантикой знака понимает и Д. П. Горский: «Знаковое выражение имеет смысл, значение, является понимаемым, если по отношению к нему могут быть сформулированы соответствующие правила введения и исключения. <...> Понимать знаковое выражение в научной теории — это значит знать, как оно вводится и как оно исключается» (Горский, 1967, с.60, 81).
Далее математической логикой были обнаружены разные типы пропозициональных отношений между высказываниями в текстовом построении и предложен терминоряд для их названия, правда, уже без указания на то, какой пласт содержания текстового объединения — смысл или семантику — они представляют.
Первый тип связи высказываний — «конъюнкция». Это «операция математической логики, соединяющая два или более высказываний при помощи союза «и» в новое, сложное высказывание» (Кондаков, 1971, с. 229).
Второй тип отношений высказываний — «дизъюнкция», под которой понимается «операция математической логики, выражающаяся в соединении двух
или более высказываний при помощи логического союза «или» в новое, сложное суждение» (Там же, с. 131).
Третий тип связи высказываний — «импликация». Это «логическая операция, связывающая два высказывания в сложное высказывание с помощью логической связки, которой в обычном языке в значительной мере соответствует союз «если..., то...» (Там же, с. 168).
Четвертый тип отношений высказываний — «эквиваленция», под которой подразумевается «операция математической логики, заключающаяся в том, что два высказывания соединяются с помощью пропозициональной связки «если и только если» или «тогда и только тогда» (Там же, с. 601).
Пятый тип связи высказываний — «отрицание». Это «логическая операция, в результате которой из данного высказывания получается новое высказывание, которое называется отрицанием исходного высказывания», (Там же, с. 366).
К сообщенным категориям исчисления высказываний, а также их пропо
зициональным связкам обращается и модальная логика, используя при этом
соответствующую символику: л — союз «и» (конъюнкция), v — союз «или»
(дизъюнкция), -» — союз «если..., то...» (импликация), -і — символ отрица-'і
ния, символ эквивалентности (Кондаков, 1971, с.ЗИ).
Кроме того, в модальной логике суждения делятся еще и на ассерторические, аподиктические, проблематические.
«Ассерторическое» — это суждение действительности. В нем «лишь констатируется наличие или отсутствие у предмета того или иного признака (напр., «Киев стоит на Днепре»...), но не выражается его непреложной логической необходимости» (Там же, с. 46).
«Аподиктическое» — это суждение необходимости, в котором отображается признак предмета, имеющийся у него при всех условиях; в нем утверждается необходимость чего-либо (напр., «Каждое явление имеет свою причину») (Там же, с. 39).
«Проблематическое» — это суждение возможности. В нем «отображается вероятность наличия или отсутствия признака у предмета, о котором говорит-
ся в данном суждении (напр., «Возможно, в этом году мой сосед поступит в МГУ»)» (Там же, с. 312).
Следует отметить, что в модальной логике сложились понятия и для разграничения высказываний на предписывающие и непредписывающие.
К первым относятся те, которым присуща «деонтическая модальность». Это «характеристика высказываний, включающих такие модальные операторы, как «обязательно», «разрешено», «безразлично», «запрещено». <...> Деонтические модальности являются предметом изучения таких дисциплин, как этика, юриспруденция» (Кондаков, 1971, с. 120).
В число вторых входят те, которым свойственна «эпистемологическая модальность». Это «характеристика высказывания, включающего такие модальные операторы, как «доказуемо», «опровержимо», напр., «Опровержимо, что свет имеет только волновую природу» (Там же, с.611 —612).
Сообщенные данные математической и модальной логики представляют интерес в связи с постановкой вопроса о разграничении смысла и семантики высказывания и благодаря возможности понимать текст как системное множество.
Системный характер последнего проявляется в наличии между его составляющими отношений «рефлексивности» (каждый элемент множества находится в данном отношении к самому себе), «симметричности» (отношения между элементами сохраняются и в случае изменения их порядка), «транзитивности» (сравнимость первого элемента со вторым, а второго с третьим ведет к сопоставимости первого с третьим) (Кондаков, 1971, с.451, 472, 543).
(а)(в) ), «объединение» (по-
Системность видна также и в специфических связях между самими множествами: «пересечение» (получение нового множества из элементов, принадлежащих обоим пересекающимся множествам —
лучение нового множества из элементов, принадлежащих хотя бы одному из
объединяющихся множеств —
), «дополнение» (новое множество со-
ставляется приобщением элементов, не содержащихся в нем — А (а) же. с. 381,350, 143).
) (Там
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что приведенная информация имеет отношение прежде всего к логической семантике. А это «семантика искусственных логических языков, или, как часто говорят, формализованных языков» (Смирнова, Таванец, 1967, с. 4). В итоге теоретически плодотворную идею о смысле эти сведения в конечном счете практически не конкретизируют. Поэтому в математической и модальной логике проблематика смысла «значительно менее разработана» (Там же, с. 5).
Лингвистика текста в поисках его содержательных категорий не оставила без внимания положения математической и модальной логики о нерядополо-жешюсти смысла и семантики, а также о специфичности пропозициональных отношений текстового ранга.
Однако детализировать эти соображения применительно к естественному тексту оказалось значительно сложнее, чем к искусственному языку, что отразилось в разном понимании лингвистами состава, содержания и терминологического оформления категорий текстового уровня: «содержательная единица», «категория», «связь», «отношение», «функция», «контекстныеотношения», «коннекция», «фокус» и т.д.
В частности, Т. М. Николаева считает, что содержательными единицами текста являются «предупоминание, чистая связность, единичность (уникальность), выделение, дейктичность, градация важности, смысловое равновесие частей высказывания, неопределенность» (Николаева, 1978, с. 31).
3. Я. Тураева находит в текстовом построении другой ряд содержательных категорий, разграничивая их по степени важности для организации текстового единства: «Целесообразно разделить категории текста на две основные группы. <...> Первые заложены в самой структуре текста, вторые осуществляют связь между текстом и объективной действительностью, отраженной и преломленной в тексте. В первую группу войдут такие категории, как сцепление, интеграция, прогрессия/стагнация, во вторую — образ автора, художественное пространство и время, информативность, причинность, подтекст и некоторые другие» (Тураева, 1986, с. 81).
О. Л. Каменская обнаруживает в текстовом формировании эксплицитные и имплицитные содержательные отношения. К первым относятся
«рекуррентные», выражаемые однокоренными или сходно оформленными коннекторами (изменчивости—изменчивости), «инцидентные», обозначаемые разными коннекторами (и — или — но — так как) и «координатные», представляемые специализированным словосочетанием или предложением (см. выше — см. глава 2 — см. с. 87) (Каменская, 1990, с. 65—71).
В число вторых включаются «эллиптические», «тезаурусные» и «транзитивные»: «Эллиптическая связь характеризуется наличием эллипсиса по крайней мере в одном из связываемых предложений. Тезаурусные связи — это такие связи, для установления которых автором и распознавания реципиентом необходимо, чтобы в их памяти содержались списки слов, относящиеся к различным классам инцидентности некоторого общего тезауруса, в том числе списки, основанные на обыденном знании. <...> Транзитивной связью называется связь, возникающая в результате транзитивного замыкания тезаурусных связей» (Там же, с. 63).
А. Г. Баранов из возможных категорий текста акцентирует модальность, разграничивая ее на несколько типов и подвидов. Первый — «межличностная модальность». Она «включаеттри подвида: деонтическую (предписывающую), эпистемическую (описывающую) и аксиологическую (оценивающую)» (Баранов, 1993, с. 105).
Второй тип — «субъективная личностная модальность», которая «выступает как квалификатор межличностной модальности..., выполняя уточняющую, конкретизирующую, усиливающую, ослабляющую или переключающую роль» (Там же, с. 127).
Третий тип — «референтивная модальность», заключающаяся в «квалификации предметной области текста. Механизм референтивной модальности представлен гиперполем индексации, включающим поле персоналыюсти, хронологическое и топологическое поля. Причем они вплетены в семантические и прагматические поля текста, оказываясь тем самым фактором связности и цельности текста — его когерентности» (Там же, с. 153).
Б. Палек в составе содержательных категорий текстового объединения выделяет «кросс-референцию» — отсылку к ранее упомянутому, находя в ней
такие разновидности, как «номинация», «дифференциация» и «включение в класс».
По поводу первой автор пишет: «Основной способ классификации объектов средствами языка — это их называние (номинация). Мы имеем в виду языковое выражение, с помощью которого мы можем высказываться на естественном языке о разного рода объектах, свойствах, действиях и т.д. Номинативная единица может состоять из одного или нескольких слов, может быть частью предложения и даже целым предложением» (Палек, 1978, с. 245).
В связи со второй ученый утверждает: бывает «необходимо указать на то, что объекты (часто с одним и тем же наименованием) в действительности разные; эти средства мы называем средствами дифференциации объектов, или альтернаторами» (Там же, с. 246).
В отношении третьей исследователь говорит следующее. Вхождение элемента в класс «указывает, что объект является членом определенного класса, но оно не может указывать, что объект не является членом этого класса: например, some soldiers «несколько солдат» — one soldier «один солдат» (или one of them «один из них»); в противоположность этому: soldiers «солдаты» — one soldier «один солдат» (Там же, с. 247).
Включение же класса в класс «означает, что класс объектов является подклассом другого класса объектов с тем же самым наименованием (например, some soldiers ... «некоторые солдаты...» — other soldiers «другие солдаты» — all the soldiers «все солдаты»). Это отношение также не охватывает случаи, когда включения нет» (Там же, с. 247).
М. Пфютце содержательно значимой для словесного произведения считает функцию «направленности». Автор пишет, что роль направленности у элементов текста «состоит в указании на вещи, свойства, ситуации, а также отношения во внепредложенческих контекстах» (Пфютце, 1978, с. 220).
В случае прямонаправленности «речь идет о грамматическом средстве, чье содержание относится к последующему контексту» (Там же, с. 219 — 220). Причем для одних грамматических средств функция прямонаправленности является обязательной, для других факультативной.
К первой группе средств относятся «будущее время, некоторые формы конъюнктива, а также конструкции с инфинитивом, когда в них употреблены глаголы говорения с дейктической семантикой, настоятельно требующие экспликации того, что в них возвещается. Обязательную функцию прямонаправленнос-ш имеют, кроме того, числительные, вопросительные слова, некоторые частицы, некоторые парные союзы, а также вопросительные предложения» (Там же, с. 239).
Во вторую серию средств включаются «местоимения и некоторые наречия. У последних потенциальная отсылочная функция проявляется только в сочетании с глаголом, в котором есть внутрипредложенческая и контекстная направленность» (Там же, с. 239).
В эпизодах обратнонаправлешюй функции элементов текста речь идет об отсылке «к тому, что уже высказано». Эта роль присуща местоимениям и сочинительным союзам (Там же, с. 225—226, 232).
Ц. Тодоров в текстовом единстве усматривает три вида содержательных связей. Первый — «временная связь», при которой «порядок следования событий в тексте определяется порядком их следования в изображаемом мире книги» (Тодоров, 1978, с. 459).
Второй вид — «логическая связь», ибо «в основе рассказа обычно лежат определенные импликации и пресуппозиции, а более сложно организованные художественные произведения характеризуются также наличием отношения включения» (Там же, с. 459).
Третий вид — «пространственная связь», проявляющаяся в том, «что два предложения располагаются «рядом» в силу наличия между ними определенного сходства, благодаря чему они очерчивают некоторое «пространство» текста. Как можно видеть, речь идет о своего рода параллелизме — с его многочисленными разновидностями» (Там же, с. 460).
К. Э. Хайдольф к содержательным категориям текстового ранга относит два типа контекстных отношений между предложениями — «контраст» и «эмфазу». Автор пишет, что «контекстные отношения мотивируют перестановку членов предложения, место главного ударения в предложении и объясняют такие явления, как контраст и эмфаза» (Хайдольф, 1978, с. 208).
При этом контрастными ученый называет предложения со второй акцентной вершиной в начале (Peter hat den Apfel gegessen. — Петер съел яблоко). В эмфатических предложениях, по мнению исследователя, эта вершина отсутствует (Там же, с. 214).
Л. Дедерлайн в число содержательных категорий текстового уровня включает такие типы коннекции, как «соединение и разделение», «признание и возражение», «причину и следствие» (Цит. по: Дресслер, 1978, с. 131).
Т. А. вал Дейк в содержании текстового построения обнаруживает «семантический и прагматический фокусы». Автор пишет, что «семантический фокус .... должен быть определен в терминах, не зависящих от контекста конкретного разговора, например в терминах отношений, существующих между фактами или объектами, т.е. на чисто онтологическом уровне семантики» (Дейк, 1978, с. 319).
Под прагматическим фокусом ученый понимает «акт выбора <...> объектов (разговора), которые говорящий считает наиболее важными для слушающего» (Там же, с. 319). Кроме того, исследователь рекомендует «понятие фокуса ... связывать с такими понятиями, как «логический предикат», «рема» и «ин-j тродукт» (Там же, с. 321).
В других работах Т. А. ван Дейк конкретизирует свое понимание со-, держательных категорий текстового формирования, относя к ним «приуроченность к ситуации» (размещение истории в разговоре), «резюме» (краткое содержание рассказываемой истории), «описание окружающей обстановки» (специфика времени, места и состав участников событий), «ориентацию» (обыденные действия главного лица), «осложнение» (социальный конфликт), «развязку» (разрешение конфликта), «экспликацию» (обобщение), «оценку» (мнение рассказчика) и «заключение» (мораль) (Дейк, 1989, с. 199—212).
Приведенные названия категорий текстового объединения оставляют непроясненными существенные моменты: отнесенность этих категорий к смысловому или семантическому пласту содержания текста, связь их с речью или с языком и объем текстового предъявления.
Подобное состояние дел требует большого такта при проекции того или иного понимания категории текста на более ранние периоды развития его конкретных реализаций.
В частности, нуждается во внимании тот факт, что для древнерусского текстового построения равенство «категория текста = смысл» приемлемо. Но из-за недостаточной изученности архаических цивилизационных процессов этот вопрос приходится отнести к перспективам исторической русистики.
Так, смысл «непротивления», являющийся главным для жития Бориса и Глеба, в интертекстуальном аспекте не восходит определешю к культуре одного региона. По этому поводу Г. П. Федотов пишет: «Почти все святые греческого календаря относятся к числу мучеников за веру, преподобных (аскетов-подвижников) и святителей (епископов). <...> Борис и Глеб не были мучениками за Христа, но пали жертвой политического преступления» (Федотов, 1990, с. 40—41).
Далее автор детализирует свою аргументацию: «Как ни очевидно евангельское происхождение этой идеи — вольной жертвы за Христа (хотя и не за веру Христову), но для нее оказывается невозможным найти агиографические образцы» (Там же, с. 49).
Наконец, ученый приводит и другие доказательства своей точки зрения: «Святые Борис и Глеб сделали то, чего не требовала от них Церковь. <...> Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин «страстотерпцев» — самый парадоксальный чин русских святых. <...> Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву там, где младенчество не дает естественных условий чистоты» (Там же, с. 50).
Смысл же «святости» по житию Феодосия Печерского в интертекстуальном плане уже более определешю обнаруживает разные истоки. Так, Г. П. Федотов, во-первых, осмысляет возможность греческих параллелей: «Мы знаем, что он (Нестор — А. П.) прибегал к дословным выпискам, иногда довольно длинным, из греческих житий, известных ему в славянских переводах. Однако лишь в самых редких случаях мы имеем основание предположить искажающее влияние литературных источников на биографическую основу жития. <...> Среди греческих житий, влияние которых сказывается на труде Нестора, отмечались жития св. Антония, Иоанна Златоуста, Феодора Эдесского, Фе-одора Студита» (Там же, с. 54—55).
Во-вторых, автор обнаруживает палестинские наслоения: «Но больше всего использованы жития палестинских святых VI века: Евфимия Великого, Саввы, Феодосия Киновиарха, Иоанна Молчальника — агиографический цикл, принадлежащий перу Кирилла Скифопольского. Только отсюда, преимущественно из житий св. Евфимия и Саввы, Нестор делает длинные дословные выписки» (Там же, с. 55).
Убедившись в палестинских культурных напластованиях, ученый резюмирует: «Вчитываясь в жития палестинских аскетов, ... мы невольно поражаемся близостью палестинского идеала святости к религиозной жизни Руси. Палестинское монашество было нашей школой спасения, той веткой восточного монашеского древа, от которого отделилась русская отрасль. <...> Древняя Русь обладала в переводах полным сводом древних патериков, большим числом аскетических житий и аскетико-учительских трактатов. Было из чего сделать выбор, и этот выбор был сделан сознательно» (Там же, с. 55).
В-третьих, исследователь обдумывает египетские и сирийские культурные «волны»: «Подвиги древних египетских и сирийских отцов более поражают героической аскезой, даром чудес и возвышенностью созерцаний. Палестинцы гораздо скромнее, менее примечательны внешне. Зато они обладают тем даром, в котором, по одному изречению Антония Великого, состоит первая добродетель подвижника: рассудительностью, понимаемою как чувство меры, как духовный такт» (Там же, с. 55). И подражали на Руси не Антонию Великому (Египет), а Савве Освященному (Палестина).
Множественность культурных иррадиации сообщенных смыслов древнерусских житийных текстов — «мотивов» непротивления и святости — даже в границах уже христианской эры просматривается отчетливо: Греция, Палестина, Сирия, Египет. Спектр истоков названных смыслов, видимо, окажется еще более широким, если углубиться в дохристианскую эпоху жизни индоевропейцев. Однако обобщающих работ по этому поводу еще нет. Кроме того, такого рода обобщения без поддержки других специалистов лингвисты едва ли смогут составить.
Далее, тождество «категория текста = семантика» по отношению к древнерусскому текстовому формированию не только приемлемо, но и доступно известно-
му раскрытию. Для этого необходимо принять по внимание историческую последовательность в становлении семантических категорий текстового ранга (более древнее — пространство, более позднее — время и т.п.).
Более того, следует учесть, что «влиятельные» в древнерусском текстооб-разовании и интересующие нас категории пространства и времени уже в то время были результатом предшествующих языковых видений мира и прологом их последующих эволюции. Поэтому в целях адекватного прочтения древнерусских словесных произведений в аспекте указанных категорий исследователю надо располагать сведениями об истории сложения их семантической структуры.
Категория пространства.
В настоящее время благодаря междисциплинарным данным (Лотман, 1997; Бахтин, 1990; Лихачев, 1971; Пропп, 1998; Потемкин, Симанов, 1990; Бегунов,, 1993; Рассел, 1997; Гофф, 1992 и другие) состав локальных сем может рассматриваться исторически, структурно и функционально.
По историческому критерию представления о пространстве у разных на-'
родов проходят несколько этапов. Им соответствуют определенные типы про
странства. \
Древнейший — это этап «антропоцентрического пространства». Оно известно Древнему Египту, шумерам, Древней Индии и Древнему Китаю. Основывалось на мифологических вариантах космологии. Например, в древнеиндийских мифах центром мира считался первочеловек Пурума.
Более поздний — это период «геоцентрического пространства». Оно присуще прежде всего Древней Греции. Опиралось на натурфилософские концепции космологии. В частности, по Аристотелю, центром мира является Земля.
Новый — это эпоха «социоцентрического пространства». Оно свойственно Ближнему Востоку — регионам распространения ислама и христианства. Базировалось на теологических реализациях космологии. Например, согласно Корану и Библии (в интерпретации Данте), мир членится на 29 уровней. Условный центр в нем — Деяния людей на земле. По ним души распределяются в ярусах пространства.
Новейший — это эра «логоцентрического пространства». Оно характерно для разных народов. Исходило из научных вариантов космологии. В частности, английский ученый Б. Рассел разграничивает реальное (существующее «на самом деле») пространство, перцептуалыюе (воспринимаемое человеком) и концептуальное (смоделированное исследователями).
С точки зрения Б. Рассела, концептуальных пространств может быть множество: физическое, математическое, социальное, историческое, биологическое, географическое, художественное, лингвистическое и т.п. Мысль о вариативности пространственных научных картин мира поддерживается и отечественными учеными.
По структурному критерию взгляды на пространство у разных народов тоже проходили ряд этапов. С ними соотносятся разные варианты строения мира.
В период мифологической космологии в пространстве выделялись следующие элементы: Океан, Земля, Небо, Центр мира: первочеловек, первохолм, первогород. Приведу примеры.
По древнеегипетским мифам, сначала был Океан — Нун. Он породил водяную корову Метуэр. Ее четыре ноги являли собой опоры Неба — Нута. После спадения вод Океана появилась Земля — первохолм Геб.
Согласно шумерским мифам, первоначально существовали Океаны — Тиамат и Апсу. Они враждовали. Поэтому бог мудрости Эа уничтожил их. Его сын Мардук на месте Океанов сотворил Небо и Землю. Затем был создан первогород — Вавилон.
По древнеиндийским мифам, вначале имел место Хаос. Из него возникли Вода и Огонь. Энергия Огня породила Яйцо. Верхняя часть Яйца символизировала Небо. Нижняя являла собой аллегорию Земли. Организовывалось пространство вокруг первочеловека, как уже говорилось, Пурумы.
В эпоху натурфилософской космологии в пространстве вычленялись такие компоненты, как Солнце, Луна, Планеты, Сфера, Звезды, Атомы. Они группировались вокруг Земли. Сообщу примеры.
По Анаксимену, пространство образовано не Богом, а сгущением или разряжением воздуха. Эти процессы сформировали плоскую Землю. Испарения
Земли создали Луну и Планеты. Периферией мира является Сфера. В нее «вбиты» в виде гвоздей Звезды.
Согласно Эпикуру и Демокриту, пространство вообще не создается. Оно существует вечно. В нем перемещаются Атомы. При движении они сцепляются и вызывают космические вихри. Последние приводят к зарождению миров. Каждый такой мир имеет Оболочку. Она препятствует вылету Атомов за пределы вихря. Внутри вихря тяжелые Атомы образуют Землю в форме плоского диска. Вокруг нее организуются элементы пространства. Атомы меньших размеров создают Тела.
Во время теологической космологии ислама и христианства акцентировались следующие составляющие пространства: Небо, Рай небесный, Земля, Рай земной, Преисподняя. Вот примеры.
По Корану, Аллах за шесть дней создал Небесные своды, Небесные светила и Землю в виде ковра. Под Землей Преисподняя. Небо состоит из семи ярусов. Над седьмым Небом находится Рай. Он делится на восемь уровней. В структуре Земли семь уровней. Остальные «этажи» пространства в Преисподней.
Пространственные представления ислама социализированы. На Небесных сводах обитают Ангелы. На Земле живут Люди. В Преисподней — Души праведников и грешников.
Согласно Библии в версии Данте, пространство состоит из девяти кругов Ада, двух уступов Предчистилища, Долины перед Чистилищем, семи кругов Чистилища, земного Рая, девяти небес Рая небесного и его десятого уровня — Эмпирея. Пространство христианства тоже социализировано. Души распределяются в уровнях по делам Людей на Земле.
В секуляризированной естественно-научной космологии вопрос о строении пространства уходит на второй план. На первом оказывается проблема признаков и функций пространства.
По функциональному критерию представления о пространстве также проходят несколько этапов.
В период мифологической космологии осмысляются такие признаки пространства, как членимость (компоненты выделены), замкнутость (компоненты
исчислены), центрированность (компоненты организованы вокруг одного, главного), направленность (к центру и от него), дидактичность (движение к центру — совершенствование, от центра — путь к погибели). По функции это пространство Судьбы.
В эпоху натурфилософской космологии пространство по-прежнему воспринимается как членимое, замкнутое, центрированное, направлешюе (верх, низ), но уже не дидактичное. Со стороны функции это пространство измерений, Расчета.
Во время теологической космологии пространство продолжает осознаваться как членимое, замкнутое, направленное (верх, низ, запад, восток), дидактичное (вверху праведники, внизу грешники, на западе погибающие, на востоке блаженные), но уже не центрированное. По функции это пространство Нравственности.
В секуляризированной космологии пространство осваивалось в двух вариантах: микропространство (площадь) и мегапространство (Вселенная). Первому присущи метрические признаки (не универсальные), второму — топологические (универсальные).
Свойствами микропространства оставались членимость, замкнутость, направленность, центрированность и дидактичность в виде аксиологичности, то есть самооценки и оценки других.
К признакам мегапространства стали относить непрерывность, открытость, ненаправленность, нецентрированность, недидактичность и безоценочиость.
Свойства пространства также начали подразделять на реальные (инвариантные) и мыслимые (не инвариантные). К первым относятся непрерывность, движение, трехмерность. В число вторых входят прерывность, статичность, четырех-мерность.
Четвертым признаком пространства остается время. Но и оно не закрывает перечень свойств мира. В частности, немецкий ученый Теодор Калуца полагает пространство пятимерным.
Оно имеет четыре собственно локальные координаты, включая электромагнитный потенциал, и пятую — временную. Английский же физик Пол Дэ-
вис доказывает, что при антропном принципе познания пространство может быть одиннадцатимерным. Со стороны функции секуляризированное пространство — это пространство Реальности, Ментальное, Оценки.
По славянским мифологическим представлениям, пространство мира членится на три основные субстанции: Явь, Навь и Правь. Согласно акад. 10. К. Бегунову, Явь — это видимый, материальный, реальный мир. Навь — это мир нематериальный, потусторонний мир мертвецов. Правь — это истина или законы Сварога, управляющие миром, то есть в первую очередь Явью.
После смерти душа человека, покидая Явь, переходит в мир невидимый — Навь. Некоторое время она странствует, пока не достигает Иррия, или Рая, где жил Сварог.
Душа может явиться из Нави, где она пребывает в некотором состоянии сна, опять в Явь, но только по тому пути, по которому она вышла из Яви., Понятия Ада не существует.
Понятие Нави дожило до современности, хотя и утратило черты ясности. Мы знаем «Навый день», то есть день покойников, который отмечался еще в минувшем столетии. Знаем «Навые чары», то есть наваждение.
Разумеется, сообщенное о типах пространства, его структуре, признаках и функциях получает обнаружение в том или ином текстовом построении не списочньм составом, а в определенных комбинациях, нередісо видоизменяющих общенаучное представление о каком-либо аспекте категории локальности.
Вместе с тем при неизбежных корректировках лингвисту необходимо знать, какие ее реализации имеют место в конкретном текстовом формировании.
Категория времени.
На основе междисциплинарных фактов корпус темпоральных сем также может освещаться исторически, структурно и функционально (Лихачев, 1971; Пропп, 1998; Завельский, 1987; Щур, 1962; Куликов, 1991; Тураева, 1979; При-падчев, 1986; 1992; Звездова, 1996; Рассел, 1997; Гофф, 1992 и другие).
По историческому критерию представления о времени у разных этносов проходили ряд этапов.
Древнейший — это этап доисторического «предметносчетного времени». Оно известно Персии, сибирским народам России, племенам Азии, Африки, Америки. В его основе лежат непосредственные, бытовые наблюдения над природными, естественными чередованиями света и темноты, то есть над «стыком дня и ночи».
Например, у персов, вогулов, остяков, тунгусов точкой отсчета времени (счет дням) был узелок на веревочке, зарубка на деревянном бруске, посохе, дереве.
Племена Азии, Африки, Америки для счета времени использовали и такие предметы, как камешки, раковины, ореховая скорлупа, нанизывая их на веревки.
В Древнем Китае время отсчитывалось закрашиванием лепестка девяти-цветкового нарисованного букета с девятилепестковыми цветами. Полученный срок — 81 день — отделял начало зимы от весны.
Более поздний — это этап «луиносчетного времени». Оно возникло 2000 лет до н.э. в Древнем Вавилоне. Присуще также шумерам, Древнему Китаю, арабам-мусульманам, евреям, Древней Греции, Древнему Риму, древним славянам. Совмещало мифологические и астрономические варианты темпорологии.
В частности, в Уре у шумеров точкой отсчета времени (счет месяцам) считался повелитель мудрости бог Син. Своим холодным ночным светом он отгоняет палящий зной и приносит облегчение. Это мифологическое обозначение Луны.
В Вавилонии или Халдее точкой отсчета времени (счет месяцам) полагался покровитель Вавилона, царь всех богов Мардук. Это мифологическая номинация целого ряда божеств: Сина — бога Луны, Шамаша — бога Солнца, Таммуза — бога растений, весны.
В Древнем Китае точкой отсчета времени были не боги, а космические начала. Янь — светлое, активное, мужественное и Инь — слабое, покорное, женское. Борьба и гармония между ними творит мир. А главный бог Шан-ди был владыкой Неба, а не раздельно Луны, Солнца, Звезд.
Новый — это этап «лушю-солнечносчетного времени». Оно возникло в VI веке до н.э. в Древнем Вавилоне. Присуще тоже Древнему Китаю, евреям,
Древнему Египту, Древней Греции и Древнему Риму. Обобщает мифологические и астрономические варианты времени.
Например, в Древнем Вавилоне с переходом от политеизма к монотеизму главным стал Мардук — бог Солнца. Жрецы приписывали ему сотворение мира, указание пути движения по небу каждого светила. Мардук также «зажег» Луну и «поручил» ей быть ночным «сторожем», то есть отмечать дни. А главное — Мардук «назначил» год.
При верховном положении бога Солнца Мардука начали тщательно изучать и его движение. Установлено было следующее: 21—22 марта — весеннее равноденствие, когда Солнце восходит и заходит в точках востока и запада; 21 — 22 июня — летнее солнцестояние, когда Солнце «стоит» на высоте полдня 2 — 3 дня; 22 — 23 сентября — осеннее равноденствие, когда Солнце встает и закатывается опять в точках востока и запада; 21—22 декабря — зимнее солнцестояние, когда Солнце снова «останавливается», не меняет своего пути.
В Древнем Египте бог пустыни Сет победил бога растений Осириса. Запер его в сундук и выбросил в Нил. Сестра Осириса Исида долго плакала. От этого вода в Ниле ежегодно прибывает и выносит сундук. Бог Солнца Ра оживляет Осириса. Начинается возрождение природы. Сын Исиды Гор в конце концов победил Сета и стал богом восходящего Солнца.
Прибывание воды в Ниле совпадало с летним солнцестоянием. Этот срок помогала определять звезда Сириус (Сотис). Она восходила одновременно с началом нильского наводнения.
Новейший — это этап «солнечносчетного времени». Оно зарождается еще в Древнем Египте 5000 лет до н.э. Позднее возрождается в Древнем Риме. В 46 году до н.э. получает оформление в юлианском календаре, названном по имени императора Юлия Цезаря. После этого распространяется в Европе.
Счет времени по юлианскому календарю сохранился в названии «старый стиль». Из-за подвижности пасхи в XVI веке был принят григорианский календарь. Он назван в честь папы Григория XIII. Счет дней по нему называется «новым стилем».
Древние египтяне точкой отсчета времени в солнечном календаре считали начало сельскохозяйственных работ после разлива Нила и летнего солнцестояния.
Последний — это этап «исторического времени». Оно известно разным народам — арабам, грекам, индийцам, славянам. Основывается на мифологических и практических, житейских, вариантах темпорологии.
В частности, у домусульманских арабов счет времени (счет годам) велся от «года слона» — года нападения на Мекку войска из Йемена, в котором было много боевых слонов.
У арабов-мусульман счет годам ведется от «хиджры» — года бегства пророка Мохаммеда из Мекки в Медину — 622 год н.э. У индийцев время отсчитывается от момента смерти всего живого. Это день жизни Брамы. Он называется эоном или кальпой. Равен 4 320 000 000 лет.
Греки считали время от Пелопонесской войны, падения Трои, «сотворения мира» в 5501, 5969, 5508 гг. до н.э. Известно около 200 вариантов счета «от начала мира».
На Руси до XVIII века был распространен счет времени по византийскому представлению о «сотворении мира» 5508 лет до н.э. В 1699 году Петр I ввел отсчет времени от «Рождества Христова». Он распространен и сейчас в странах с христианской религией.
По структурному критерию представления о времени у разных этносов также варьируются.
В период первобытной предметносчетной темпорологии основной единицей измерения времени были «сутки». Эта единица выделилась на основе вращения (один оборот) Земли вокруг своей оси.
Во время мифологизированной лунносчетной темпорологии нашли новую единицу времени — «месяц». В Древнем Вавилоне это период от одного дня рождения Сипа (новолуния) до другого. Иные народы приписывали месяцам имена других богов.
По римской традиции первый месяц — март — посвящен Марсу. Это начало полевых работ, и Марс должен защищать мирный труд людей. Ап-
рель — от aperire (открывать), так как в апреле раскрываются почки. Май назван по имени богини весеннего расцвета Майи. Июнь — в честь богини плодородия Юноны. Июль — во имя императора Юлия Цезаря. Август — по имени императора Августа. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — это порядковые числительные: седьмой, восьмой, девятый и десятьш. Январь — в честь двуликого бога Януса. Это повелитель времени. Он имел два лица, чтобы смотреть в будущее и прошлое. Февраль — во имя бога покаяния в грехах Фебруо.
У римлян лунный месяц делился еще на три единицы: календы — это 1 —4 числа начала месяца, ноны — 5 —7 числа, иды — 13—15 числа.
На Руси месяцы назывались не по именам богов и императоров. Проси-нец — лед на реке окрашен в просинь — январь; сечень (снежень) — начало вырубки леса, пора метелей — февраль; сухий — сохли срубленные стволы березы — март; березень — березка распустила свои зеленые косы, принарядилась золотыми сережками — апрель; цветень — цветут деревья — май; червень — добывают багряную краску из насекомых червецов — июнь; серпень — пора жатвы — июль; зорев — пора ярких зорь — август; хмурень —. угасает лето — сентябрь; листопад — октябрь; грудень — образуются крупные комья-груды — ноябрь; студень — декабрь.
В этот же лунносчетный период придумали и такую меру времени, как «семидневная неделя». Ее выделили вавилонские жрецы. Оттуда она пришла в Грецию, Рим и Европу. Дням недели присваивались имена вавилонских, греческих и римских богов. Понедельник — день Сина — Луны — Селены. Вторник — день Нергала — Марса — Ареса. Среда — день Набу — Меркурия — Гермеса. Четверг — день Мардука — Юпитера — Зевса. Пятница — день Иштар — Венеры — Афродиты. Суббота — день Нитурта — Сатурна — Хроноса. Воскресенье — день Шамаша — Соль — Гелиоса.
На Руси седмица закрепилась после принятия христианства под влиянием юлианского календаря (принят в 325 году н.э.). Но имен богов и богинь дням недели не присваивалось. Неделя — нет дел — воскресенье; понедельник — первый день после недели — воскресенья; вторник — второй день после недели; среда — середина седмицы; четверг — четвертый день после
недели; пятница — пятый день после недели; суббота — от еврейского слова «саббат» — конец дел.
Во время лунносчетной эпохи по точкам солнечного равноденствия и стояния вычленились и такие единицы измерения времени, как времена года: «весна», «лето», «осень» и «зима».
В период секуляризированной солнечносчетной темпорологии основной единицей измерения времени стал «год». Подобный отрезок задавался периодом вращения Земли вокруг Солнца.
В эпоху исторической темпорологии ведущей единицей измерения времени выступает «эра» или «эпоха». Они довольно разнообразны: индийская эра, мусульманская эра, александрийская (5501), антиохийская (5969), византийская (5508), христианская, распространившаяся с VI века н.э. после расчетов римского монаха Дионисия Малого.
По функциональному критерию представления о времени также проходят несколько этапов.
В период предметносчетной темпорологии осваивались такие признаки1 времени, как замкнутость (узелки на веревочке исчислимы), членимость (на отрезки от одного стыка дня и ночи до другого), длительность (в пределах относительных суточных границ), обратимость (цикличность). Факты и события еще не различались на прошедшие, настоящие и будущие. По функции это время Вечности, а по сути отсутствие его, растворенностъ в пространстве. В Древней Руси остаточные представления о циклическом времени находим в церковном календаре и композиции текстов на христианские темы.
В эпоху лунно- и солнечносчетной темпорологии время тоже воспринимается как замкнутое (от новолуния до новолуния, от равноденствия или солнцестояния до нового равноденствия или солнцестояния), членимое (не только на сутки, но и недели, месяцы, годы), длительное (в пределах суток) и протяженное (с выходом за пределы суток: неделя, месяц, весна, лето, осень, зима, год), необратимое (векторное). Факты и события уже разграничивались на прошедшие, настоящие и будущие. По функции это время Реальности. В Древней Руси векторное время воплощалось не в церковном календаре, а в
языковой системе. Отражалось, в частности, в текстах с глаголами прошедшего, настоящего и будущего времени.
Во время исторической темпорологии время продолжает осознаваться как замкнутое (от рождения Христа до Судного Дня), членимое (на эры, эпохи), протяженное (с выходом за пределы суток) и обратимое, то есть ретроспективное. Факты и события снова перестали разграничиваться на прошедшие, настоящие и будущие. По функции это время Ментальности. В Старой Руси невекторное время отражалось в текстах с глаголами настоящего исторического и вневременного.
Как и в случае категории пространства, в эпизоде времени сообщенное о его моделях, структуре, признаках и фупкщіях обнаруживается в конкретном текстовом объединении не реестром, а зачастую в комбинациях, существенно корректирующих общенаучные данные о том или ином параметре темпоралыюсти. >
Однако и в этом случае при ожидаемых корреляциях следует иметь
представление о том, какие ее реализации возможны и какие имеют место
именно в данном словесном произведении. '
Наконец, по вопросу об отнесенности важных для данного исследования категорий пространства и времени к речи или языку в свидетельствах древ-j нерусского текста позиция определяется следующим образом. Судя по рассмотренным примерам жанровых форм чуда, плача и молитвы, каждая из этих категорий связана как с речью, так и с языком.
В части своих сем пространство, например, с переходом от одного жанрового образования к другому обнаруживает разнородные предъявления (по линии центрации, расчлененности, обратнонаправленности) и соотносится с речью. В другой зоне семантических составляющих пространство демонстрирует однородность представлений (в отношении нецентрированности, нерасчлененности, прямонаправленности) и коррелирует с языком.
Границы текста. После выбора категорий, в свете которых в настоящем исследовании рассматривается строение древнерусских текстовых формирований, следует оговорить и границы обнаружения функционально-семантических величин пространства и времени.
Поиск этих границ в отношении различных категорий, в том числе и в плане локальности и темпоральности, направлен не только на выявление сигналов начала и конца текстового единства. Существенными для прояснения целостности и законченности последнего оказываются его жанровая принадлежность, характеристика по линии стиля языка и стиля речи, а также регистровому устройству.
О. Л. Каменская сигналы границ текстового объединения делит на «граничные и внутритекстовые демаркаторы». К первым автор относит заголовки, даты, обращения, выражения и слова «I глава», «акт», «часть», «конец», фамилию и инициалы автора, построения «перевод с английского» и др.; обозначения места или времени написания текста «Москва —Переделкино», «май 1975», «Ялта, август 1907» и т.д.; особые начертания букв и специальные знаки — черта, звездочка, три звездочки; стереотипные единства «в некотором царстве, в некотором государстве» и т.п. (Каменская, 1990, с. 84—85).
В число вторых ученый включает красную строку, специфический шрифт заглавной буквы нового абзаца, рубрикаторы — часть II, глава б, 7 и др. (Там же, с. 86-87).
Р. Харвег, К. Гаузенблаз, Е. Бенеш к маркерам начала текста приобщают «заголовки» и «газетные шапки» (Harweg, 1968, s. 156; Hausenblas, 1964, p. 75; Benes, 1968, p. 268). По мнению В. Б. Пикета, приметами начала и конца текстового построения являются и «формы приветствия» (Pickett, 1960, р. 86).
В. Дресслер в группу обнаружений границ текстового формирования склонен ввести «интонацию»: «Для устных текстов критерием границы служит интонация: начало текста характеризуется значительным повышением, а конец — значительным понижением тона» (Дресслер, 1978, с. 121).
Автор не исключает из числа предъявлений границ словесного произведения и «паузу»: «Поскольку единство содержания значимо только для части текстов, в голову в первую очередь приходит критерий паузы» (Там же, с. 120).
Г. Зайлер в ряду представлений границ словесного построения видит и «порядок слов». В частности, автор обращает внимание на связь вариантов
расположения словоформ и текстологической валентности речевых единиц в отношении их начальной и конечной позиции в тексте (Seiler, 1962, s. 121).
Следует подчеркнуть, что состав демаркаторов границ текстового единства исторически изменчив. Применительно к древнерусским текстовым объединениям некоторые из них в специфическом оформлении тоже выполняют роль сигналов начала (и се вънезаапоу чюдо бысть — для чуда; оувы Mirfe — для плача; слава ти — для молитвы) и конца (амииъ — для молитвы) фрагмента.
Поиск свидетельств целостности и завершенности текстового формирования подвел к вопросу о его жанровых параметрах. Теоретически эта мысль принята лингвистами. Так, Ст. Гайда пишет: «На основании анализа текстов разных жанров в соответствии с теорией текста считается, что категория жанра характеризует все тексты» (Гайда, 1986, с. 23).
Автор подчеркивает, что уже этап понимания «текста ... предполагает умение отнести его к определенному жанру, так как каждый жанр подсказывает слушающему (читающему) некий тип смысла» (Там же, с. 23).
Ученый убежден и в том, что на этапе рационального исследования структуры высказываний в еще большей мере требуется их жанровая идентификация, ибо «жанр функционирует как горизонт ожиданий для слушающих и модель создания для говорящих» (Там же, с. 24).
М. М. Бахтин полагает, что границы текстового образования подготавливаются темой его жанровой реализации: «Жанры соответствуют типическим ситуациям речевого общения, типическим темам» (Бахтин, 1979, с. 276).
Автор также считает, что в синхронии текстовой системы вопрос о жанровой определенности ее составляющих во многом еще не разработан: «Крайнюю разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность определения общей природы высказывания никак не следует преуменьшать» (Там же, с. 239).
К подобному выводу в связи с современными текстовыми построениями приходит и К. Гаузенблаз: «Жанрология (genology) как целое страдает недостатком систематичности в подходе к основным проблемам общей классификации речевых произведений» (Гаузенблаз, 1978, с. 58).
Необходимость более детально исследовать жанровое распределение сегодняшних текстов осознается многими учеными (см. об этом: Жанры речи. Саратов, 1997). Однако недостаточная изученность этого вопроса все же остается реальностью. Его дальнейшей разработке могут способствовать сведения о жанрах текстовых единств былых эпох. В этом плане сделано уже немало.
В частности, выявлено приблизительное число древних жанров: «Точное перечисление всех названий жанров дало бы цифру примерно в пределах сотни» (Лихачев, 1986, с. 59).
Отмечена возможность двух и более жанровых номинаций архаического текста: «Сказание и видение...», «Повесть и чудеса...», «Житие и деяние...» (Там же, с. 59).
Обнаружено, что одно и то же словесное произведение в разных списках могло иметь различные жанровые обозначения: житие Александра Невского называется то как «житие», то как «сказание», то как «повесть» (Там же, с. 59).
Зафиксировано включение одним и тем же текстом разных жанров: в «Сказании, страсти и похвале святым мученикам Борису и Глебу» соединено «житие» с «похвалой» (Там же, с. 59).
Оговорено совмещение жанровых номинаций с определением предмета повествования: «Житие и мучение», «Житие и терпение» (Там же, с. 60).
Сообщено о включении в название жанра эмоциональных предупреждений читателю в целях исключения ассоциаций, чуждых тексту: «Повесть умильна», «Повесть полезна», «Повесть дивна» (Там же, с. 71—72).
Разграничены жанры объединяющие и первичные. К интегрирующим отнесены «сборники», «хронографы», «патерики», «степенные книги», «четьи-минеи» и другие.
Из первичных жанров в хронограф входили «летописи», «повести». В патерик — «жития», «поучения», «чудеса». В степенную книгу — «годовые статьи», «жития», «грамоты», «поучения» (Там же, с. 61).
Подчеркнуто, что древний текст характеризовался устойчивым жанровым образом автора. Один он в проповеди, другой в житии, третий в летописи. Индивидуализация автора по большей части случайна (Там же, с. 70).
Указано, что принадлежность словесного произведения к тому или иному жанру определялась и особыми графическими знаками — крест в круге, крест в полукружии, один крест, три полуокруженных точки, красный и черный цвет этих значков (Там же, с. 73).
Осмысление жанровых аспектов текста как в синхронии, так и диахронии влечет за собой его рассмотрение в плане стилистики. В. В. Виноградов подразделяет ее на стилистику языка и стилистику речи.
Автор считает, что стилистика языка «изучает исторически изменяющиеся тенденции или виды соотношений стилей языка, характеризующихся комплексом типичных признаков» (Виноградов, 1981, с. 21).
К стилям языка ученый относит «обиходно-бытовой стиль (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (фун-1 кция воздействия)» (Там же, с. 21).
Вместе с тем исследователь приходит к выводу о том, что «у нас еще нет, например, полного изложения системы стилей хотя бы современного русского' языка в их функциональных соотношениях и в их основных структурных качествах» (Там же, с. 162).
По поводу стилистики речи В. В. Виноградов пишет, что на ее долю «выпадает задача разобраться в тончайших различиях семантического и экспрессивно-стилистического характера между разными жанрами и общественно обусловленными видами устной и письменной речи» (Там же, с. 32).
Конкретизируя цели стилистики речи, ученый отмечает, что в этой сфере «приобретает огромное значение проблема выделения специфических речевых единиц и определения типовых композиционных их объединений как структурных элементов и форм в разных жанрах общественно-речевой практики» (Там же, с. 163).
Сообщенное о таких идентификаторах текстового построения, как жанр, стиль языка и стиль речи, с разной степенью полноты применимо по отношению к древнерусскому текстовому формированию. Весомой является информация Д. С. Лихачева о жанрах.
Понятие же «стиль языка» в проекции на древнерусское текстовое объединение в аспекте таких функций языка, как общение, сообщение и воздействие, в должной мере пока не раскрывается.
Это не значит, что названных функций у языка не было и что поэтому языковые стили вообще отсутствовали. Это свидетельствует лишь о том, что из-за недостаточной изученности речевых стилей с опорой на жанр подступы к древнерусской системе межжанровых функциональных языковых стилей остаются перспективой лингвистики.
Однако в пользу подобной перспективы говорит тот факт, что автор древнего словесного произведения, не прибегая к привычным для более поздних текстовых систем стилеобразующим средствам прозы (фольклорным, разговорным, просторечным, диалектным элементам, иноязычным вкраплениям, вопросительным, восклицательным, прерванным междометиями конструкциям, неоконченным фразам, с многоточием, перифразам и т.д.) и поэзии (тропам: индикатору, аллегории, олицетворению, метафоре, символу, мифологеме; метру: силлабическому, силлабо-тоническому, тоническому; рифме: простой и составной, точной и неточной, муж-1 ской и женской, дактилической и гипердактилической, смежной, перекрестной, кольцевой и т.п.), все-таки создает образы разного трагедийного накала: например, рационально воспринимающего происходящее как неизбежное Бориса и эмоционально потрясенного вероломством брата Святополка Глеба.
Разная насыщенность образов трагическими «мотивами» создается за счет иных, еще мало известных современной науке, стилистических категорий и средств их выражения. В частности, указанная специфика образов Бориса и Глеба во многом определяется категориями отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности.
Так, рационализм Бориса в плаче по отцу обнаруживается благодаря категории неотторгаемой принадлежности (срдце -» МИ — «мое»; діла -> МИ — «моя»; сиганик заре лица -» МОКГО — «отец мой»).
Эмоциональность Глеба в плаче по отцу и брату Борису проясняется при помощи категории отчуждаемой принадлежности (оуне бы оумрети <-МИ; тоуга състиже <- МА; оунылъ быхъ съ тобою оумрети гне <- МОИ).
Если разный «вес» категорий отторжения и неотчуждения внутри одного жанра можно отнести к обнаружениям стиля речи именно плача, то пересечение плача и молитвы по «активности» неотторгаемой принадлежности (срдце -> МИ; слава -» ТИ) дает повод рассматривать это как одно из предъявлений стиля языка.
Вместе с тем данный вопрос требует тщательного изучения стилей речи образцов значительной группы древнерусских жанров, сохранившихся в списках от этого периода, что нуждается в усилиях не одного поколения лингвистов. Поэтому аналогом термина «стиль языка» в проекции на древнерусские тексты остается сочетание «тип языка», введенное В. В. Виноградовым (Виноградов, 1978, с. 134).
Понятие «стиль речи» по отношению к древнерусским текстовым объединениям с четкими жанровыми параметрами применимо в большей мере. Подтверждение этому находим в размышлениях Д. С. Лихачева: «Древнерусские жанры в гораздо большей степени связаны с определенными типами стиля, чем жанры нового времени. Мы можем говорить о единстве стиля праздничного слова, панегирического жития, летописи, хронографа и пр. Нас поэтому не удивят выражения «житийный стиль», «хронографический стиль», «летописный стиль». ...Для литературы нового времени было бы совершенно невозможно говорить о стиле драмы, стиле повести или стиле романа вообще» (Лихачев, 1986, с. 70-71).
Более того, очерченные жанром, стили речи, например, чуда, плача и молитвы, характеризуются разными типами семантического пространства и неодинаковыми средствами их выражения (темпоцентрическое для чуда: СБСЕ—СЕ; аксиоцентрическое в варианте отрицательной оценки для плача: О УВЫ—ОУВЫ — ОУВЫ; аксиоцентрическое в виде положительной оценки для молитвы: СЛАВА-СЛАВА-СЛАВА).
Распознаванию стилей речи способствует также нетождественное регистровое строение текстов различной жанровой приуроченности.
Г. А. Золотова определяет регистр речи «как понятие, абстрагированное от множества предикативных единиц или их объединений, употребленных в
однородных контекстах, сопоставленных по их общественно-коммуникативным функциям и противопоставленных по способу отражения действительности, что получает выражение в совокупности их лингвистических признаков» (Зо-лотова, 1984, с. 169).
Изучению когнитивной модели дискурса в немалой степени помогают и междисциплинарные данные. Так, И. Н. Семенов, обобщая исследования продуктивного мышления по его дискурсивным проявлениям, сообщает, что оно «осуществляется на таких уровнях, как операциональный, предметный, рефлексивный и личностный, образующих систему структурных компонентов познавательной деятельности» (Семенов, 1983, с. 33).
Н. Г. Алексеев раскрывает содержание данных терминов следующим образом. Операционный уровень: «мысль фиксируется на отдельных конкретных действиях либо на связях этих действий» (Алексеев, 1983, с. 136).
Предметный уровень: «построение ориентировочной основы действий» (Там же, с. 137). Рефлексивный уровень: «направленность на осознание как системы собственных действий ..., так и их содерлсательных оснований» (Там1 же, с. 137). Личностный уровень: «объектом внимания здесь выступает сам действующий человек» (Там же, с. 140).
С известными коррекциями, вызываемыми вербализацией мыслительного процесса и временной дистанцией древнерусской и современной текстовых систем, названные регистры (уровни) речи получают рациональное выявление в жанрах чуда, плача и молитвы. Кроме того, при переходе от одного жанра к другому состав их и средства обозначения варьируются.
В частности, в развертывании чуда операционный регистр реалии, еще не введенной в ситуацию, проявлен слабо (ксть бо мала гора надълежащи надъ манастырьмь — Т'ЬМЬ — в котором, судя по предшествующим фрагментам жития, пребывал Феодосии Печерский). Рефлексивный же регистр объектов, уже включенных в ситуацию, высвечен четче (и се ино чюдо кхвлыпе са — ТОМОУ — человеку, который, судя по микротексту, проезжает мимо монастыря).
В построении плача операционный регистр очерчен более ярко (04Е; ГНЕ; како зайде св'Ьте мои не соущю ми — ТОУ — это в Киеве, где умер
князь Владимир, в то время как сын Борис оплакивает его в походе на печенегов). При этом не менее четко прояснен и рефлексивный регистр (дша — МИ — «моя, Бориса» — съмыслъ съмоущакть).
В структуре молитвы тоже ясно просматриваются как операционный регистр речи (и не постави — ИМЪ — ги гр'Ьха — это не только брату Бориса Святополку, но и исполнителям его приказа — Путьше, Тальцу, Еловичу, Ляшко), так и рефлексивный (онъ же въздвиже на — МА — «Бориса» — възмогъ).
По другим регистрам специфика стилей речи названных жанров прослеживается в еще большей мере. Так, чудо отличает предметный регистр (ЦРКВЬ, ГОРА). Личностный регистр действователя из-за эпизодичности именительного падежа погашен. Личностный регистр автора в силу факультативности форм оценки (ВЕЛИКЪ) тоже прояснен слабо.
Плач характеризует понятийный регистр (о СОУКТИИ, о БИКНИИ). Личностный регистр действователя в связи с активизацией номинатива (АЗЪ, СРДЦЕ — «Бориса», ДША — «Бориса») высвечен уже более ярко. Личностный регистр автора через рефлексию главного персонажа также заметно прояснен (ГОРЬКОУЮ, КРАСОТЫ, МОУЖЬСТВА).
Молитве свойственны предметный (от СЪРОДНИКА, ОЦА) и понятийный (БОЛ-ЬЗНЬ, отъ ПРЕЛЬСТИ, ХОТ-ШИК) регистры. Личностный регистр действователя очерчивается формами именительного падежа (ТЫ, ОНЪ, ВРАГЪ). Личностный регистр автора благодаря рефлексии основного персонажа тоже намечен определенно (СЛАВА, МЛСТИВЫИ, ВЛДКО).
Существенным представляется то, что в избранных для анализа примерах чуда, плача и молитвы последовательно заявлен операционный регистр речи, обнаружения которого — операторы — связывают данный фрагмент с предшествующим изложением. Это говорит об иной семантико-структурной дискретности древнерусских текстовых построений.
Личностный же регистр речи из-за редкости номинатива и форм оценки, напротив, прояснен неотчетливо. В последующей эволюции текстовой системы операционный регистр существенно погашается, в то время как личностный выходит на первый план.
По мнению В. А. Звегиицева, в решении проблем частного языкознания лингвистика текста «необъяснимым образом проходила мимо двойственной природы объекта лингвистики. Она также попыталась перешагнуть через нее. И именно тогда, когда она не учитывала разграничения между языком и речью, она терпела свои самые большие поражения» (Звегинцев, 1973, с. 234-235).
В этапах теоретического осмысления материала в работе осуществлен переход от герменевтики к лингвистике и семиотике текста.
Герменевтика (Камчатнов, 1995, с. 149—152), включая прагматику и восприятие (Залевская, 2005, с. 265—467 и др), востребовала смыслы текста. Рассмотрение смыслов текста приводит к выводу о равной целесообразности всех слов в тексте. Но из-за текучести и индивидуальности авторских и читательских смыслов в зонах мотивации, целеполагания и восприятия параметры речевой системности текста не выявляются. Для одного исследователя смысл плача — в страдании, молитвы — в искуплении. Для другого смысл плача — в отчаянии, молитвы — в прощении. Для третьего смысл плача — в одиночестве, молитвы — в надежде и т.д. Закономерен переход на другой уровень теории — на уровень лингвистики текста.
Лингвистика текста (Николаева, 1978, с. 5—39; Москальская, 1981, с. 4 — 15; Тураева, 1986, с. 4—22) востребовала семантику и прежде всего функционально-семантические категории пространства и времени. Исследование показывает, что в тексте все слова распадаются на три блока: серии релятивов (частицы, междометия, союзы, местоимения и др.), серии полнозначных слов речевого окружения релятивов и не-серии (разрозненные релятивы и пол-нозначные синтаксемы). У них разные функции: серии релятивов и полнозначных слов определяют целостность текста и выступают как «текстообразу-ющие единицы». He-серии выступают как «структурообразующие единицы».
Рассмотрение семантики текста приводит к выводу о не равной целесообразности всех слов в тексте. Необходим переход еще на один уровень теории — на уровень семиотики (Соссюр, 1977, с. 98—112; Бенвенист, 1974, с. 69—89; Степанов, 1971, с. 46-75; Лотман, 2001, с. 400-417) текста.
Семиотически серии релятивов, серии полнозначных слов и не-серии расчленяются на два блока: серии со сходным означиванием и не-серии с различительным означиванием. На этом уровне анализа исследование уже оперирует терминами «речь» и «язык» (Гардинер, 1960, с. 13—21; Ломтев, 1976, с. 54 — 60). Реальная речевая системность (системообразование в речи, речевая системность текста) обнаруживается в действии системообразующих факторов, принципов и функций.
Таким образом, исследование подходит к проблеме выявления и описания речевой системности. Предлагаемое исследование речевой системности через механизмы (факторы и принципы) речевого системообразования требует разработки понятийно-терминологического аппарата.
Анализ теоретической литературы и осуществленный практический анализ текстов разных типов показывает, что терминологический аппарат ис- s следования речевой системности может быть представлен следующим образом:
текст — это смысловое, семантическое и структурное единство (раз-' ных объемов) вариативных единиц речи и инвариантных единиц языка, имеющее знаковые основы сопряжения речемыслительных деятельностей отправителя и адресата сообщения — семантико-структурные модели строения как результат системообразования речи через основной процесс — нейтрализацию языкового различительного означивания сходным речевым;
фактор речевого системообразования: движущая сила, причина речевой системности текста;
принцип речевого системообразования: основание речевой системности текста;
функционально-семантическая категория пространства: одновременность, параллельность, совмещенность денотатов;
функционально-семантическая категория времени: распределенность, последовательность денотатов;
модусы (измерения) пространства: далеко — близко, впереди — сзади1, вверху — внизу;
модусы (измерения) времени: модусы последовательности «сначала-затем—потом»;
модусы перечисления «во-первых — во-вторых — в-третьих»;
модусы уточнения «общее — частное» и «частное — общее»;
центрация семантического пространства: формирование семантического «разреза» текста;
невекторное речевое время: отсутствие отнесенности денотатов к прошлому, настоящему и будущему;
семантический «фокус», семантическая фокусировка текста: семантическое выдвижение некоторого смысла в тексте или его фрагменте на передний план;
семантический «разрез»: соотнесенность «фокуса» с одними и теми же референтами на протяжении отрезка текста;
вертикаль текста: развертывание текста сверху вниз;
горизонталь текста: развертывание текста слева направо;
синтагма: предложение, часть осложненного предложения, часть сложного предложения;
тема синтагм: левая компонента до предикатной синтаксемы;
рема синтагм: правая компонента после предикатной синтаксемы;
серия речевых единиц: серия релятивов и полнозначных синтаксем со сходным означиванием;
нейтрализация языковых смыслов, значений и значимостей: снятие семиотически релевантного противопоставления единиц языка семиотически релевантным сближением единиц речи;
семантика текста: вербально выраженное единицами речи и языка содержание текста;
смыслы текста: элементы содержания текста безотносительно к формальным способам их выражения;
активность денотата текста: денотату (человеку, животному, дереву, растению) присущи жизненные циклы — движение—покой, сон — бодрствование, страх—радость, расцвет—увядание, жизнь—смерть и т.д.;
инактивность денотата текста: денотат (гора, холм, место, строение) лишен жизненных циклов;
центростремительность действия: действие направлено на субъект;
центробежность действия: действие направлено от субъекта;
субъектная версионность действия: для себя <- делаю;
объектная версионность действия: делаю -> для него;
ненаправлениость: действие не направлено от субъекта или на субъект;
нейтральная версионность действия: я — делаю;
неотчуждаемая принадлежность — органическая связь денотатов: чей-то брат;
отчуждаемая принадлежность — неорганическая связь денотатов: у тебя нет ничего;
операционный регистр текста: формирование речевой сферы денотата-лица вне ситуации;
рефлексивный регистр текста: формирование речевой сферы денотата-лица в ситуации и испытывающего воздействие;
личностный регистр текста: формирование речевой сферы денотата-лица действующего, т.е. организующего ситуацию или оценивающего ее;
предметный регистр текста: формирование речевой сферы вещного окружения денотата-лица;
понятийный регистр текста: формирование речевой сферы понятийной области денотата-лица;
модель текста: семантико-структурное отображение породившей текст речемыслительной деятельности;
антропоцентрический способ организации семантического пространства: семантический «фокус» — значение лица;
фактоцентрический способ организации семантического пространства: семантический «фокус» — значение факта действия, предмета, места и т.д.;
темпоцентрический способ организации семантического пространства: семантический «фокус» — значение времени;
логоцентрический способ организации семантического пространства: семантический «фокус» — значения отрицания, противопоставления, причинности, обусловленности, изъяснения и т.д.;
аксиоцентрический способ организации семантического пространства: семантический «фокус» — значение оценки;
межжанровый уровень речи: уровень нейтрализации локальных значений релятивов темпоральными;
виутрижанровый уровень речи: уровень нейтрализации смыслов релятивов и полнозначных слов единым содержательным «мотивом»;
внутритекстовый уровень речи: уровень нейтрализации языковых значений полнозначных слов речевыми релятивными значениями;
словесно-синтаксемный уровень речи: уровень нейтрализации языковых значимостей релятивов и полнозначных слов речевыми значимостями.
В диссертации также предлагается совокупность методов анализа рече
вой системности. Основными используемыми в работе методами являются
следующие: '
горизонтально-аналитический: через синтагматику текста;
вертикально-аналитический: через парадигматику текста;
ретроспективно-семантический метод: через этимологизацию;
внутрижанрово-сопоставительный метод: через сопоставление одного текста с другим;
межжанрово-сопоставительный метод: через сопоставление одного жанра с другим;
интерпретационно-переводный (транслятологический): через перевод древнерусского текста на современный язык.
Речевая системность текста "плач князя Бориса"
Далее, подключенное к построению вертикали образование «ОУВЫ» последовательно сохраняет один и тот же «мотив» оценки — горестное чувство. Перекликаясь со сходными по семантике формами других индоевропейских языков (греч. 6а, ош, оиа, ouai — «увы, о, горе», лат. vah, vae, гот. wai, авест. avoi, vayoi), слово «ОУВЫ» выглядит не только древним, но и по мотивации ономатопоэтическим (звукоподражательным). Кроме того, войдя в текст с давно сложившейся семантикой и не варьируя ее при переходе от одной фазы речемысли к другой, форма «ОУВЫ» в отличие от рассмотренных в связи с чудом темпоративов «СЕ», «И» и лока-лизаторов «TfeMb», «ТОМЬ» уходит от выражения вертикальных межфразовых отношений исчисления во времени (И), пространстве-времени (СЕ) или пространстве (ТОМЬ, Т МЬ). На первый план образование «ОУВЫ» выводит новые — ассоциатив-ные — связи фраз в вертикали, оставляя в сфере смыслов их рациональные локально-темпоральные корреляции. Перегруппировка исчисления и ассоциативности, которые глубинно соот- носимы с пространством и временем, привела к интересным последствиям. В частности, семантика горестного чувства оказалась не замкнутой на самом слове «ОУВЫ». В силу этого оценка не концентрируется только в ряду форм слева. Обнаруживая высокую степень релятивности, междометная оценка, думается, и не только в варианте горестного чувства, делегируется компонентам правой части цитаты и прогнозирует их функцию обозначения антропоцентрации: оувы Стало быть, в сообщенных группах не «эстафетно», сменяя друг друга, а параллельно формируются два способа консолидации пространства — оценкой и лицом. Они не рядоположены, а находятся в отношениях взаимообусловленности. Например, оценка, хотя и открывает центрацию, но выступает не первичной и поэтому самодостаточной. Она с неизбежностью вызывается тем, что оценивается. В рассматриваемом эпизоде такой оцениваемой реалией оказалось лицо.
Взаимообусловленность аксио- и антропоцентрации имеет исторические обоснования и речевые результаты. Исторически, как уже отмечалось, пространство — одна из древнейший содержательных категорий текста. В силу этого оно раньше, чем, например, время, стало осваиваться оценкой.
Итогом речевого воплощения наслоения оценки на пространство, представленного в нашем случае таким его компонентом, как лицо, стали не четко расчлененные в тема-рематическом отношении структуры с категориальным значением бытийности и эмоционального состояния субъекта «ОУВЫ МН в». Высвеченная функционально, то есть для синхронии древнерусского, вза-. имопредполагаемость оценки и лица и реализованность их в слабо диффе ренцированных по теме и реме структурах экзистенциалыюсти и эмоцио нального состояния субъекта имеют этимологические обоснования. Они хоро шо просматриваются в связи со словом «МН В». Это образование в эволюции получало разные семантические наращения. , В глубоких индоевропейских проекциях прономинальная форма «МН » обнаруживает диффузность семантики объекта «МЕНЯ» и адресата «МНЕ» направленного действия. Эта комплексность значения «МН в» передавалась синтаксемой недифференцированного винительного-дательного падежа: др.-хет. ammuk — «меня, мне». Через этимон то- номинация «МН в» в эволюции пересекалась со словом «МИ». Оно также имело синкретичную семантику, но в другой комбинации сем — принадлежности «МОЙ» и адресата «МНЕ», что выражалось образованием тоже нерасчлененного родительного-дательного падежа: др.-инд. те — род.-дат. — «меня, мне», авест. те — род.-дат. — «меня, мне». Форма «МИ», в свою очередь, благодаря этимону те- была связана в развитии со словом «МОИ». Оно родственно др.-прусск. mais — «мой» — вин. пад., ед.ч.; лат. meus, гот. meins — «мой», восходит к и.-е. места.пад. ед.ч. mei. Со временем значения объекта и принадлежности отводятся у «MH fe» на второй план в пользу более специализированной семантики адресата действия: др.-инд. mahya(m), лат. mihT, умбр, mehe (из meghi), арм. inj (из emghi) — «мне». Очевидно, на этапе освоения значения адресата застает историческое движение «MH fe» и балто-славянский ареал: болг. мен, сербохорв. мёни, словен. meni, чеш. тпё, слвц. тпе, польск. mnie, в.-луж., н.-луж. mni, mnje, др.-прусск. mennei, лит. manei, man. В эту эпоху под влиянием Род. пад. основ на -о-краткий (Соболевский) или Вин. пад. «МА» (Мейе) mene трансформируется в «МЕНК\». В итоге исторические наращения семантики «MH fe» выстраиваются в следующем порядке: объект центробежно направленного действия — винительный, субъект центростремительного процесса — родительный, адресат центробежного действия — дательный. К периоду восточнославянского языка полисемантичность1 «MH fe», очевидно, не вполне утратилась. Поэтому варианты перевода этого слова могут быть разными. В первом случае у «MH fe» можно высветить архаическое объектное значение. Причем целесообразно продемонстрировать это структурой с глаголом в прошедшем времени, так как нулевое сказуемое настоящего времени «КСТЬ» с семами «здесь-сейчас» (ОУВЫ — (КСТЬ) — «здесь-сейчас» — Mirfe) оттор гает аккузатив, делегировав «здесь-сейчас» форме «MH fe»: .ОУВЫ — MH fe Беда постигла -МЕНЯ
Речевая системность текста "плач слуг князя Святополка"
Значение горестного чувства в полной мере не выступает собственно лексической семантикой слова «ОУВЫ»1. Оно четко мотивировано носителем этого состояния — лицом, что высвечивает такую параллель намеченной акси-олинии, как аитропоцептрация. Мотивационный аспект проясняет релятивный характер оценки. В результате она не замыкается только на форме «ОУВЫ», а делегируется элементу правой стороны синтагмы со значением замещения лица: Данное построение и в третьем примере плача сохраняет свою смысловую, семантическую и структурную специфику. Так, в смысловом плане это единство не четко членится на тему и рему. В семантическом аспекте конструкция отличается категориальным значением бытийности. Оно высвечивается нулевым сказуемым экзистенциалыю-сти: оувы — (КСТЬ) — намъ. Со стороны структуры синтагма остается двухкомпонентной. Причины обязательности подобного ее состава в синхронии древнерусского понятны из предшествующего развития формы «НАМЪ». Слово «НАМЪ» имеет глубокие и широкие индоевропейские проекции. С его значением близкодействия реалий в пространстве по составляющим «мы-здесь-сейчас» в эволюции совмещалась объектная семантика. Собственно объектное значение датива «НАМЪ» проясняет уже первая энклитика этого образования — «НА», совпадавшая с краткой формой винительного двойственного числа: др.- инд. паи, авест. па, греч. vcb, лит. диал. nuodu, ст.-слав. нл, др.-русск. на — «мы (оба) — нас». Эту же объектную семантику дательного «НАМЪ» высвечивает и его вторая энклитика — «НЫ», пересекавшаяся в развитии с краткой формой аккузатива множественного числа: авест. па, болг. ии, др.- сербск. ни, сербохорв. диал. ни, др.-чеш. пу, ст.-слав. ны, др.-русск. ны — «нас». Сближение датива «НАМЪ» с аккузативом энклитик «НА», «НЫ» обязывает всмотреться и в винительный неэнклитического варианта «НАСЪ». Как и краткие образования, эта форма аккузатива, а также уже и генетива тоже обнаруживает прежде всего объектность: др.-инд. nas — «нас», гот., д.-в.-н. uns — «нас», др.-инд. asma — «нас», сербохорв. нас, словеп. nas, чеш. nas, слвц. nas, др.-польск. nas, в.-луж, н.-луж. nas — «нас». На правах компонента в состав винительного-родительного «НАСЪ» входило и значение принадлежности: др.-инд. asmakas — «наш», авест. ahma-, ahmaka — «наш». Впоследствии оно стало специализированной семантикой формы «НАШЬ»: болг. наш, сербохорв. наш, -а, -е, словен. na, nasa, nase, чеш. nas, nase, слвц. nas, nasa, nase, польск. nasz, в.-луж., н.-луж. nas — «наш». Еще одним составляющим винительного-родительного «НАСЪ —НА—НЫ» было субъектное значение: алб. па — «мы, нас». Со временем оно становилось семантикой дательного адресата: лат. nos, дат. nobis — «нам». Формант «-М-» у датива «НАМЪ» возникал под влиянием глагольного окончания -mes: -mos (греч. дор. -ucg, др.-инд. -mas, др.-лат. -mos). С этим структурным наращением дательный адресата и был освоен славянскими языками: сербохорв. нама, нам, словен. nam, чеш. nam, слвц. nam, др.-польск. nam, в.-луж., н.-луж. nam. По элементу «-М-» датив субъекта-адресата «НАМЪ» сближался и с номинативом, но уже субъекта-действователя, сохранившим окончание -Ы от датива и аккузатива энклитики «НЫ»: др.-инд. vay-am — «мы», авест. vaem, гот. weis — «мы», д.-в.-н. wir, хет. wes — «мы», лит. mes, лтш. mes, др.-прусск. mes, ар. mek — «мы», болг. ми, сербохорв. мй, словен. пи, чеш., слвц., польск. ту, в.-луж., н.-луж. ту. Структурное «приобретение» у «НАМЪ» в виде «-М-» вызывает интерес и в том плане, что оно входило в состав «первичных» личных окончаний глагола и маркировало вербативы настоящего времени, пересекавшиеся с про-номинантом «НАМЪ» по семе локального близкодействия реалий «здесь». На пространственное близкодействующее указание и наслаивалась вся цепь исторически разновременных семантических наращений слова «НАМЪ»: объект, принадлежность, адресат, действователь. Влиятельность близкодействующего локального дейксиса в значении «НАМЪ» определила смысловую тема-рематическую диффузность структуры «ОУВЫ НАМЪ», яркость бытийного аспекта ее семантики и двухкомпонент-ный состав. Все это дает основание для эксперимента переводом в нескольких редакциях. В первой у слова «НАМЪ» актуализируется древнее объектное значение. Оно предполагает некий смысловой временной интервал между действием и его объектом. Поэтому нулевой глагол настоящего как дублет по близкодей-ствию слова «НАМЪ» заменяется формой прошедшего времени, а эквивален том «НАМЪ» становится винительный объекта «НАС»: ОУВЫ - НАМЪ -, — Беда постигла - НАС Во втором варианте перевода у синтаксемы «НАМЪ» на первый план выводится тоже архаическая семантика принадлежности. Она не нуждется в маркировке временной дистанции между возникновением состояния и его освоением лицом. В силу этого ориентация на вектор настоящего времени сохраняется. При этом с учетом последующего устранения такой его фиксации, как «КСТЬ», сказуемое остается нулевым. Аналогом «НАМЪ» выступает уже прономинант притяжательное «НАШЕ»: О, горе —НАШЕ В третьей версии перевода у слова «НАМЪ» подчеркивается более позднее значение адресата. Так как субъекту делегируется состояние, то выражения временного интервала между ними не требуется. В связи с этим вектор презенса не меняется. Но его модусы «сейчас-здесь» передаются с помощью «НАМЪ». В результате предикат предстает нулевым: О, горе --НАМ . В четвертом варианте с учетом центростремительной направленности самооценки на субъект и в итоге как бы его включенности в состояние элемент структуры «НАМЪ» опускается. Его слагаемые «здесь-сейчас» уходят в зону смыслов. Но на них продолжает «намекать» функциональный аналог «НАМЪ» — нулевой «КСТЬ»: О, горе - 1.
Речевая системность текста "молитва князя Бориса"
Градация оценки обозначается количественно-именными составляющими форм (МНОГО—млстивыи), а также приставками высшей степени проявления признака (ПРЕ—млстиве, ПРЕ—щедрый). Тождественность реалии самой себе называется аллегоремами — существительными (ЖИВОДАВЬЧЕ, ЧЛВКОЛЮБЬЧЕ, ВЛДКО). Важно и то, что сообщенные номинации концентрируются в зачине молитвы. Их использование в верхних эшелонах текста обосновано. Так, молитва начинает развертываться с реалии, представленной формой звательного падежа (ГИ, БОЖЕ) в роли обращения. Далее же эта реалия по определенным признакам (МЛСТИВЫИ, ЩЕДРЫЙ) отграничивается от других и, наконец, отождествляется (ЧЛВКОЛЮБЬЧЕ). Обращает на себя внимание то, что в отличие от плача в молитве выделение предмета мысли (Бога) из ряда иных реалий проводится главным образом по его признакам, тогда как в плаче реалия (отец) очерчивается благодаря отождествлению. Поэтому при переходе от плача к молитве аллегории убывают в пользу номинаций признаковое положительной оценки. Стало быть, отвлеченные понятия (Бог) обнаруживают незначительное участие в формировании образных средств и, в частности, аллегорий1. По мере конкретизации (отец) образные потенции словоформ усиливаются. Второй «слой» содержания аксиовертикали формирует значение «хвалы». Оно выражается повтором существительного «СЛАВА»: Данная «магистраль» имеет ряд специфических примет. С одной стороны, она не выступает глубокой. Локализуется в зачине молитвы и по протяженности равна четырем употреблениям слова «СЛАВА». С другой — она предъявляется формами одной части речи — существительного, что подчеркивает возможность высокой специализации текстообразую-щих элементов (ОУВЫ — плач, СЛАВА — молитва) и при выражении оценки. С третьей стороны, в связи с представлением одним словом «СЛАВА» она последовательно выдержана в «мотиве» хвалы, почтения (др.-инд. cravas — «хвала, почет»). Как и в случае с семантикой горестного чувства (ОУВЫ), в эпизоде со значением хвалы (СЛАВА) оценка не выступает величиной собственно лексического уровня. Будучи ведущим слагаемым содержания слова-лексемы «СЛАВА», она вместе с тем оказывается релятивной. В реляционных проявлениях оценка — хвала адресуется элементам правой стороны приводимой ниже цитаты и легализует такую свою семантическую «параллель», как аптрополипия. Эта «трасса» обозначается повтором энклитики личного местоимения замещенного лица дательного падежа «ТИ»: В силу повторения как синтаксемы «СЛАВА», так и образования «ТИ» исчисляющие межфразовые связи структур «СЛАВА ТИ» нивелируются в пользу ассоциативных. Как в структурах плача «ОУВЫ MH fe», так и в синтагмах молитвы «СЛАВА ТИ» прослеживается взаимообусловленность категории пространства, выступающего в виде лица, и оценки в варианте похвалы. Единство локальности и аксиологичности определяет смысловую, семантическую и структурную специфику группы «СЛАВА ТИ». В смысловом аспекте построение «СЛАВА ТИ» отличается тема-рематической диффузностыо. Например, в мотивации тема — «ТИ» предшествует реме — «СЛАВА», тогда как в горизонтальном развертывании текста слева направо тема — «СЛАВА» предваряет рему — «ТИ». В семантическом плане конструкция обращает на себя внимание помимо оценочного и бытийным значением. Оно может быть прояснено вербализацией нулевого сказуемого «КСТЬ»: слава — (КСТЬ) — ти. Со стороны структуры единство «СЛАВА ТИ» характеризуется обязательной двухкомпонентностью. Причины сообщенных примет рассматриваемого построения проясняются этимологией слова «ТИ». По форманту «-И» у образования «ТИ» в индоевропейских изоглоссах четко восстанавливается исконное пространственное значение. О нем говорит тот факт, что «-И» восходит к указательному местоимению местного падежа единственного числа еі от е/о. Локальная семантика «-И», судя по модификации «КГО», выступала в виде дальнедействующего указания «там»: ЛИТ ІБ — оп», ji — «она», лат. is, еа, id, гот. is, ita, нов.-в.-н. er — «он». Через значение «он» компонент «-И» пересекался с собственно местоимением «ОНЪ», что подтверждает наличие у «-И» в древности сематики даль-недействующего пространственного дейксиса «там»: др.-лит. anas, лит.айБ — «тот, он», вост.-лит. anas — «он», ana — «она», арм. — п — «тот», ион.-атт. EKSTVOI; — «тот», д.-в.-н., в.-и. ёпег — «тот», болг. он, она, оно, сербохорв. он (8н), она, оно, словен. on, опа, оп8 (опо), чеш., слвц., польск. on , опа, опо, в.-луж. won, wona, wono, н.-луж. won, wona, wono. В эволюции слово «ТИ» по элементу «-И» отчасти соприкасалось и с ролью близкодействующего локального указания «здесь»: др.-инд., авест. ana — «этот». Благодаря составляющему -И» на пространственный дальнедействую-щий дейксис «ТИ» наслаивались временные семы. В результате «-И» мог входить в «ТИ» с такими вторичными темпорально вызванными значениями, как условие (греч. si — «если»), альтернация (др.-лит. ё — «но»), собственно время (греч. єїта — «потом, затем»). По причине этого же слагаемого «-И» с локальным близкодействием у «ТИ» совмещалась и такая вторичная семантика, как актуализация (лтш. ir — «также», др.- русск. и — «также, даже»). В конкретном тексте при включении «-И» в «ТИ» из разных пространственных и темпоральных исторических семантических наращений предпочтение отдается лишь некоторым из них. Чтобы очертить круг этих доминант, обратимся ко второму форманту «ТИ» — «Т-». По компоненту «Т-» слово «ТИ» в эволюции пересекалось с указательным местоимением «ТЪ». Но в отличие от элемента «-И» формант «Т-» свидетельствует о переключении образования «ТИ» с дальнедействующего локального указания «там» на близкодействующий пространственный дейксис «здесь»: др.-инд. ta-, ta — «этот», авест. ta— «этот», греч. xov, xfjv (дор. xav), то, лат. isum, isam, isud, тохар. A tam — «это», гот. рапа, — «этого», pata — «это», болг. тъй — «это», сербохорв. TSJ, tS, т8 — «этот», чеш. ten, ta , to — «этот, эта, это», в.-луж. ton, ta — «этот». По этому же форманту «Т-» на локальное близкодействующее указание у «ТИ» наслаивались значения актуализации (болг. тъй — «так», лит. tat — «так», русск.-цслав. тк — «так») и исчисления (др.-лит. teTeT — «как, так и»). Собственная этимология «ТИ» не затрагивает архаические напластования дальнедействующего и близкодействующего пространственного дейксиса. Это слово более последовательно обнаруживает вторичные, развивавшиеся на основе близкодействующего указания, семы негации, актуализации (сербохорв. нити ... нити — «ни-ни», словен. niti — «и не, даже не»), исчисления (лит. teT ... teT — «как, так и») и — реже, на базе дальнедействующего дейксиса, оттенки цели (гот. pei — «чтобы»). Как видим, локальное значение дальнодействия «там» и темпоральные семы условия «если», альтернации «но» и собственно времени «потом» компонента «-И» при его вхождении в «ТИ» оказались погашенными пространственным значением близкодеиствия «здесь» и семой актуализации элемента «Т-».
Речевая системность текста "молитва автора"
В плаче слуг Святополка переориентация с объективной оценки в варианте личного горестного чувства (оувы — НАМЪ) на объективную — ритуальную — тоже происходила благодаря привлечению второго оцениваемого объекта — Бориса, косвенные названия которого также подчеркивают динамику ре-чемысли писца от конкретных компонентов значения (водителю — СЛ ШЫИМЪ, одеже — НАГЫМЪ, старости — ЖЬЗЛЕ) к абстрактным (ка-зателю - не НАКАЗАНЫМЪ).
В молитве Бориса ряд оцениваемых реалий сокращается путем устранения субъекта самооценки (ср. оувы — MH fe, НАМЪ). Для оценки же объекта — предмета мысли Бога — используются прежде всего прилагательные (МНОГОМЛСТИВЫИ, ПРЕЩЕДРЫИ), а также существительные (ЖИВО-ДАВЬЧЕ, ЧЛВКОЛЮБЬЧЕ). Объективность оценочной семантики последних, особенно адъективов, подтверждается их воспроизводимостью с этим же значением и в других примерах молитвы. Так, в молении Глеба обнаруживаем те же по основе формы, что и в мольбе Бориса, а именно: ПРЕЩЕДРЫИ, ПРЕМИЛОСТИВЕ. А в молитве автора находим такие же образования, которые имели место и в молении Бориса, в частности: ВЛДКО. Очевидно то, что в плачах при нарастании объективности оценки привлекаются аллегории, тогда как в молитвах увеличение объективности оценки влечет за собой переход аллегорем в мифологемы. Они отличаются от аллегории однокомпонентностью (ПРЕЩЕДРЫИ, МЛСТИВЫИ, ВЛДКО) и лекси-кализованностыо значения, то есть такой семантикой, которая для распознавания не требует широкого контекста. В случае нарастания контекстности значения номинаций типа «ВЛДКО» и расширения их семантики за счет увеличения абстрактности (человек -» люди - их дела - мир горний: ВЛДКО) последняя синтаксема может становиться символом и претендовать на создание второй, до известной степени художественной, картины мира — мира гармонии (ср. влдко - кдиныи - : без ГРІХА). Если принять во внимание активизацию в последующем развитии русской текстовой системы вторичных названий Бога с лексикализованным значением, реализующимся в границах словоформы (Творец, Содетель, Вышний, Всевышний, Зиждитель, Вседержитель, Спаситель, Сердцевиден и т.д.), то просматривается историческая динамика комментируемой фигуры от аллегории к символу и затем — мифу1. Как видим, по сравнению с плачем в молитве оценка в большей степени объективирована. Она представляется уже не собственно аллегорией (СВІТЕ ОЧИЮ — «отец»), а контекстно направленным символом (ВЛДКО - кдиныи - без гріха -» «мир гармонии»), переходящим из-за повторения «ВЛДКО» в разных молениях в миф. Ясно, что уже в верхних эшелонах мольбы автора весьма отчетливо просматривается невысокая семантико-структурная устойчивость речевой формы такого рода жанрового образования. Это видно из того, что аксиолинии оценки и ассоциативности плачей Бориса и слуг Святополка в молитве отводятся на второй план логовертикалью уточнения. Подобное влечет за собой изменение функции сочетаний вторичного номинирования от аллегории к символу и мифу. Заметим, что по мере оживления символичности и мифологичиости в оценке антропоцентрический способ организации семантического пространства по теме синтагм, маркерами которого в плаче были прономинанты «МНІ — НАМЪ», в молении сходит на нет. Однако возвратимся к оценке. Отмеченное в связи с аллегориями семантическое усложнение аксиотрассы положительных коннотаций обертонами уточнения прослеживается в авторской мольбе и далее, в отношении других вертикалей. Это влечет за собой ряд последствий, важных для осмысления семантико-струк-турных параметров стабильности молитвы как жанровой формы. В частности, из-за регулярных содержательных наращений многие вертикали рассматриваемого примера моления утрачивают семантическую опреде 329 ленность. Это ведет к варьированию средств их выражения и сокращению протяженности. Подкрепим данное соображение конкретными наблюдениями. Так, разнородность падежных форм в сообщенном ряде (вокатив — ВЛДКО, номинатив — КДИНЫИ и генетив — без ГР кХА), присутствие в нем именительного и четкие рациональные связи его компонентов по линии «общее-частное» создают впечатление об этой цепи образований как о нерасчлененном в тема-рематическом отношении и законченном предикативном построении бытий-но-оценочной семантики. Последнее можно прояснить в эксперименте благодаря восстановлению глагола 2-го лица, ед. ч. «КСИ» от «быти» в составном именном сказуемом: ВЛДКО — «ты кси» — кдиныи без rp fcxa — «безгрешный». При осмыслении группы «ВЛДКО КДИНЫИ без ГР ЬХА» как самостоятельного предложения вербатив «ПРИЗЬРИ», инициирующий следующую тактовую группу (.ПРИЗЬРИ — съ нбсе стго твокго на насъ оубогыхъ), оказывается в ее тематической сфере. В таком случае продолжением центрации текстовой локальности положительной оценкой (без rp fexa) по теме синтагм авторского моления начинает выступать имплицитная желательность. Плачам она не была присуща. В мольбе же Бориса и Глеба имела место. Следовательно, эту семантическую разновидность консолидации пространства оценкой есть доводы отнести к жанровообразующей в отношении молитвы. Вместе с тем в разных примерах молений аксиотрасса невербализованной желательности получает специфические речевые версии. В частности, в мольбе Бориса она обнаруживалась в чистом виде, то есть семантически не усложненной, и выражалась контекстно не обусловленными синтаксемами «ПРИЗЬРИ», «ВИЖЬ», «В-ЬСИ». В молитве Глеба аксиомагистраль имплицитной желательности могла получать семантическое обогащение за счет значений альтернации и негации и представляться уже контекстно связанными формами «ПРЕМЪЛЧИ», «ОУМИЛИ СГС1», употреблявшимися в сопровождении релятивов «НЕ» и «НЪ». В третьем же примере рассматриваемой жанровой формы аксиолиния имплицитной желательности снова начинает задаваться контекстно не обусловленными образованиями — императивами: ПРИЗЬРИ — съ нБсе стто твокго на насъ оубогыхъ, СЪТВОРИ — съ нами по млсти твоки тії. Из компонентов справа в непосредственной близости к формам повеления находятся слова разных частей речи — существительного (съ НБСЕ) и местоимения (съ НАМИ). Они различаются по природе лексического значения. Первая номинация прямо называет пространство (влдко призьри — съ НБСЕ). Второе образование представляет пространство через замещение лица (сътвори — съ НАМИ). Нет единства между ними и по синтаксемным признакам: съ НБСЕ — склонение с основой на согласный, ср. р., ед.ч., Род. пад.; съ НАМИ — личное местоимение, 1-е лицо, мн. ч., Твор. падеж. Неоднородность комментируемых синтаксем по собственным лексико-грамматическим признакам остается прозрачной и на уровне их релятивных контекстных сем ранга класса слов. В эту группу включились номинация инактивности, предъявляющая реалию вне органической жизнедеятельности субъекта (съ НБСЕ), и форма активности, опосредованно маркирующая источник органической деятельности — реальное совокупное лицо (съ НАМИ — «живущими на земле»). Многоаспектная нетождественность образований «съ НБСЕ» и «съ НАМИ» не допускает и мысли о том, что эта двухчастная группа может претендовать на вертикаль текста.