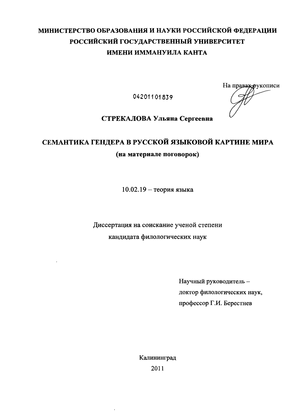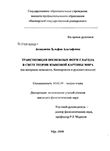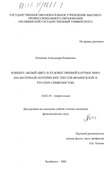Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Место гендерных исследований в ряду научных дисциплин о человеке, обществе и языке
1. Социально-культурные основания категории тендера в языковой картине мира 14
2. Вопрос о предмете и задачах тендерных исследований в отношении к современной лингвистике 19
3. Междисциплинарность тендерных исследований 26
4. Тендер в традиционном сознании носителей языка: междисциплинарный аспект «язык - общество - культура» 32
Выводы 37
Глава II. Принципы концептного анализа «мужского» и «женского» в языке и дискурсе
1. Учет познавательной природы концептов и категорий в языковом сознании человека 39
2. Учет реальной континуальности категорий «мужского» и «женского» в языке 43
3. Широкие выходы в сферу культурных представлений 47
4. Концептный анализ «мужского» и «женского» с точки зрения семантики синтаксиса 58
5. Конкретные методы концептного анализа «мужского» и «женского» на основе языковых данных 71
5.1. Ономасиологический анализ 71
5.2. Анализ связей между элементами семантической парадигмы
слова в диахроническом аспекте 73
5.3. Системный семантический анализ членов лексико-семантической группы (ЛСГ) 76
5.4. Анализ семантики словосочетаний 78
5.5. Переход на уровень собственно дискурса: анализ контекстов, выражающих идеологию «мужского» и «женского» 80
Выводы 84
Глава III. Реконструкция русской языковой картины мира в аспекте тендера
1. Языковые стратегии женщин и мужчин в традиционном лингво- культурном сознании 86
1.1. Нормы тендерного языкового поведения по данным антропологии и прикладной психологии 86
1.2. Нормы тендерного языкового поведения по данным русских поговорок 90
2. «Муж есть кормчий, а жена судно»: социальные роли мужчины и
женщины по данным пословиц и поговорок 99
2.1. Социальные роли мужчины и женщины в русской культурной традиции: общий аспект 99
2.2. Социальные роли мужчины и женщины по данным поговорок 105
3. Внешний вид мужчины и женщины 112
4. Содержание концептуальной оппозиции «добрый - дурной» в отношении характеров мужчины и женщины в русском традиционном лингвокультурном сознании 120
4.1. Положительные черты женского характера 121
4.2. Отрицательные черты женского характера 125
4.3. Мужские стратегии в отношении «злых жен» 130
4.4. Тендерные черты мужского характера 137
5. Тендерные особенности концептуальной области «брачные отно шения» в русском традиционном лингвокультурном сознании 139
5.1. Ключевые концепты, определяющие время, предшествующее браку 140
5.2. Концепты, определяющие отношение к браку до вступления в него 146
5.3. Концепты, составляющие основания для вступления в брак 151
5.4. Ключевые концепты, характеризующие положение мужчины и женщины в браке 156
5.5. Способы языкового выражения семантики семейного лада в тендерном аспекте 161
5.6. Способы языкового выражения и структура концептуальной области «семейные ссоры и примирения» 1 165
6. Тендерные характеристики брачных девиаций в русском традици онном лингвокультурном сознании , ,-
6.1. Концептуальная структура неравных браков 167
6.2. Концептуальная область «гулящая жена» и ее содержательная структура 174
6.3. Содержательная структура концепта «вдовство» 180
Выводы 185
Заключение 188
Библиография 195
- Социально-культурные основания категории тендера в языковой картине мира
- Учет познавательной природы концептов и категорий в языковом сознании человека
- Языковые стратегии женщин и мужчин в традиционном лингво- культурном сознании
- Ключевые концепты, определяющие время, предшествующее браку
Введение к работе
В настоящее время исследователи рассматривают язык не только как основное средство человеческой коммуникации, но и как средство знакового оформления осуществляемого человеком познания действительности. Однако прежде всего в нем видят средство хранения результатов познания. В связи с этим широкое распространение получило обращение лингвистов к таким фундаментальным лингвистическим категориям, как «языковая (наивная) картина мира», «концептуальная область», « концепт». Особое место в этом ряду занимает категория «языковая картина мира», которая определяется как совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных единиц данного языка - полнозначных лексических единиц, дискурсивных слов, устойчивых конструкций разного масштаба, синтаксических образований и т. д. При этом концептуальные области и концепты определяются как строевые единицы языковой картины мира, обладающие относительной самостоятельностью и содержательной законченностью.
Языковая картина мира определяется в своей целостности в акте семантической реконструкции. При этом объединенность в структуре семантических единиц не только собственно языковых, но и культурно-ассоциативных, прагматических содержаний предполагает обращение при такой реконструкции, помимо фактов языка, к любым явлениям культурного порядка, складывающимся в тексты в самом широком смысле этого слова [см.: Арутюнова 1988; Арутюнова 1999].
Как подчеркнул Ю.Д. Апресян, «языковая картина мира лингво-, или этноспе-цифична, т. е. отражает особый способ мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для него и отличающий его от каких-то других языков» [Апресян 2006: 35]. Таково основное правило содержательной организации языковых картин мира. Но это означает, что и отдельные их конституенты обладают свойством лингвоспецифичности. В самом деле, «особый способ мировидения» проявляет себя уже в национально специфичном наборе ключевых концептов, которые при этом могут выражаться многими средствами языка, имеющими самую разную природу - лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими. Эти концепты могут представляться и на уровне законченных предложений, будучи связанными с категорией предикативности. Но особенно показательны в этом отношении пословицы и поговорки, в силу самой своей жанровой специфики аккумулирующие в себе все аспекты видения народом социальной действительности и все нюансы оценочного отношения к ней.
Один из важнейших фрагментов языковой картины мира — содержательная область, связываемая с категориями «мужское» и «женское» и организующаяся вокруг этих категорий (вследствие этого ее можно определять и как категориальную область). Эта область в картине мира определяет содержательную специфику тендерных представлений носителей данного языка. Собственно говоря, представления о «мужском» и «женском» в разных аспектах и составляют содержание категории «тендер».
Интерес языкознания к тендерной проблематике в настоящее время все более возрастает. Так, исследователи стремятся утвердиться в представленности тендерной дифференциации в языке [Bodine 1975], определить границы предмета рассмотрения в тендерной лингвистике [Горшко, Кирилина 1999], отработать общие принципы тендерных исследований в науке о языке [Кирилина 1999], разграничить «мужские» и «женские» языки в аспекте сфер их функционирования [Заботкина 2001, 2002], выявить специальные «мужские» и «женские» средства языковой выразительности в специальных дискурсах [Васильева 2000, 2005], выявить исторические изменения в языке мужчин и женщин [Biber, Burges 2000] и т.д.
Особую задачу составляет выявление содержательной структуры категорий «мужского» и «женского» в лингвокультурном сознании носителей того или иного конкретного языка. А оно возможно на междисциплинарной основе - при объединении усилий культурологов, социологов, философов, когнитивистов. Ведущая роль в этом плане принадлежит лингвистам, поскольку они имеют дело с уникальным источником человеческих знаний, каковым является язык.
Настоящая диссертационная работа выполнена на стыке таких дисциплинарных областей современной науки о языке, как тендерная лингвистика, когнитивная лингвистика, языковая прагматика, лингвокультурология, семасиология, теория текста, и посвящена содержательной реконструкции категориальных областей «мужское» и «женское» в русском традиционном лингвокультурном сознании. В фокусе внимания при этом оказались вопросы концептуальной структуры этих областей, способов языкового выражения соответствующих содержаний, их оценка в сознании носителей языка, организация ментального пространства, включающего соответствующие представления, условия взаимодействия языка и культуры.
Актуальность предпринятого исследования обусловлена самим ходом развития современной лингвистики, ориентированной на носителя языка, то есть особенно активно реализующей принцип антроцентризма. Возникла настоятельная необходимость изучения репрезентированных в языке знаний человека о самом себе в аспекте тендерной дифференциации. Этого изучения настоятельно потребовали также тендерная психология, тендерная социология, различные прикладные гуманитарные дисциплины, связанные с жизнью мужчин и женщин в обществе. И главное в этом плане - дать системное, и по возможности исчерпывающее описание семантики «мужского» и «женского» в сознании человека, показать, какими характеристиками мужчины и женщины реально различаются, прежде всего с языковой точки зрения.
Исследование семантики тендера в языковом сознании носителей языка актуально также в силу причин когнитивного свойства, проявляющихся также в культурной сфере и в некоторых философских дискурсах. Отмечено, что посредством тендерных противопоставлений «мужского» и «женского» в подобных условиях моделируются некоторые идеи, выводимые авторами на уровень принципов. Так, в сфере культурных символов отмечаются «мужские» предметы (бык, копье, меч, обелиск и др.) и предметы «женские» (вода, луна, печь, чаша и др.). С этой точки зрения, например, крест объединяет в себе семантику «мужского» и «женского» [см.: Топоров 1992: 12 - 13]. В философском плане Н. Бердяев, стремясь дать объяснение русского национального характера, также использовал «женскую» тендерную модель [Бердяев 1990: 36 - 48]. К этой модели обратился в своих философских рассуждениях о сущностном своеобразии этносов и О. Вейнингер [Вейнингер 1992: 332 и далее]. В этих обстоятельствах необходимо определить познавательные механизмы такого моделирования, но прежде всего - его семантические основания.
Наконец, актуальным в рамках данного исследования является выход на такие уровни теоретического обобщения имеющихся языковых данных, где более определенно просматривается специфика когнитивной сферы человека, устройство его ментального пространства - все то, что определилось как «новая реальность языкознания» [см.: Берестнев 1997].
Объектом настоящего диссертационного исследования выступили категориальные области «мужское» и «женское» в русском традиционном лингвокультур-ном сознании. Предмет исследования составили содержательные особенности этих категориальных областей, выявленные на основе данных русских пословиц и поговорок. Одновременно в сферу научного интереса в этих условиях входили способы языкового выражения соответствующих концептуальных областей и концептов, специфика их оценки носителями языка.
Цель данной работы составила семантическая реконструкция категориальных областей «мужское» и «женское» в русской языковой картине мира по данным пословиц и поговорок, описание языковых средств выражения тендерной семантики в данных условиях.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: проанализировать выдвигаемые в настоящее время теории тендера, и на этой основе выявить идеи и положения, продуктивные при разработке теоретических оснований настоящего исследования; проанализировать актуальные потребности современной гендерологии и собственно тендерной лингвистики и более строго определить предметную область настоящего исследования; разработать основные принципы и методы реконструкции семантических составляющих категориальных областей «мужское» и «женское» на основе языковых данных; оценить эффективность разработанных принципов и методов реконструкции семантики тендера по отношению к разным уровням и аспектам языковой системы современного русского языка; разработать общую структурную модель описания семантики тендера в русском лингвокультурном сознании, чтобы использовать ее затем как основу в построении данного исследования; описать концептуальную семантику «мужского» и «женского» в каждом из структурных частей соответствующих категориальных областей; выявить специфику и аспекты оценки «мужского» и «женского» в русском традиционном лингвокультурном сознании; - обобщить полученные данные, выявить когнитивные свойства категориаль ных областей «мужского» и «женского» на глубинных уровнях русской языковой ментальносте.
Цель, задачи и общая парадигмальная установка работы обусловили обращение к следующим основным исследовательским методам:
1) метод компонентного анализа, опирающийся на выявление признаковой структуры лексических значений и позволяющий корректно и теоретически обос нованно представлять концептуальные содержания слов; метод контекстного анализа, позволяющий воссоздавать признаковые структуры рассматриваемых содержательных объектов с учетом предикативности высказывания, проясняющей содержательные характеристики всей описываемой им ситуации; метод семантической реконструкции, позволяющий воссоздавать разномасштабные содержательные единицы языка и языкового сознания человека по их отдельным структурным семантическим составляющим; метод когнитивного моделирования, позволяющий на основе языковых данных реконструировать представления, принадлежащие глубинным уровням человеческой ментальносте; метод лингвокультурологического анализа, предполагающий принятие во внимание культурных условий, в которых функционирует конкретное слово или высказывание, — он позволяет воссоздавать прагматическую семантику слов, которая важна для данных контекстов, но выражается в них имплицитно, на ассоциативном уровне; сопоставительный метод, позволяющий выявлять семантические сходства и различия между концептуальными областями «мужского» и «женского» в русском традиционном лингвокультурном сознании и устанавлиать типологически значимые содержательные сходства и различия между ними; метод словарных дефиниций, позволяющий реконструировать признаковую структуру лексических значений на основе данных толковых словарей; синхронно-описательный метод с привлечением таких приемов, как лингвистическое наблюдение, сравнение, обобщение, интерпретация имеющихся фактов, -он позволил представить полученные данные последовательно и теоретически непротиворечиво.
Материалом для исследования послужили, прежде всего, пословицы и поговорки русского народа, собранные В.И. Далем (при этом сами термины «пословица» и «поговорка» определялись с лингвистических позиций в соответствии с работой [Соболевская 2005]). Также это были данные современного русского языка, относящиеся к сферам лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, теории текста. В качестве материала в исследовании использовались и данные, содержащиеся в работах других авторов (Э. Бенвенист, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, К.Д. Бак, М. Фасмер и др.). Наконец, определенный материал для исследования предоставили лингвистические, этнолингвистические, энциклопедические словари, а также словари символов.
В качестве методологической основы исследования в работе приняты базовые положения теории языка (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Г.И. Берестнев, А. Веж-бицкая, Э. Рош, Ю.С. Степанов, В.Н. Топоров), когнитивной лингвистики (Г.И. Берестнев, В.З. Демьянков, Дж. Лакофф, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова), исторической семантики (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров), лингвокультурологии (Э. Бенвенист, Г.И. Берестнев, А. Вежбицкая, Анна А. Зализняк, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев), теории тендера и тендерной лингвистики (И.Б. Ва- сильева, В.И. Заботкина, Е.И. Горшко, Е.П. Ильин, Д. Кемерон, А.В. Кирилина, Дж. Коутс, Дж. Лэйкофф, С. Ромейн, Дж. Хумз и др.).
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые разработаны и реализованы принципы семантической реконструкции тендерных представлений. Определенные попытки реконструкции тендерных портретов мужчины и женщины в разных языках [Зыкова 2003; Телия 1996: 260 и далее] исследователями уже предпринимались, но на ограниченном языковом материале. Новизну настоящей работы составляет то, что эти принципы в ней представлены полностью и в отношении широкого языкового материала, включающего все содержательные уровни языка.
В частности, в настоящем исследовании впервые проблема тендерных знаний человека соотнесена с такими познавательными структурами, как концепт и концептуальная область, восходящими к предельному выражению этих знаний - целостному фрагменту языковой картины мира; определена структура междисциплинарное тендерных исследований, рассмотрены место и роль каждой из смежных научных гуманитарных дисциплин в языковом исследовании тендера; выявлена и описана структура фрагмента русской языковой картины мира, объединяющегося вокруг категорий «мужское» и «женское», на всех его уровнях, заканчивая отдельными концептами; выявлена структура оценочности представлений о «мужском» и «женском» в русской традиционной лингвокультурной ментальносте; учтена позиция наблюдателя при анализе семантики и оценки тендерных представлений, определена система позиций наблюдателя в этом плане; намечено новое направление семантических исследований тендера на основе данных языка, которое могло бы получить название «тендерная семантика»; проблема тендерных знаний в языковом сообществе рассмотрена с когнитивной точки зрения - с учетом познавательной организации этих знаний в ментальном пространстве человека.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что она способствует уточнению и развитию положений современной лингвистики о языке как форме хранения знаний носителей языка о действительности. Развитие существующей языковой теории в данном случае определяется тем, что познаваемая действительность принадлежит в данном случае социальной сфере, а областью интереса для познающего субъекта является он сам. Иными словами, развитие языковой теории в настоящей диссертации определяется исследованием в ней рефлексивной спо- собности человеческого сознания. Важным является и то, что исследованные в диссертации категории «мужское» и «женское» имеют универсальный характер и, по сути, являются архетипами коллективного бессознательного. В силу этого языковая теория в диссертации обогащается современными теоретическими положениями аналитической психологии. К области теории относятся и развиваемые в диссертации положения о связи языка и культуры в познавательной сфере человека. Наконец, настоящее диссертационное исследование развивает важнейшие положения современной когнитивной науки относительно способа существования и устройства ментального пространства человека.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности применения ее выводов и развиваемых в ней положений в практике вузовского преподавания языковых дисциплин — при подготовке лекционных курсов и семинарских занятий по теории языка, лексикологии, семантике, лингвокультурологии, психолингвистике, социолингвистике. Кроме того, диссертация может найти практическое применение в практике лексикографии - при создании нового словаря идеографического типа, в котором будут описаны способы репрезентации концептов, входящих в состав концептуальных областей «мужское» и «женское» в русском языке.
В соответствии с поставленной целью в качестве основных положений, определяющих научную новизну и теоретическую значимость диссертационной работы, на защиту выносятся следующие:
Тендерные исследования являются по сути своей междисцилинарными, и ведущими дисциплинами в этом плане являются лингвистика, социология, культурология.
Представления о «мужском» и «женском» в разных лингвокультурных средах этноспецифичны.
Содержание тендерных категорий «мужское» и «женское» в значительной мере определяется признаками, имеющими характер культурных универсалий, но вместе с тем задается культурной идеологией, уникальной для каждой конкретной культуры.
Пословицы и поговорки составляют особенно богатый материал для реконструкции тендерных представлений на языковых основаниях.
Тендерные знания носителей языка реализуются на каждом из уровней языковой системы (кроме фонетического в силу его асемантичности) и в каждом ее аспекте - в мотивации языкового знака, в лексической семантике, в словообразовании, в морфологии, в синтаксисе, в семантике текста.
Принципиально важную роль в осмыслении носителями русского языка «мужского» и «женского» играет оценка; все тендерные черты мужчин и женщин, отмеченные в поговорках, получают в сознании носителей языка либо положительную, либо отрицательную оценку.
Основные языковые механизмы выражения тендерных содержаний в русском лингвокультурном сознании - сравнение, метафора, метонимия.
Принципиально важную роль в формировании тендерных представлений в сознании носителей русского языка играет прагматический фактор.
В познавательном плане фрагмент русской языковой картины мира, определяемой как «гендерный» характеризуется познавательной континуальностью и отсутствием четких границ между его содержательными конституентами.
Апробация работы. Основные положения и результаты настоящего диссертационного исследования обсуждались на кафедре общего и русского языкознания РГУ им. И. Канта, были представлены в докладах на ежегодных научных семинарах аспирантов РГУ им. И. Канта (2007-2009 гг), на международных научных конференциях «Оценки и ценности в современном научном познании» (Калининград, 20 - 22 июня 2008 г.), «Язык и дискурс в статике и динамике» (Минск, 14-15 ноября 2008 г.). По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ общим объемом 2,5 п.л., из них 2 - внесенные в реестр ВАК.
Структура и содержание работы. Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список использованной научной литературы, словарей, энциклопедических изданий.
Во Введении обосновывается выбор темы, объясняется специфика данного исследования, связанная с лостановкой и решением проблемы содержания тендерных представлений в традиционном лингвокультурном сознании носителей русского языка; определяются объект и предмет исследования, материал и методы его анализа; раскрывается новизна работы, отмечается ее актуальность, теоретическая и практическая значимость; формулируются цели и задачи работы, описывается ее структура.
В главе 1 «Место тендерных исследований в ряду научных дисциплин о человеке, обществе и языке» содержится аналитический обзор работ по данной проблематике, имеющий целью определить структуру междисциплинарности тендерных исследований, рассматривается место и роль каждой из смежных научных гуманитарных дисциплин в языковом исследовании тендера. Также здесь рассматриваются общие вопросы, касающиеся своеобразия осмысления тендерных представлений лицами, принадлежащими разным традиционным культурам, и утвер- ждается культурно-относительный характер этих представлений. Наконец, в этой главе определяется важность междисциплинарных связей языкознания, социологии и культурологи при реконструкции тендерных представлений того или иного народа.
Социально-культурные основания категории тендера в языковой картине мира
«Гендер» — одна из наиболее важных фундаментальных социальных категорий в любой языковой картине мира — она является языковой и вместе с тем социальной универсалией. Гендерные представления в значительной мере определяют структуру различных социумов, но одновременно они сами вне общества не существуют. При этом гендерные представления имеют под собой целый ряд оснований различного свойства.
Прежде всего, в каждом обществе на идейном и языковом уровне фиксируется биологическое разделение людей на мужчин и женщин. Это разделение затрагивает жизнь каждого человека на самых ранних ее этапах. Каждый новорожденный относится врачами и родителями к мужской или женской группе на естественном анатомическом основании [ср.: Smith 1985: 21].
Подобные основополагающие и, по сути, самые главные гендерные представления формируются на основе наиболее явных, фиксируемых визуально признаков: первое, что отмечается в человеке при его восприятии, - мужчина он или женщина [ср.: Romaine 1999]. Увидев ребенка в младенческом возрасте, взрослые ведут себя по-разному в отношении мальчиков и девочек [ср.: Codry, Codry 1976; Burnham, Harris 1992; Glass 2000]. Также один и тот же тип поведения ребенка может получать разную интерпретацию, причем решающую роль в этих условиях будет играть только предположение о его биологическом поле и связанные с этим стереотипы [см.: Codry, Codry 1976].
По существу, точно так же внутренне поступают и дети, когда внешние признаки человека принимают в качестве основания для разграничения на мужчин и женщин. Установлено, например, что 80% детей двухлетнего возраста в США могут уверенно отличать мужчин от женщин исключительно на основании внешних социокультурных показателей - прически и стиля одежды [см.: Romaine 1999: 1].
Почему же для разграничения людей на основные социальные группы выбран именно гендер, а не иные критерии - такие, например, как возраст, рост, вес, цвет глаз и т.п.? По всей видимости, потому, что они не играют такой роли в обществе, как физическая сила и связанная с ней способность добывать пищу, строить жилище и противостоять врагам или рожать и выкармливать детей. И варьирование та ких признаков не меняет их принципиально низкой функциональности в жизни человека.
Сама структура общества и традиционная организация повседневной жизни в нем основывается на наличии двух дистинктивных групп - мужчин и женщин. Поэтому общество прилагает огромные усилия к тому, чтобы не только создать, но и постоянно поддерживать идейные основания для разделения всех людей на мужчин и женщин. С этой целью оно создает специальные институты, а затем ритуали-зирует социальные роли и отношения в них как между мужчинами и женщинами, так и внутри самих этих групп.
Ритуализация тендера и гендерных отношений осуществляется посредством гендерных индексов — культурных характеристик и моделей, сигнализирующих о принадлежности индивида к определенному тендеру. Таковыми, в частности, являются внешность, одежда, манера поведения в обществе, походка и т.д. Не последнее место в данном ряду занимает вербальное поведение человека и используемые им невербальные средства коммуникации. Важно отметить при этом, что все подобные индексы культурно и исторически обусловлены.
Тендер институализируется в том смысле, что связь с ним имеют вводимые в социальное обращение важнейшие структурные начала общества - такие, как семья, система образования, правовые установки, религиозные принципы и т.д. Каждое из этих начал в самом себе содержит разделение на «мужское» и «женское», что во многом определяет их конкретное содержательное наполнение [см.: Кирилина 1999а: 12]. В итоге, как отмечает современная исследовательница данной проблематики Пенелопа Экерт, «тендерные роли и идеологии создают для мужчин и женщин различный опыт в жизни, культуре и обществе» [Eckert 1997: 214].
На этой основе формируются все необходимые условия взаимного влияния общества и тендера. Актуальность этих условий такова, что в каждом обществе возникают свои тендерные субкультуры, а отношение личности себя к мужской или женской субкультуре служит для нее одним из основных критериев в определении собственной идентичности [см.: Smith 1985: 22].
Как социальный параметр, тендер входит в сложное взаимодействие с другими параметрами личности - такими, как возраст, социальный статус, этническая принадлежность, экономический класс и т.д. [см.: Eckert 1997: 215]. При этом исследователи не раз отмечали, что в ряду прочих социальных параметров именно тендер оказывает особенно сильное влияние на индивидуальную картину мира человека и осуществляемые им акты коммуникации [см., например: Tannen 1996; Nordenstam 1992]. В частности, к этой мысли пришла Дебора Таннен. Проанализировав страте гии общения друзей одного пола, но разного возраста, она пришла к выводу, что эти стратегии имеют гораздо больше тендерной специфики по сравнению с возрастной [см.: Tannen 1996: 85].
Тендер имеет самое непосредственное отношение и к распределению власти в обществе [см.: Eckert 1997; Fishman 1997; Thomas, Wareing 1999]. Власть, как и тендер, является продуктом социальной деятельности человека, имеющим истоки, с одной стороны, в социально-экономических условиях его бытия, а с другой - в его физиологических и психологических способностях. При этом понятие власти не сводится к мысли о простом физическом принуждении, но имеет гораздо более широкое содержание, включающее также «способность навязывать свое определение того, что возможно, что рационально, что реально» [Fishman 1997: 416].
Обобщая все эти положения и переходя, по сути, на общесемиотический уровень рассмотрения проблемы тендера в обществе, Сюзен Ромейн пишет, обращаясь к идеям М. Бахтина, что «общество разноязыко» и «состоит из конкурирующих дискурсов» [Romaine 1999: 9 - 10]. Понятно отсюда, что утверждение идеологии доминирующей группы в обществе достигается в значительной мере посредством специфического использования языка в разных типах дискурса [см.: Romaine 1999]. И если господствующее положение в обществе занимают мужчины, то именно мужская лингвокультурная картина мира закрепляется в общественном сознании, определяя тем самым языковое мировидение общества в целом.
При этом актуальной оказывается и миросозидательная функция языка. Язык воссоздает тендерные отношения, установленные в обществе, посредством языковых концептов; этому же косвенно способствуют грамматические особенности языка - употребление форм мужского / женского рода, соответствия грамматического рода мужскому или женскому референту, связанные с этим коллокации, специфика словаря и т.д. Особо важным в этих условиях является то, что некоторые слова в языке имеют тендерные коннотации, определяющие их употребление. Например, в английском языке о фигуре мужчины можно сказать physique, потому что это слово подразумевает силу и крупный размер. Говоря о женщине, используют обычно слово figure, которое подразумевает привлекательность и стройность [см.: Goddard, Patterson 2000]. Эта тенденция намечается и в русском языке: о женщине скорее скажут, что она фигуристая, но о мужчине - У него красивая фигура (выражение Он фигуристый имеет иные коннотации и указывает, по сути, на же-ноподобность мужчины). Если в обморок падает женщина, то носители английского языка скажут She fainted, в то время как о мужчине в этих условиях говорят скорее
Учет познавательной природы концептов и категорий в языковом сознании человека
В современной лингвистике, лежащей в русле когнитивной парадигмы, категории и концепты рассматриваются как результат человеческого познания. Концептуализация, или понятийная классификация, определяется при этом как «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека» [Кубрякова 1996: 93]. Процесс концептуализации ведет к формированию в человеческой ментальносте концептов - особых «квантов знания», «минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении» [Кубрякова 1996: 93]. Внешне механизм концептуализации проявляется в том, что, воспринимая окружающую действительность, человек выделяет в ней актуальные для него элементы, членя действительность в своем сознании на определенные части, и впоследствии мыслит действительность уже этими частями [см.: Берестнев 2002: 9]. При этом подобное выделение отдельных элементов действительности в ее семантическом континууме предполагает выполнение еще двух познавательных операций - категоризации, то есть определения класса явлений, признаков, процессов и т.д. на основе выделения у них общих характеризующих черт, и абстрагирования от всего в каждом конкретном случае неважного, незначительного, непринципиального, не влияющего, по мнению человека, на суть данного познавательного элемента [см.: Берестнев 2002: 10].
На основе этих механизмов в сознании человека формируются концепты, которые представляют собой результат его познавательной деятельности. Г.И. Берестнев полагает, что «это содержательные абстракции, своеобразные познавательные типы, в рамках которых человек мыслит конкретные области своего опыта. В каждом подобном типе (в каждом концепте) сведены воедино принципиально важные для человека знания о соответствующей части действительности и вместе с тем отброшено все то, что представляется человеку несущественным» [Берестнев 2002: 10]. Как отметила Е.С Кубрякова, концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они по зволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные выработанные обществом категории и классы [см.: Кубрякова 1996: 90].
Такое когнитивное расчленение реальности в итоге дает результаты, которые обеспечивают выход за пределы непосредственно воспринимаемого и позволяют хранить опыт в долговременной памяти человека [см.: Видинеев 1987: 154]. Более того, именно концепты представляют собой оперативные единицы человеческой ментальносте. Р.И. Павиленис объяснил это тем, что познавательная деятельность человека неизменно сопряжена с необходимостью выделения некоторых объектов через их отличие от других объектов, а их отождествление и различение означают нахождение границ между ними, или их определений. Для выполнения этой операции в познавательной сфере и служат концепты [см.: Павиленис 1983: 103].
Таким образом, в познавательном аспекте концепты определяются как особые признаковые комплексы в сознании человека, которыми он мыслит все то, что им познано в мире [см.: Берестнев 2002: 54]. Соответственно и в сущностном структурном аспекте конкретный концепт показывает себя как «полное (на данном этапе познания) отражение в сознании признаков и свойств некоторой категории объектов или явлений действительности» [Кобозева 2000: 47].
Отмеченная признаковая природа концептов позволяет понять и другие познавательные механизмы в человеческой психике. В частности, поскольку содержательную суть конкретного концептуального образования задает осуществляемый человеком выбор его главных содержательных характеристик, тех признаков, которые определяют его собственное содержание и вместе с тем отличают его от других концептов, постольку формирование концептов как таковых тесно связано с явлением категоризации, в результате которой определятся некий обобщенный образец предмета, явления, признака, процесса.
По наблюдению Е.С. Кубряковой, концептуализацию и категоризацию сближает то, что оба этих процесса в основе своей имеют познавательные процессы классификации. Вместе с тем они различаются в плане цели познавательной деятельности и конечного результата. «Концептуализация направлена на выделение неких минимальных единиц человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении, а категоризация - на объединение единиц, проявляющих в том или ином отношении сходство или характеризуемых как тождественные, в более крупные разряды» [Кубрякова 1996: 93].
Внимание современной когнитивной лингвистики к категоризации обусловлено исключительной познавательной важностью этого процесса. Как отмечает Е.С. Кубрякова, категоризация является главным способом придания воспринимаемому миру упорядоченного характера, систематизации наблюдаемого, определения в нем сходства одних явлений в противоположность различию в отношении других [Кубрякова 1997: 85]. По ее словам, «категоризация - в узком смысле подведение явления, объекта, процесса и т.п. под определенную рубрику опыта, категорию и признание его членом этой категории, но в более широком смысле - процесс образования и выделения самих категорий, членения внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристикам его функционирования и бытия, упорядоченное представление разнообразных явлений через сведение их к меньшему числу разрядов или объединений и т.п., а также - результат классификационной (таксономической) деятельности» [Кубрякова 1996: 42]. На сходных позициях в оценке познавательных функций категоризации стоят и многие другие следователи [ср., например: Кравченко 1996; Кретов 1992; Фрумкина 1991; Харитончик 1992; Lakoff 1987].
Классификационные категории человек выводит, опираясь на опыт познавательного освоения и анализа действительности. Эти категории вводятся затем в состав концептосферы, организующей все человеческое сознание, содержательно наполняя его и упорядочивая для человека, с одной стороны, действительность, а с другой - язык. Поэтому в соответствии с этими классификаторами в человеческом сознании объединяются и дифференцируются как предметы действительности, так и единицы языка [см.: Попова, Стернин 2002: 38].
Когнитивная значимость классификационных категорий предельно велика: они составляют базовый фактор организации мысли не только отдельного носителя языка, но и целого этноса - всей совокупности лиц, говорящих на данном языке. «Языковая категоризация мира, - пишут современные исследователи, - это уникальное для каждого этноса разрешение противоречия между дискретностью формы и континуальностью содержания языковых знаков через систему языковых категорий, как явных, так и скрытых, обусловленное «наивной» систематизацией вербализованного человеческого опыта» [Борискина, Кретов 2003: 6].
Языковые стратегии женщин и мужчин в традиционном лингво- культурном сознании
Негласные или оформленные в фольклорной традиции правила относительно вербального поведения мужчин и женщин, норм этикета, которым мужчины и женщины должны следовать в своей речи, существуют в любой культуре. При этом подобные правила часто отражают стереотипные представления о «мужском» и «женском» речевом поведении, которые вместе с тем выполняют и регулирующую функцию в обществе. И поскольку они составляют важный аспект традиционной культуры и закреплены в фольклоре, их стали называть «фольклорными» [Coates 1993].
Особенность этих правил составляет то, что в качестве эталонных они определяют мужские речевые стратегии. Эту ситуацию Дженифер Коутс охарактеризовала как «правило андроцентризма» [Coates 1993: 16]. Суть этого правила состоит в следующем: речевое поведение мужчины является в основном правильным и оценивается положительно, а речевое поведение женщины во многом составляет отклонение от этого правила и оценивается отрицательно. В итоге складывается ситуация, при которой «каким бы ни был вклад женщин в языковые изменения, он не расценивается положительно» [Talbot 1998: 36].
Важную роль в формировании этих представлений играла религия и собственно нормы поведения, вводимые в общественное сознание христианством. Само по себе введение подобных норм было обусловлено существовавшими в обществе преставлениями об исходной дефектности женского речевого поведения, которое, собственно, и нуждается в корректировке. В частности, считалось, что женщины много говорят. И хотя современные исследователи стремятся доказать обратное, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что красноречие и речевая свобода всегда считались достоинством мужчин, в то время как достоинством женщин, наоборот, считалась сдержанность в речах, к которой женщинам следует активно стремиться [Coates 1993: 35]. Все это привело к тому, что в самых разных культурных сообществах сложилась своего рода «патриархальная вселенная дискурса» (patriarchal universe of discourse) [Penelope 1990; Romaine 1999: 113]. В этой «все ленной» женщина занимала подчиненное положение, ее речевое поведении оценивалось отрицательно, а субъектом этой оценки выступали мужчины, определявшие как эталонные свой взгляд на мир и свои оценки его событий.
Такой взгляд на различие мужского и женского дискурсов закрепился в так называемой теории дефицитности, согласно которой женщины используют ресурсы языка неадекватным образом, являются более эмоциональными в отличие от мужчин, и поэтому их речь определяется как недостаточная относительно стандарта, определяемого относительно мужской речи. Другими словами, «язык, который используют мужчины, является, как подразумевается, нормой, которой женщины не соответствуют» [Talbot 1998: 131].
Эта теория получила весьма солидное обоснование в лице Отто Есперсена. Отдельную главу своей книги «Language: its nature, development and origin» он посвятил женской речи, используя данные самых разных языков и культур. По его мнению, женщина в своем речевом консерватизме способствует сохранению «чистоты» языка. «Нет сомнения в том, - писал он, - что женщины осуществляют большое и общее влияние на развитие языка своим инстинктивным отказом от грубых и вульгарных выражений и предпочтением изысканных и (в некоторых сферах) завуалированных и косвенных выражений» [Jespersen 1969: 246]. При этом «женский» язык, по мнению О. Есперсена, является пресным, скучным, полным банальностей, хотя и эмоционально насыщенным, в том время как язык мужчин этих банальностей лишен, наделен «жизненной силой» и «яркостью», и потому именно мужчины «становятся главными новаторами в языке» [Jespersen 1969: 246-247].
Своеобразное продолжение теории дефицитности составила теория доминирования, основанная на мысли о том, что женщины в их речевой практике традиционно подавляются мужчинами [см.: Romaine 1999; Talbot 1998; McArthur 1996: 840-843]. В культурологическом плане в этой связи было рассмотрено, например, воспроизведение патриархальных отношений в обществе в грамматической системе и словаре английского языка [см.: Schultz 1975; Miller, Swift 1977; Baron 1986; Mills 1991; Spender 1990].
Исследователи, работающие в рамках этого направления, показали, что доминирование мужчин в языке далеко не ограничивается область лексики, а проявляется также и в речевых практиках [см., например: Васильева 2004]. В частности, было показано, что в повседневном общении преимущественно женщины выполняют основную работу по поддержанию разговора со своими мужьями [см.: Fishman 1997; DeFrancisco 2000]. Однако именно эти установки женщин тракту ются мужчинами с сексистских позиций как их болтливость и критикуются или даже пресекаются.
Подобные исследования, осуществленные в рамках теорий дефициности и доминирования убедительно доказали, что речевые практики не одинаково выполняются мужчинами и женщинами. Речь мужчин традиционно оценивается как эталонная и по форме, и по содержанию. Речь женщин же рассматривается как отклонение от этого эталона. При этом эталонный характер «мужской» речи определяется в обществе с позиции самих мужчин, которые занимают в этих условия позицию наблюдателя.
Важно отметить, что данные выводы нашли и практическое применение в прикладной психологии - в тех ее направлениях, которые разрабатывают правила коммуникации в обществе. В этом плане было установлено, что речевые стратегии мужчин в коммуникации достаточно явно отличаются от речевых стратегий женщин. В частности, речевые и коммуникативные установки мужчин таковы [Пиз,Пиз 2007: 80-82]:
с мужчиной следует обсуждать в конкретном коммуникативном акте только одну тему; одновременное обсуждение сразу нескольких тем для них не характерно. При этом речь должна быть строго структурирована, высказываемые идеи должны быть оделены друг от друга;
психологически мужчина способен либо говорить, либо слушать; кроме того, он стремится высказываться до конца, выражать свои речевые интенции полностью. Эти качества делают высказывания мужчины относительно законченными и содержательно целостными;
мужчина выводит свою речь по преимуществу в рациональную плоскость; проявление эмоций со стороны собеседника вырастает для мужчины в коммуникативную проблему. И наоборот, отсутствие выражаемых собеседником эмоций, использование им мелких сигналов, свидетельствующих о том, что мужчину слушают внимательно (реплики «понимаю...», «да-да...» и т.п.), укрепляют коммуникацию, подталкивают мужчину к большей открытости и откровенности;
в коммуникации для мужчины важны факты и доказательства, в их свете он стремится определять проблему и пути ее решения, которые составляют его основную коммуникативную цель. Поэтому для мужской речи характерна логичность высказывания, также связанная с ее рациональностью;
Ключевые концепты, определяющие время, предшествующее браку
Важнейшую особенность концептуальной области «брачные отношения» в русском традиционном лингвокультурном сознании составляет ее тесная связь с другими концептосферами - такими как характеры мужчины и женщины, их тендерные роли в обществе. Это обусловлено тем, что, как отмечалось выше, характеры мужчины и женщины оценивается по преимуществу в контексте супружеских отношений друг к другу. Вместе с тем «муж» и жена» - это мужские и женские социальные роли, концептуальное содержание которых в значительной мере обусловлено культурными факторами.
И тендерные роли мужчины и женщины в обществе, и их нравственно-психологические характеристики в значительной мере определяются своеобразием первичных тендерных отношений - отношений в браке. Соответственно верным оказывается и обратное: тендерная специфика брачных отношений между мужчиной и женщиной в значительной мере раскрывается при учете своеобразия их тендерного характера и социальных ролей. Формально это проявляется в том, что одна и та же поговорка может быть связана сразу с тремя указанными содержательными областями. Вместе с тем, концептуально близкие поговорки у В.И. Даля оказываются помещенными в разные тематические группы.
Необходимо отметить также, что конкретные концепты, структурирующие на прагматических основаниях концептуальную область «брачные отношения», соответствуют структуре сценариев «женитьба» и «последующая семейная жизнь» в русской языковой ментальности и собственно последовательности событий и состояний человека в референтной сфере. В связи с этим аналитическое описание структуры указанных сценариев целесообразно представить в виде особого тезауруса, являющегося их своеобразной синхронной моделью. С учетом распределения основных фрагментов этих сценариев во времени и организован материал данного параграфа.
Ключевые концепты, определяющие время, предшествующее браку.
Данную концептуальную область характеризует то, что она большей частью принадлежит мужскому тендерному сознанию. Вместе с тем можно полагать, что представляющие ее поговорки сформулированы от имени всего сообщества и поэтому отражают «надгендерную» точку зрения на тот или иной обсуждаемый вопрос.
1. Таковы, например, поговорки, в которых концептуальную основу составляет общая мысль о тендерном одиночестве человека, оцениваемом, прежде всего, отрицательно. Можно допустить, что они выражают жизненные позиции как мужчин, так и женщин. Ср.: Одна головня и в поле гаснет, а две дымятся (курятся) (281); Своя себе семейка - свой простор (281).
В первом примере, метафорическом по своему характеру, в качестве области-источника для выражения «семейной» идеи используется образ горящей головни, и как представляется, это далеко не случайно. Дело в том, что в русском языковом сознании образ огня (высокой температуры) устойчиво связывается с эротической функцией человека и собственно с переживаемым им чувством любви. Определяющиеся в этой сфере концептуальные метафоры имеют ярко выраженный сис темный характер, что обнаруживает их глубинную когнитивную природу. Так, слова ярый горячий, похотливый , ярить разжигать похоть , ярость похоть (Олени в ярости рюхают), яровать — о животных, птицах быть в поре, течке, расходе, роститься, токовать (Даль IV: 679) родственны словам яркий и жар сильная степень тепла, присущая чему-л. нагретому или горящему, и излучаемая им (МАС). О связи значений высокой температуры и эротического чувства в русском языковом сознании говорит и название игры горелки, горелышки, имеющей эротический подтекст. В ней обыгрывается чувство любви к лицу противоположного пола. Ее участники встают парами, а оставшийся «горит» - ловит кого-либо из разбежавшихся в разные стороны игроков. При этом между «горящим» и другими участниками игры происходит такой диалог: - Горю, горю пень. - Чего горишь? - Девки хочу. - Какой? - Молодой и т.д. [Даль I: 384].
Значения высокой температуры и эротизма, любви способно выражать и слово пылать - быть охваченным каким-либо сильным чувством, страстью , также имеющее значение гореть ярким пламенем (МАС), ср.: пыл, пыло самый сильный, пламенный жар, полымя (Даль III: 547). Также здесь может быть указано слово кипеть быть охваченным каким-л. чувством, страстью, со страстью отдаваться чему-л. (МАС). Семантический признак «эротизм», имеющий потенциальный характер, в этом случае обнаруживает себя в исторической перспективе — этимологической связи этого слова с рус. Купала и лат. Cupido, наименований божеств любви и плодородия, восходящих к и.-е. kup- кипеть, вскипать, страстно желать [см.: Берестнев 2010: 66 — 68].
В то же время утрата любви именовалась словами, связанными с представлением о холоде, - ср.: рус. остужать делать противным, ненавистным , остуда охлаждение приязни, размолвка, разлад (Даль II: 708), холод полное равнодушие, безразличие, бесстрастное отношение к кому-, чему-л. (MAC), холодный не проявляющий интереса к чему-л., равнодушный, безразличный (MAC).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в поговорке Одна головня и в поле гаснет, а две дымятся (курятся) дополнительно выражаются если не прямо эротические подтексты, то связанные с представлением о жизни, жизнедеятельности, активного взаимодействия с лицом противоположного пола.
При этом заслуживает внимания функциональная семантика предложно-падежной конструкции в поле. Часто в русской традиционной культуре слово поле используется как метафора неограниченной свободы, воли (о концепте воли см. [Булыгина, Шмелев 1997: 485 - 487]). Во всяком случае, эти два концепта четко коррелируют в русском лингвокультурном сознании — ср.: Чье поле, того и воля; В чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть инаково; Ваша воля, а наше поле: биться не хотим, а поля не отдадим! (Даль III: 257).
Исходя из всего этого можно истолковать значение данной поговорки следующим образом: даже если человек свободен, но одинок, жизненность в нем угасает; но если рядом с ним есть лицо противоположного пола, эта жизненность поддерживается.
Определенную смысловую близость данной поговорке обнаруживает второй пример: Своя себе семейка - свой простор. Положение слова простор в предикатной позиции по отношению к слову семейка показывает, что в данном контексте концепт «семья», в качестве основного, имеет признак «простор». Иными словами, семья в данной поговорке - это определенного рода воля, не ограниченность, а новые возможности для активной жизнедеятельности человека - новое пространство его бытия.